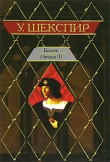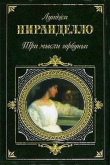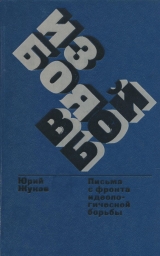
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 45 страниц)
Рассуждения о том, будто подобные зрелища представляют собой сатиру на буржуазное общество и носят революционный характер, лицемерны и полностью несостоятельны. Те, кто их устраивает и пропагандирует, плюют в человеческую душу, одурманивают и отравляют сознание людей, развращая их и отвлекая от подлинно острых социальных проблем современности.
Именно поэтому в США, да и в других капиталистических странах проявляется столь терпимое отношение к этой поразительной эскалации «вседозволенности», которая давно уже превзошла все мыслимые и немыслимые лимиты, допускаемые самыми элементарными нормами заботы о сохранении нравственных устоев.
И вот что любопытно: уставшая от этой «вседозволенности» Америка начинает мало – помалу охладевать к скандальным зрелищам, на которых еще вчера продюсеры зарабатывали бешеные деньги. Озираясь по сторонам своими опухшими от нервного напряжения и бессоницы очами, она ищет чего‑то нового, что вселило бы в ее смятенную и взбудорая<енную душу благостное успокоение.
Вот тут‑то и явился тот феномен, о котором лишь вскользь упомянул нью – йоркский корреспондент парижской газеты «Фигаро» Лео Соваж, – поистине безумный успех новой «рок – оперы» «Иисус Христос – супер – звезда», которая буквально взорвалась, словно атомная бомба, на Бродвее в сезоне 1971/72 года. Этот невероятный успех постановки, воспроизводящей в ультрасовременной манере историю страстей господних, отражает весьма интересное и заслуживающее внимания социальное явление в жизни сегодняшней Америки.
Трагедия широких масс американской молодежи заключается в том, что прогрессивные идеи общественного развития до сих пор остаются для нее тайной за семью печатями. Они имеют весьма отдаленное и чаще всего совершенно извращенное представление об учении Маркса, о ленинизме, о теории и практике социалистического строительства – злокозненная реакционная пропаганда, действующая настойчиво, с размахом, нагло, на протяжении десятилетий, делает свое дело. Но сама окружающая действительность, изобличающая пресловутый «американский образ жизни», вселяет в молодые души отвращение к существующим порядкам, заставляет их бунтовать.
На этом стихийном движении протеста стремятся погреть руки многие лжепророки, начиная с фашиствующих «ангелов смерти» и кончая леваками всех мастей – от троцкистов до маоистов. Широкое распространение в шестидесятые годы получил своеобразный американский нигилизм, проповедники которого звали молодежь отречься от цивилизации, вернуться к состоянию дикости, которое-де возвращает человеку утерянную им тотальную свободу. Главным злом объявлялся технический и научный прогресс, а лекарством от всех бед – отказ от элементарных норм человеческой морали, разрушение семьи и полная «сексуальная свобода», свобода употребления наркотиков. Многие горячие головы в поисках нового, спасительного образа жизни обратились к буддизму, к философии Зен, к культу индуистского бога Кришны. Многие даже устремились в Индию и Непал в надежде обрести там душевное спокойствие. Их встретили там с недоумением и даже враждебностью: людям, ведущим трудную и напряженную борьбу за преодоление отсталости, вызванной вековым колониальным гнетом, невозможно было понять этих молодых людей, рассматривавших отсталость как благо…
Но вот уже во второй половине шестидесятых годов стали появляться признаки того, что и это тяготение к вселенскому опрощению и нарочитое стремление одичать вызывают у значительной части американской молодежи разочарование и усталость. Тут‑то и сказали свое «новое слово» проповедники христианской морали, которых еще недавно с такой убийственной иронией осмеивали и отвергали молодые американцы. Они терпеливо ждали своего часа, чтобы перейти в контратаки, и, похоже на то, дождались его.
О, конечно, современные попы достаточно умны, чтобы мечтать о банальной реставрации старых приемов идеологического воздействия. Они влезают в душу молодежи, используя вполне современные приемы: своего господа бога Иисуса Христа преподносят молодежи уже не как божество, а как «своего в доску» парня, ровесника и единомышленника нынешних бунтарей. Я уже рассказывал однажды, как в 1969 году в Сан – Франциско меня по разила такая деталь: в «исихеделическом магазине» для хиппи продавали плакаты с изображением Христа и таким сопроводительным текстом, составленным на манер полицейского розыскного объявления:
«Иисус Христос. Разыскивается за подрывную деятельность, призыв к мятежу и заговору с целью свержения законного правительства. Одет бедно. Утверждает, что он сын плотника. Физически истощен. Исповедует бредовые идеи: думает, что он еврей, уверяет, что является борцом за мир, сыном человека, светочем мира и т. и. Профессиональный агитатор. Особые приметы: рыжая бородка, на руках и на ногах – следы ранений, нанесенных рассерженной толпой, которую возглавляли уважаемые граждане и законные власти».
Тогда еще я не знал, что в Калифорнии уже оформилось и активно действует новое движение «Христовы революционеры» (на американском жаргоне их зовут также «Христовы чудаки»). Оно уже располагало двумя газетами– «Голливуд фри пейпер» и «Прямо!» – общим тиражом свыше ста тысяч экземпляров. С чисто американским размахом индустрия и торговля переключились с производства и продажи аксессуаров хиппи на «христовы» аксессуары. На смену значкам «Да здравствует марихуана!» и «Снимай штаны!» шли значки «Иисус вас любит!», «Христос – первый в мире хиппи!» и «Хвалите бога и будете благословенны!». В продажу поступали блузы и рубахи с отпечатанными па груди и на спине изображениями Иисуса Христа и символического знака нового движения: сжатый кулак с оттопыренным указательным пальцем.
Как всегда, новое течение быстро затронуло и область искусства. В 1970 году в Нью – Йорке вдруг пошла пьеса «Godspell», посвященная жизни Иисуса Христа (название построено на игре слов: gospel значит «евангелие», god– «бог», spell– «заклинание», «чары», «обаяние»; говорят, что на древнем английском языке словосочетание god spell означало также «добрая весть». По – русски, пожалуй, это название можно перевести как «божьи чары»). Пьесу сочинил двадцатилетний выпускник школы драматического искусства в Питтсбурге Джон Майкл Тебелак. Поставить эту пьесу Тебелаку помогла восемнадцатилетняя студентка этой же школы Нина Фазо. Пьеса сначала была показана в известном «авангардист ском» театрике «Мамма» в Грипвич – вилледж, но вскоре он перекочевал оттуда на Бродвей. Успех был необычайный. Тебелак и Фазо тут же решили превратить свою пьесу в музыкальную комедию. Сказано – сделано. Композитора нашли быстро: музыку взялся написать выпускник той же питтсбургской школы Стефан Шварц. В мае 1971 года на Бродвее состоялась премьера этой музыкальной комедии. И опять это был сенсационный успех.
На открытии культурного центра имени Джона Кеннеди в Вашингтоне была исполнена «Месса» Леонарда Бернстайна – известного американского композитора, автора музыки к «Вестсайдской истории».
Крупнейшей театральной сенсацией 1971 года, как я уже сказал, была премьера «Иисус Христос – суперзвезда». А история этой «рок – оперы» началась как будто с малого: в июле 1961 года, в самом начале развития движения «Христовых революционеров», двое предприимчивых англичан – юный композитор Эндрю Ллойд Уэбер, которому едва исполнился двадцать один год, и двадцатичетырехлетний поэт Тим Райс – сочинили песенку «Супер – звезда» о славном малом Иисусе Христе, бунтаре, друге проституток и грешников. Их ждал большой успех: пластинка с записью этой песенки быстро разошлась тиражом в миллион экземпляров.
Ободренные таким результатом, Уэбер и Райс засели писать «рок – оперу» на эту же тему. Фирма «Декка» тут же выпустила ее в виде альбома пластинок общим звучанием на восемьдесят семь минут. Этот альбом пользовался еще более феноменальным успехом: он разошелся тиражом в три с половиной миллиона экземпляров.
Тут насторожился ловкий тридцатисемилетний продюсер австралийского происхождения Роберт Стигвуд, наживший незадолго до этого состояние на постановке в Лондоне спектаклей «Волосы», «Ох, Калькутта!» и «Самый грязный спектакль в городе». Он понял, что Уэбер и Райс, что называется, «попали в струю» и надо ковать железо, то бишь доллары, пока горячо. И тут же приобрел право на постановку «Иисус Христос – супер – звез-да» в концертном исполнении: на большее он пока не решился, не зная, как отреагирует на эту затею церковь.
Первый показ этой «рок – онеры» состоялся в Питтс бурге в июле 1971 года. Чутье не подвело Стигвуда: публика валила на концерт валом, ее было отпюдь не меньше, чем на спектакле «Ох, Калькутта!». Были побиты все рекорды кассовых сборов, хотя это был период забастовки газет, длившейся одиннадцать недель, и использовать прессу для рекламы было невозможно.
Этот успех воодушевил Стигвуда – он быстро сформировал еще несколько трупп, в том числе одну из самых юных актеров для обслуживания зрителей в колледжах, и они начали колесить по всей Америке, собирая обильный долларовый урожай.
Стигвуд ревностно охранял свою новую собственность от покушений других импресарио. Французский еженедельник «Нувель обсерватэр» 17 января 1972 года сообщил такую пикантную подробность: раздобыв где‑то текст и ноты «Иисуса Христа – супер – звезды», предприимчивые австралийские монахини решили было поставить этот спектакль на пятом континенте, не выплачивая дань Стигвуду. Не тут‑то было! Он вскричал: «Что они там думают? Что Иисус принадлежит им? Разве они никогда не слышали, что это за штука – авторские права?» И на замысел австралийских монахинь было наложено вето!
Тем временем на Бродвее премьеру новой «рок – оперы» готовил сам Том О’Хорган, первый постановщик «Волос», теперь уже признанный мастер по части «самых-самых» сенсационных спектаклей. Он облюбовал театр «Марк Хиллингер», имеющий около тысячи шестисот мест, и нанял сорок актеров и тридцать пять музыкантов. Было объявлено, что в постановку вкладывается семьсот тысяч долларов и что поэтому стоимость билета составит пятнадцать долларов. Цена не смутила любителей сенсаций: уже ко дню премьеры билеты были распроданы на несколько месяцев вперед, и была выручена кругленькая сумма в один миллион двести тысяч долларов. На черном рынке билеты перепродавались уже по тридцать – сорок долларов.
Одновременно авторские права на постановку «рок-оперы» «Иисус Христос – супер – звезда» были проданы виднейшим продюсерам ФРГ, Франции, Италии, Бразилии, Израиля, Испании, Голландии, Мексики, Австралии и многих других стран. Кинорежиссер Норман Джексон, который недавно поставил пользующийся огромным успехом музыкальный боевик «Скрипач на крыше», объявил. что летом 1972 года он начнет в Иерусалиме съемки кинематографического варианта «рок – оперы».
Что же обеспечило этой «рок – опере» такой феноменальный успех? Прежде всего лихость и беспардонная развязность в обращении с традиционным религиозным сюжетом, свойственная нынешней атмосфере театральной «вседозволенности». Уже с первых минут представления зритель соображает, что он попал отнюдь не на церковную церемонию: молодой веселый блондин Иисус, роль которого играет двадцатилетний певец и танцор Джефф Фенхолт, выпрыгивает, как черт из баночки, из огромной чаши для причастия. Его окружает балет грешников, а Иуда, в роли которого выступает негр (!), указывая на Христа, поет арию, являющуюся лейтмотивом «рок – оперы»: «Это человек, всего лишь человек, это не король, он такой же, как все, кого я знаю». А грешница Магдалина делится с публикой своими сомнениями: «Сама не понимаю, почему я его так люблю. Ведь это обыкновенный мужчина, а у меня их было так много».
Из евангельского текста для показа в театре тщательно отобраны и соответствующим образом препарированы самые выигрышные в зрелищном отношении сцены: исцеление прокаженных, мелодраматические сцены с Марией Магдалиной, тайная вечеря, предательство Иуды, моление о чаше в Гефсиманском саду, отречение апостола Петра, бичевание, сцены с Понтием Пилатом и Иродом. Все это – осовременено. Ирод, например, лихо пляшет чарльстон.
Но при всем том сочинители и постановщики этой «рок-оперы» ухитряются сочетать нарочитую приземлен-ность сюжета с уважительным отношением к основам христианской философии, и в конечном счете Ипсус Христос оставляет у зрителя ощущение большой моральной силы и пробуждает желание поближе приобщиться к его учению. И хотя в постановке О’Хоргана очень много безвкусицы, вульгарности и даже порнографии, хотя тайная вечеря изображена на сцене как развеселая вечеринка бродяг, Понтий Пилат входит на сцену через дверь, которая помещается в зубах у Юлия Цезаря – его огромный портрет выставлен на сцене, – фарисеи спускаются по лестнице, которая является копией скелета динозавра, на Голгофу Иисус Христос поднимается, как положено «супер – звезде» мюзик – холла – в раззолоченной мантии с де сятиметровым шлейфом, – дальновидный итальянский иезуит отец Брунетта вынес об этой «рок – опере» такое благожелательное заключение: «Коммерческий успех «Иисуса Христа – супер – звезды» совпадает с мистическим обновлением, охватившим американскую молодежь после того, как в Калифорнии четыре года тому назад началась «революция Иисуса», – заявил он. – Новая мистика «супер – звезды» смыкается с языческим взрывом «Волос» в поисках обетованной земли. Молодые американцы видят в евангельском Христе бунтаря. В их представлении Христос– некто между Че Геварой и индийским пророком Гуру, и он их очаровывает. Опера будит у зрителей надежду на чудо…»
Даже официальный Ватикан, обычно весьма осторожный и щепетильный в канонических вопросах, не счел целесообразным поддержать протест некоторых американских ортодоксальных католических организаций, которые увидели в «рок – опере» Уэбера и Райса профанацию Священного писания. Больше того, радио Ватикана передало по своим святым волнам эфира ее музыкальную запись. Блюстителей христианской морали не смутило ни то обстоятельство, что текст этой «рок – оперы» весьма далек от писания святого Матфея, ни то, что музыка ее не имеет ничего общего с религиозными песнопениями.
И не случайно вскоре после этого англиканская церковь, идя по стопам католического Ватикана, проявила такую же широту воззрений: настоятель собора святого Павла в Лондоне пригласил для участия в литургии труппу, играющую в английской столице пьесу «Волосы», и их номера чередовались со священными песнопениями, а иногда и соединялись. Газеты писали, что верующие были потрясены, когда, например, ударник – виртуоз из труппы «Волосы» выступал в дуэте с органистом собора – даже святые отцы в облачении дружно отбивали ритм своими башмаками. А кончилось все тем, что «язычники» труппы были приобщены к святому причастию…
Вслед за постановками «Волосы», «Ох, Калькутта!», «Самое грязное представление в городе» и «Свииья» спектакли, посвященные Иисусу Христу, пересекли океан и начали победоносное наступление на сцены Европы. Первыми в Старом Свете высадились постановщики «God-spell» – Нина Фазо, Майкл Тебелаки Стефан Шварц. За падноевропейские продюсеры, предвкушая сенсационный успех, встретили их с распростертыми объятиями.
Уже в сентябре премьера «Godspell» состоялась в Лондоне. Вскоре постановщики прибыли в Париж. Здесь их тепло приняла некая Анни Фарг, которая уже нажила кругленькое состояние на показе пьес «Волосы» и «Ох, Калькутта!». Она освободила для премьеры «Божьих чар» помещение театра «Порт – Сен – Мартен», где три года подряд беспрерывно шли «Волосы», отправив исполнявшую эту пьесу труппу в турне по провинции, быстро собрала новую труппу, и Фазо, Тебелак и Шварц немедленно начали репетиции, имея в виду провести премьеру как можно быстрее – она состоялась уже в январе 1972 года.
Я побывал на одном из первых представлений этой пьесы. Должен сказать, что этот «пересказ Евангелия в манере комедии дель арте [63]63
Комедия дель арте – комедия масок, возникшая в XVI веке в Италии. Спектакли комедии дель арте создавались методом импровизационной игры.
[Закрыть], но на современном языке», как выразился критик «Журналь дю диманш», заслуживает пристального внимания. Авторы и постановщики «Божьих чар» вносят весомый вклад в борьбу реакционных сил за души молодежи. Впрочем, сам автор пьесы Тебелак высказался на сей счет достаточно откровенно.
Сообщив, что еще в 1969 году на него произвела большое впечатление книга одного профессора теологии из Гарварда о святом Матфее, он заявил, что уже тогда решил написать диссертацию об этом евангелисте, а потом решил превратить ее в пьесу и, наконец, в музыкальную комедию. Почему же он избрал жанр музыкальной комедии, который, казалось бы, меньше всего подходит для пропаганды «божьего слова»? На этот вопрос Тебелак отвечает так:
«В эпоху, когда человек испытывает неудовлетворенность религией, которая в современном мире не в состоянии поддерживать в нем веру, я хочу показать то чувство радости от верования, какое люди испытывали в то время, когда жил Иисус Христос. «Божьи чары» – это своего рода руководство к действию, позволяющее выдержать злоключения жизни».
Пьеса рассчитана на молодежь, которая не верит ни в бога, ни в черта, которая не хочет мириться с этими «злоключениями жизни» и бунтует против них, ищет чего – то нового. И вот ей в весьма искусной и доходчивой форме подбрасывается идейка о том, что лучшим из лучших революционеров, благороднейшим из благороднейших деятелей был не кто иной, как Иисус Христос. Авторы пьесы не хотят нарушать атеистический строй мыслей молодежи; в конце концов, дают они понять, не столь уж важно, был ли Иисус Христос богом, может быть, это был пророк, профессиональный агитатор – организатор революционной борьбы. Важна сама по себе его философия: она именно то, что нужно человеку, неудовлетворенному своей судьбой. Хотите верьте, хотите не верьте святому Матфею, рассказывающему о чудесах, которые якобы творил Христос; хотите верьте, хотите не верьте в воскрешение его и вознесение на небо. Поглядите этот веселый спектакль, а потом решайте сами, как вам жпть дальше…
И вот перед нами сцена театра, на которой нет ничего лишнего – одна лишь решетчатая загородка из проволоки, ограничивающая с трех сторон площадку для игры, освещенную десятками прожекторов. Над нею – помост, где разместился мощный оркестр, изобилующий ударными инструментами и электрическими гитарами. Там же фисгармония, без которой, естественно, не обойтись, когда речь идет о божественной комедии.
На арену буквально врываются десять веселых артистов – пять парней и пять девушек; их возраст – от восемнадцати до двадцати восьми лет. Темп и ритм спектакля, его лихих танцев, песен, прыжков, кувырканий столь бурны, что актеры постарше не выдержали бы такого напряжения. Длинноволосые, одетые в отрепья герои «Божьих чар» – ни дать, ни взять современные хиппи, и молодой зритель сразу же настраивается на доверительный лад – он в хорошо знакомой среде, да и громовая музыка, способная, кажется, разбудить мертвого, его вполне устраивает: он к ней привык.
Артисты, исполняющие роли в «Божьих чарах», весьма далеки от религии. Выступающий в роли Христа Бернар Калле из Алжира, по его словам, никогда не был в церкви; Грегори Кэн, играющий две роли – Иоанна Крестителя и Иуды, резюмировал свою философию таким образом: «Можно любить и предавать одновременно»; роль Марии Магдалины исполняет турчанка Армада Алтай; в роли Марфы выступает японка Казуко Нншнкава и т. д.
Все начинается с веселых проказ; похоже, будто сту денты или лицеисты старших классов, высыпав после уроков во двор, чтобы поразмяться, «ломают комедию», пародируя Евангелие. Вот появляется Иоанн Креститель в ярком полосатом рединготе с прикрепленными к нему пышными генеральскими эполетами; в руках у него пластмассовое ведро с водой и губка, которой он трет всех направо и налево. Вприпрыжку вбегает Христос в крохотных красных трусиках; на лбу у него, как у истового хиппи, нарисовано алое сердечко.
– Ну что, окрестить и тебя? – спрашивает Иоанн Креститель.
– Валяй! – отвечает Христос. – Я давно уже не мылся…
И Иоанн Креститель сосредоточенно мылит ему спину.
Все пляшут, поют, обнимаются, парни тискают девушек. Мария Магдалина весело танцует, играя с каким‑то немыслимым розовым боа из перьев. Одна за другой разыгрываются сценки, иллюстрирующие евангелие. Молодому зрителю все еще кажется, что это привычные ему чудачества его веселых ровесников. Но постепенно, сам того не замечая, он втягивается в какой‑то новый для него мир понятий и образов, который начинает его волновать уже всерьез.
Умело дозируя театральные эффекты, авторы и постановщики пьесы дают сменяющим друг друга эпизодам все более и более серьезную нагрузку. Зритель и не замечает, что от веселой и зачастую циничной пародии актеры постепенно переходят к прямому цитированию евангельского текста. История о добром самаритянине; сцена воскрешения Лазаря; показ возвращения блудного сына; евангельские прописи о том, что не следует замечать соломинку в глазу своего ближнего, ибо в твоем собственном глазу – бревно; наставление о том, что не следует осуждать грешницу – «кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень»; назидательный совет– «если тебя ударят в левую щеку, подставь и правую», – сыгранные в энергичном темпе, доходчиво и убежденно, эти и многие другие сценки оставляют в душе зрителя свой след. А чтобы внимание его к спектаклю не ослабевало, ему преподносят все новые и новые песенки и танцы, иллюстрирующие евангельский текст.
Первое отделение заканчивается сценкой, изображающей чудо в Кане Галилейской, когда Иисус Христос ухит ряется накормить и напоить тысячи людей пятью хлебцами и вином, в которое он превращает воду. Участники спектакля разливают в бумажные стаканчики самое настоящее вино, сбегают со сцены в зал и угощают зрителей. Потом они зовут зрителей на сцену, где стоят иаго-тове бутылки с вином. Объявляется перерыв. Сцена заполнена толпой зрителей, которые угощаются вместе с артистами. Те их расспрашивают о впечатлениях от первой части спектакля, ведут себя с ними запанибрата, как положено между ровесниками.
И вот уже начинается вторая часть спектакля. Она более драматична и напряженна – наступает страстная неделя. По – прежнему гремит оркестр, по – прежнему пляшет Иисус Христос, окруженный своими учениками. Но в воздухе уже как бы разлито ощущение надвигающейся беды. Христос предчувствует муки, которые ему придется перенести. Из лихого беззаботного парня, который запросто творит чудеса, он превращается в мудрого философа.
Теперь речь идет уже о высоких материях – о верности и предательстве, о силе терпения и значении веры в грядущее царство небесное, где человек будет вознагражден за все свои мучения на грешной земле. Перед нами знаменитая тайная вечеря, когда Иисус Христос ужинает со своими апостолами и вдруг говорит, что скоро один из них предаст его. «Ты намекаешь на меня?» – запальчиво спрашивает Иуда. «Ты это сам сказал», – отвечает Иисус, и Иуда, сорвавшись с места, опрометью бежит через весь зал и хлопает дверью.
Потом – ночное моление о чаше в Гефсиманском саду, обида Иисуса на учеников, которые тем временем дружно храпят, улегшись вповалку; разговор с Петром, которому Иисус предсказывает, что он трижды отречется от него, пока пропоет петух. И вот уже снова появляется Иуда. Он просит прощения у Иисуса, и тот целует его, отпуская ему его грех. Тогда повеселевший Иуда свистит в полицейский свисток, стража набрасывается на пророка, и его волокут на Голгофу и распинают на кресте – Иисус Христос приносит себя в жертву, искупая грехи человеческие.
Теперь в зале уже не до смеха. Все притихли. С волнением следят, как драматически развертываются события на сцене. Распятый Иисус Христос, раскинув руки, обвязанные красными ленточками, символизирующими кровь,
поет свою последнюю арпю, а все остальные участники спектакля, изображая неизбывное горе и тоску, с размаху бросаются на проволочную загородку, карабкаются по ней вверх, срываются и снова лезут вверх и снова надают…
Предпоследняя сцена: ученики снимают мертвого Христа с креста и медленно несут через весь зал со звучащей мощно и драматично песнью «Да здравствует бог!». Молодой зритель, который шел в театр, чтобы позабавиться, потрясен. В зале мертвая тишина. И чувствуется, что спектакль произвел на молодежь немалое впечатление.
А в самом конце опять веселая, бодрая нота: Христос воскрес, вместе со своими лихими апостолами он бежит вприпрыжку через весь зал на сцену, и там начинается такой бойкий современный пляс, что хоть святых выноси. Зрители отбивают ладошами такт. Потом актеры зовут их па сцену, л добрых пятнадцать – двадцать минут публика, смешавшись с артистами, отплясывает современные танцы.
Мне остается добавить, что на премьеру этой музыкальной комедии были приглашены священнослужители католической церкви во главе с самим кардиналом парижским Даниэлу. Их этот спектакль вполне удовлетворил.
– Быть может, это и не в нашем стиле, – сказал один из них корреспонденту «Фигаро», – но я считаю, что спектакль окажет хорошее влияние на молодежь. Во всяком случае я могу отметить, что авторы бережно отнеслись к евангельскому тексту, который не был ими ни извращен, ни приукрашен.
А кардинал Даниэлу, который, кстати сказать, во время перерыва после сцены, посвященной чуду в Кане Галилейской, вместе со всеми зрителями поднялся на сцену и отведал вина, – его угостил актер, игравший роль Христа, – заявил:
– Вы все очень хорошие артисты. В вашем исполнении евангельский текст обрел всю свою свежесть…
Таким образом, «Божьи чары», получив благословение отцов церкви и похвальные отзывы прессы, начали свою жизнь на сцене театра «Порт – Сен – Мартен». А предприимчивая деловая женщина Анни Фарг, импортировавшая эту музыкальную комедию в Париж, поспешила нацелиться на вторую американскую постановку об Иисусе Христе – на «рок – оперу» «Иисус Христос – супер – звезда». Прослушав запись этой «рок – оперы» на пластинках, она тут же позвонила по телефону в Нью – Йорк и заявила, что желает приобрести авторские права на постановку ее во Франции. Ей ответили, что «Иисусом Христом – суперзвездой» уже заинтересовался другой видный продюсер и что завтра он прибывает для переговоров.
Упустить такой выгодный бизнес? Ни за что! И предприимчивая Анни Фарг тут же, даже не собрав вещей в дорогу, помчалась в аэропорт Орли и первым же самолетом вылетела в Нью – Йорк. Опередив конкурента, она, не торгуясь, совершила сделку и стала владелицей «Иисуса Христа – супер – звезды» во Франции. Больше того, она договорилась, что режиссером будет Роберт Стигвуд, а его помощником – сам Тим Райс. Денег, заработанных на спектаклях «Волосы» и «Ох, Калькутта!», хватило на все это.
Для того чтобы на «рок – опере» заработать еще больший капитал, нужно было, однако, еще что‑то весьма сенсационное. И Анни Фарг придумала грандиозный ход:
30 декабря 1971 года я не без удивления прочел в газете «Монд», что этой ловкой даме удалось арендовать для показа «Иисуса Христа – супер – звезды» зал ТНП! Из‑за финансовых трудностей этот весьма уважаемый Национальный народный театр был вынужден «укоротить» свой театральный год – оборвать его 31 марта. И вот 1 апреля огромный зал дворца Шайо, который уже много лет является родным домом ТНП и считается наиболее респектабельным в Париже, перешел в распоряжение Анни Фарг, и уже 17 апреля там состоялась премьера «рок – оперы» «Иисус Христос – супер – звезда» [64]64
К большому разочарованию Анни Фарг, парижская пресса встретила эту премьеру в штыки. Если «Божьи чары» пользовались У критиков успехом, то «Иисус Христос – супер – звезда» был принят ими чрезвычайно холодно.
[Закрыть].
Одновременно эта «рок – опера» совершает победоносное шествие по другим странам Европы.
Вот как оборачивается иной раз эскалация «вседозволенности», получившая столь широкое распространение на Западе в наши дни!..
Ну, а как эта эскалация отразилась на собственно французском театре? Что нового внесла она на подмостки Парижа, артистическая среда которого всегда столь чувствительна ко всему новому?
В 70–е годы французский театр, и прежде всего театр Парижа, вступил в пору расцвета своих сил. Он по праву занимал ведущее место в искусстве Запада. Сезон 1970/ 71 года, по общему признанию критиков, был удачным. «Я видел в этом сезоне сто двадцать пьес, из них запомнились сорок», – писал, подводя итоги этого сезона, в газете «Франс – суар» известный критик Пьер Маркабрю. Среди запомнившихся спектаклей он назвал самые разные: постановки по пьесам Мольера и Шекспира, Лабиша и Широду, Ануя и Брехта, Булгакова и Стриндберга, Саган и Соважона. Немало интересного принес и сезон 1971/72 года. Веспой, летом и осенью 1971 года мне довелось самому посмотреть в Париже несколько действительно интересных спектаклей.
В то же время, как это всегда бывает, случалось и немало провалов и неудач, а некоторые труппы просто обанкротились, и даже театральные здания, которыми они пользовались, были проданы на слом. Что поделаешь, такова жизнь в безжалостном театральном мире Запада: там, где преуспевает один, терпит крушение другой. И хотя начало семидесятых годов ознаменовалось исчезновением с горизонта целого ряда театральных коллективов, причем реальная угроза банкротства – не только финансового, но и творческого – нависла даже над некогда великолепным ТНП – Национальным народным театром, созданным покойным Жаном Виларом, театральное искусство Франции все еще живет кипучей, полнокровной жизнью.
Каждый вечер перед парижанами открывается широчайший выбор – два оперных театра, «Гранд – опера» и «Опера комик» [65]65
Театр «Опера – комик» в 1972 году закрылся – опять‑таки из‑за финансовых трудностей.
[Закрыть], в ноябре 1971 года давали еженедельно четыре оперных и четыре балетных представления; в драматических и комедийных театрах шли тридцать пять комедий, пятнадцать драматических спектаклей и четыре музыкальных комедии; театры пригородов, которые в последние годы стали наиболее интересными, поистине авангардными в лучшем смысле этого слова, центрами театрального искусства, предлагали вниманию зрителя еще двадцать современных пьес; любители легкого жанра могли воспользоваться услугами десяти мюзик – холлов; успешно работали три театра миниатюр, десять детских театров и два кукольных. Наконец, большим и все возрастающим успехом пользовались и кафе – театры, где парижанин, заказав чашку кофе или бутылку пива, может посмотреть выступления актеров.
Классический французский театр «Комеди Франсэз», которым сейчас руководит Пьер Дюкс, в сезопе 1971/72 года, как обычно, предлагал зрителям отлично поставленные и сыгранные комедии и драмы Мольера, Корнеля, Шекспира, Мариво, а вместе с ними и современные пьесы Ануя, Одиберти, Ионеско. Этот театр, как всегда, пользовался вниманием зрителя: в сезоне 1969/70 годов в «Комеди Франсэз» побывало около миллиона человек, в сезопе 1970/71 года – около пятисот тысяч. Нынешней зимой зал театра по – прежнему заполнялся в среднем на семьдесят процентов, что для Парижа является высокой нормой.