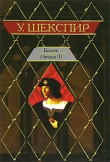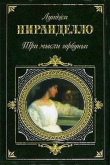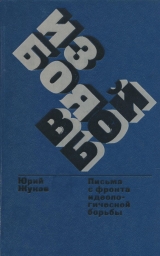
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)
Как нетрудно догадаться, Витторио Де Сика был немедленно обвинен в страшном «грехе»: итальянская реакционная пресса заявила, что он «контрабандой протаскивает на экран «голубя Пикассо», символизирующего борьбу за мир». То же обвинение поспешила предъявить Витторио Де Сика французская реакционная газета «Орор». Но все это не помешало творческим работникам кино, участвующим в фестивале, оказать его фильму триумфальную встречу. Показ «Чуда в Милане», по признанию всей французской прессы, вылился в крупнейшее событие фестиваля.
Значительный интерес представляла собой попытка известного испанского режиссера Луи Бюнюэля показать трагедию погибающих в нищете безнадзорных детей Мексики. Бюнюэль когда‑то был одним из основоположников так называемой школы киноавангарда, стремившейся порвать с рутиной и стандартом и найти новые творческие пути. К сожалению, многие работники этой школы, в том числе и сам Бюнюэль, зашли в тупик фор мализма. Незадолго до гражданской войны в Испании Бюнюэль снял, однако, замечательный реалистический документальный фильм «Земля без хлеба», изобличавший ужасы нищеты ограбленной помещиками испанской деревни. Потом была война, эмиграция. Бюнюэль обосновался в Мексике, начал снимать свои фильмы там. И вот теперь на кинофестивале его новый фильм, снятый им в 1950 году в содружестве с замечательным мексиканским кинооператором Фигероа, – «Забытые».
«Это мог бы быть замечательный фильм, – сказал мне В. Пудовкин. – Автор его, бесспорно, крупный художник, и материал, к которому он обращается, оживает у него в руках. Материал взят из жизни, это видишь сразу. Его обличающая сила велика. К сожалению, Бюнюэль теряет чувство меры, когда он начинает показывать страшный мир преступности, в который погружаются безнадзорные, нищие мексиканские дети. Тут реализм у него уступает место низменному натурализму. На экране одна за другой проходят сцены убийства, насилия, избиений. Это типичный пример того, как яд голливудских стандартов медленно отравляет даже одаренных киноработников Запада.
12 апреля в Канне состоялось творческое собеседование кинорежиссеров и журналистов СССР, Франции, Италии, Англии, Аргентины и Уругвая. Председательствовал Витторио Де Сика. С большим вниманием было выслушано выступление В. Пудовкина, развернувшего перед слушателями широкую картину творческой деятельности мастеров советского кино, поставивших свое искусство на службу созидательному труду народа и делу мира во всем мире.
Две недели длился этот международный показ киноискусства, в ходе которого повседневно сталкивались две школы кинематографии, противостоящие друг другу: социалистическая школа, верная законам правды жизни, которые так хорошо формулировал и отстаивал здесь один из лучших ее представителей – Всеволод Пудовкин, и голливудская школа, душащая кинематографию Запада своими бесчеловечными стандартами.
Счет этого творческого соревнования был явно не в пользу американского кино. Но Каннская киноярмарка перестала бы быть ярмаркой, если бы ее хозяева позволили восторжествовать здравому смыслу. Железный ме ханизм закулисной политической машины сработал, как ему положено, и провозглашенные жюри результаты фестиваля оказались в полном противоречии с реальностью.
Как я уже упомянул, на долю фильма «Мусоргский», столь благоприятно встреченного участниками фестиваля и критикой, досталась лишь премия за декорации. К этому добавился лишь «специальный» приз за документальные фильмы.
Две премии были отданы американцам, хотя, как единодушно отмечала французская пресса, ни один из голливудских фильмов не давал оснований для высокой оценки. Три премии пришлись на долю англичан, причем за получением их в Канн выехал сам посол Великобритании во Франции.
А что нее с главным призом фестиваля? Тут, надо вам сказать, разыгрался большой скандал. По единодушному мнению всех деятелей кино, лучшим фильмом 1951 года было «Чудо в Милане», показанное Витторио Де Сика. Но как быть с проклятым голубем, который является главным виновником этого чуда? Ведь это контрабандное прославление крамольного движения сторонников мира, твердили упрямые Макиавелли и макартуры из жюри.
И все‑таки нажим со стороны деятелей кино был столь силен, что в конце концов было принято соломоново решение: главный приз фестиваля… разрубили пополам и лишь одну половинку его отдали Витторио Де Сика. А вторую? Вторую «ради равновесия» отдали мрачному шведскому фильму «Фрекен Юлия».
Бросилось в глаза и еще одно обстоятельство: жюри фестиваля в своем дипломатическом усердии совершенно игнорировало собственную французскую кинематографию, хотя французские мастера кино Дювивье, Дакэн, ле Ша-нуа, Беккер создали в этом году незаурядные произведения.
Но не премии, конечно, определяют итоги фестиваля. Эти итоги, подводимые широкой общественностью, заключаются в том, что творческие работники кино тридцати стран, представленных в Канне, смогли наконец, невзирая на все происки реакции, установить деловой контакт между собой, обменяться опытом, окинуть взором перспективы, открывающиеся перед ними в борьбе за превращение кино в орудие культурного сближения между народами.
Январь 1964. Затмение
Помнится, когда я впервые побывал в Голливуде осенью 1958 года, меня поразило безмолвие, господствовавшее в огромных, похожих на заводские цехи студиях той самой корпорации «Метро – Голдвин – Майер», которая еще недавно выпускала конвейером десятки и сотни кинолент.
На широчайшем просторе съемочных ателье «Метро-Голдвин – Майер», где могли бы работать одновременно десятки съемочных групп, мы увидели лишь две площадки, на которых еще теплилась жизнь: никогда не унывающий, плотный, краснолицый Хичкок крутил очередную ленту в своем излюбленном криминальном жанре да ветеран Голливуда тихий, немного меланхоличный Джо Пастернак снимал какую‑то комедию. Представитель администрации сообщил нам, что фирма запланировала выпустить в 1958 году всего семь фильмов: «Сейчас время раздумий, переосмысления перспектив, перестройки…»
Вечером на вилле у одного из крупнейших актеров Голливуда собралась большая группа известных режиссеров и актеров – в те времена гости из Советского Союза еще не так часто добирались до Калифорнии, и вопросам, расспросам не было конца. Потом заговорили о кино, о том, куда оно пойдет теперь, в каком направлении будет развиваться. Настроение у наших хозяев было невеселое.
Шел спор. Один поддерживал Чаплина, который, как помнит читатель, еще в конце сороковых годов заявил, что Голливуд умирает, и покинул Америку; другие не соглашались, доказывали, что, если человек талантлив, он может наперекор монополиям выступить в роли независимого постановщика и не случайно‑де число независимых постановок, осуществленных на свой страх и риск самими режиссерами и актерами, растет из года в год! Да, отвечали на это скептики, но кто может отрицать, что в современных условиях независимая постановка – это огромный риск для творческого работника, располагающего лишь скромными ресурсами? И не потому ли, что этот риск действительно страшен, даже такой поборник правдивого реалистического современного кино, как Вильям Уайлер, согласился ставить пышный фильм во славу господа Иисуса Христа «Бен – Гур»? Безопасно и к тому же доходно!..
С тех пор прошло уже шесть лет. За эти годы киноиндустрия и кинорынок претерпели дальнейшие изменения. Во – первых, монополия Голливуда дала трещины. Страны, которые когда‑то были только покупателями американских кинокартин, теперь сами производят фильмы, и притом в огромном количестве. Во – вторых, все острее дает себя чувствовать конкуренция со стороны телевидения. В – третьих, американские капиталисты, привыкшие вкладывать деньги в производство кинокартин, вдруг обнаружили, что за океаном аренда студий и наем актеров и режиссеров обходятся гораздо дешевле, чем у себя дома, и начали более охотно финансировать производство фильмов за границей, нежели в Соединенных Штатах (так, в число «американских» фильмов попали, например, столь известные французские фильмы, как «Мюриэль», поставленный Аленом Рене, картина Андре Кайатта «Меч и весы правосудия», картина Клемана «День и час», итальянские фильмы «Леопард», снятый Висконти, – мы видели его на кинофестивале в Москве – и «Затворники Альтоны», поставленный Де Сика, а также многие другие).
И вот как складывается положение на кинорынке Запада сейчас – я пользуюсь статистическими данными, приведенными авторитетным знатоком кинематографа Жоржем Садулем в парижской газете «Леттр франсэз» 16 января 1964 года. Если в 1930–1940 годах Голливуд «выстреливал» по пятьсот – шестьсот фильмов в год, то в 1962 году там было снято лишь восемьдесят восемь кинокартин, причем фирмы «Метро – Голдвип – Майер» и «Па-рамаунт» дали по одиннадцать, «Уорнер бразерс» – десять, «Коламбия» – восемь, «XX век – Фокс» – семь, а
«РКО» – ни одной. Правда, к этому можно добавить нятьдесят семь фильмов, снятых на американские деньги за границей, но и в этом случае США останутся позади Японии, поставившей в 1962 году триста семьдесят пять фильмов, Индии с ее тремястами двенадцатью фильмами, Гонконга, который выпустил сто восемьдесят семь фильмов, и т. д.
В 1963 году было отмечено некоторое оживление кинопромышленности Соединенных Штатов. Несколько увеличился выпуск фильмов. Три крупнейших концерна – «XX век – Фокс», «Коламбия» и «Метро – Голдвин – Майер» – объединили свои капиталы, чтобы построить новый, величайший в мире киногород в Малибу (штат Калифорния). Голливудские студии, сооруженные тридцать – сорок лет назад, устарели, и модернизация их обошлась бы дороже, чем сооружение этой новой «сверхстудии» в Малибу, которая стала еще более грандиозной, чем знаменитая «Чинечитта» в Риме – именно ее облюбовали в последние годы американские постановщики, ринувшиеся из США в Европу, где рабочая сила дешевле, а студии вполне современны. Руководители американского бизнеса надеялись, что ввод в строй киногорода в Малибу поможет задержать «бегство» кинематографистов в Европу и связанную с этим утечку валюты и резко увеличить производство фильмов в США. Но до былого «золотого века» Голливуда было уже далеко.
Люди стали реже ходить в кино. Если в 1930 году, когда население Соединенных Штатов насчитывало сто двадцать три миллиона человек, там было продано пять миллиардов билетов в кинематографы, то в 1962 году, когда население США превысило сто семьдесят пять миллионов, кассирам кинотеатров удалось продать лишь два миллиарда билетов[76]76
По данным статистики ЮНЕСКО, в 1969 году в Соединенных Штатах было продано всего лишь один миллиард триста миллионов билетов в кино.
[Закрыть]. После этого не приходится удивляться тому, что количество кинотеатров в этой стране уменьшилось с двадцати тысяч в 1930 году до двенадцати тысяч трехсот в 1962 году.
И все‑таки кино остается важнейшим средством идеологического воздействия на массы. Жорж Садуль в книге «История мирового кино от основания до наших дней»,
опубликованной недавно парижским издательством
«Фламмарион», сообщает, что, несмотря на значительное сокращение посещаемости кинотеатров, люди земного шара и сейчас смотрят фильмы двадцать миллиардов раз в год. Это означает, что каждый человек, живущий на земле, в среднем за год семь раз бывает в кино. К этому надо добавить, что чаще всего ходит в кино молодежь: каждый второй зритель моложе двадцати четырех лет.
Стало быть, игра стоит свеч! И хозяева «фабрик снов», как издавна зовут большие кинозаводы Запада, приспосабливаясь к новым условиям и воюя с губительной для кинематографа конкуренцией телевидения, предпринимают огромные усилия, чтобы сохранить и даже усилить свои позиции. В ход пущены новейшие технические усовершенствования: на смену широкому экрану пришел гигантский, появилась синерама – на ее экран фильм проецировался тремя раздельными дорожками, потом эти три дорожки слились в одну. Сейчас в США оборудовано уже около ста пятидесяти кинотеатров с гигантскими экранами, на которых показывают фильм по однопроектор-ной системе.
В моду вошли роскошные постановки с участием многих тысяч фигурантов, с пышными декорациями, стоящими безумных денег, им сопутствует осуществляемая в небывалых доселе масштабах назойливая реклама, которая поглощает столько же средств, сколько и сама постановка. И что же вы думаете? Расходы окупаются, эти аляповатые, купеческого стиля постановки находят зрителей, желающих полюбоваться «богатой жизнью» королей и принцесс, экзотическими пейзажами или сценами войн и походов. А за счет прибылей от них по – прежнему усиливается и расширяется отрасль кинематографии, посвященная целям «холодной войны»…
Конечно, люди, приспособившие кино для этих целей, продолжают и лобовую антикоммунистическую пропаганду, фабрикуя, например, псевдодокументальные фильмы вроде «Красного ада», который я видел на Бродвее в ноябре 1962 года, в разгар карибского кризиса. В этом фильме кадры, фиксирующие зверства гитлеровцев, были выданы за съемки советской действительности. Но наряду с подобными грубыми фальшивками появляются и более искусно сделанные фильмы, используемые враждебной пропагандой против нас.
К числу таких фильмов принадлежит поставленная в
1963 году большим мастером американского кинематографа Карлом Форманом кинокартина «Победители». Вокруг этого фильма разгорелась большая полемика. Кое-кто говорил, что это – прогрессивный фильм, не зря‑де Формана жестоко преследовала пресловутая Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности.
– Посмотрите, – говорили некоторые кинокритики, – как смело Форман снимает с американских вооруженных сил ореол армии – победительницы, армии – освободительницы! Посмотрите, как убедительно он показывает моральную деградацию американской военщины: вот белые американские солдаты убивают своего товарища негра; вот расстреливают струсившего вояку… А как откровенно он показывает ужасы войны: вот изуродованный ранением до неузнаваемости сержант; вот девушки, ставшие проститутками…
Что верно, то верно: ужасы войны в фильме продемонстрированы детально и американская армия показана в самом неприглядном виде. Но эти пацифистские мотивы даны в полном отрыве от реальной действительности второй мировой войны, которая была войной антигитлеровской коалиции против фашистской Германии и ее сателлитов. Об этом зритель, особенно молодой, глядя фильм Формана, начисто – забывает. Он не только не вспомнит о том, что в итоге этой трудной и жестокой войны фашизм был разгромлен, но даже подумает, будто война эта была совершенно зряшной и никому не нужной. Именно такой выход подсказывает мрачный финал фильма, где показан бессмысленный смертный бой американского и русского сержантов среди руин Берлина.
Как все это понять? Что хотел Форман сказать своим фильмом? Одни утверждают: режиссер исходил из лучших чувств, стремясь доказать, что всякая война ужасна и что поэтому надо укреплять мир. Другие говорят: будучи пацифистом и человеком, мало разбирающимся в политике, Форман запутался и забрел в творческий тупик. Третьи заявляют: это путаница преднамеренная, в фильме жестокая правда о войне нарочито смешана с ложыо – так легче убедить кинозрителя, будто война против гитлеровской Германии была бессмысленной, коль скоро назавтра после нее союзники разошлись и стали врагами.
Мне трудно судить о том, как и почему фильм стал таким, каким я его увидел, – с Форманом встретиться не довелось. Но в конце концов это и не столь уж важно. Как и в любом искусстве, конечный результат творческой работы важнее авторского замысла. А в данном случае конечный результат – зловещий фильм, вызывающий острую неприязнь к участникам антифашистской войны, и прежде всего к Советской Армии.
На экране появляется немало таких фильмов, примечательных своего рода мимикрией. На первый взгляд автор смело берется за острую тему, его смелость подкупает, зритель начинает испытывать к нему симпатию, но вдруг перед вами крутой сюжетный поворот – и вы видите, что фильм защищает реакционные идеи. Особенно возмутительны попытки политической спекуляции на теме о возможности мировой термоядерной войны: ведь эта тема глубоко волнует каждого человека, и стремление использовать естественную и понятную заинтересованность людей в предотвращении ядерного конфликта в целях, не имеющих ничего общего с борьбой за мир, вызывает у честных людей протест.
Мне хотелось бы сейчас подробно проанализировать только один аспект западного киноискусства, примыкающий к тому, о чем идет речь в предыдущих письмах, посвященный литературе и искусству без языка. Я имею в виду пресловутый «киноавангард» шестидесятых годов, стоящий в одной шеренге с «антироманом» и «театром абсурда». О, конечно же, никто не захочет сказать вслух, что он выступает с позиций реакции, а не с позиций прогресса, зовет не вперед, а назад, что он представляет собой не передовой отряд искусства, а его арьергард. Не потому ли на Западе так скомпрометировано в эти годы отличнейшее, благородное слово «авангард»? Так уж складывается положение, что авангардом провозглашают себя те, кто в действительности тянет назад, и только назад…
Я уже писал, что настоящее искусство немыслимо без эксперимента, без поиска нового. Остановиться в развитии – значит умереть. Но эксперимент, поиск могут быть успешны только в том случае, если творческий работник ясно отдает себе отчет – во имя чего он предпринимает поиски новых путей, чего он хочет добиться, кому он адресует свой эксперимент. Настоящее искусство связано с жизнью, и в этом его сила. И наоборот, произведения искусства, взращенные в искусственном климате оранжереи ради прихоти немногих, быстро вянут, едва их вынесут из‑под стеклянной крыши и поместят под открытым небом.
Вспоминается, как Жорж Садуль в своем труде «Французское кино» определял причины небывалого расцвета кинематографического искусства во Франции в тридцатых годах, когда большая группа талантливых режиссеров пошла на творческий эксперимент, смело ломая устоявшиеся каноны и изыскивая новые методы и приемы, отвечающие необъятным возможностям нового тогда звукового кино. Он писал, что новаторы французской кинематографии тех лет всегда стремились установить связь между замыслом фильма и историческим контекстом, который подчеркивал глубину и значимость этого замысла и стройное единство содержания и формы.
Анализируя творческие искания талантливого режиссера Жана Ренуара в ту пору на примере его выдающихся фильмов «Тони» и «Человек – зверь», Садуль подчеркивал, что для этого новатора форма была не абстрактной целью, а средством уловить в жизни и воссоздать на экране содержание человеческих помыслов и действий, добиться подлинной глубины, убедительности показа; форму Ренуар рассматривал как инструмент, помогающий ему проникнуть в глубину жизни. Особенно примечательно, что этот выдающийся режиссер в ту пору стремился показывать социальные корни избранного им сюжета (от всего этого Ренуара потом отучил Голливуд, куда он переехал в зените своей славы и откуда бежал уже после войны, как и Рене Клер и как многие другие европейские мастера кино, убедившиеся вместе с Чаплином, что это мертвая пустыпя, где привольно живется лишь коммерсантам от кино).
Жан Ренуар, как и многие его коллеги, был новатором в тридцатые годы. Это была эпоха возрождения реалистического кинематографа, осуществляемого па новой технической основе, созданной изобретением звукового кино, – и главное! – в ободряющей атмосфере политического прогресса. Следует помнить, что то было время Народного фронта, противостоявшего силам реакции и войны, и лучшие творческие работники Франции самым активным образом участвовали в этой борьбе. Многие их кинопроизведения перекликались с такими же, поистиие авангардными, работами их советских коллег. Поставленный еще в 1930 году Рене Клером фильм «Под крышами Парижа», к примеру, был встречен в Советском Союзе с таким же энтузиазмом, с каким «Встречный», «Юность Максима», «Чапаев», «Великий гражданин» были приняты во Франции.
Так было. И так же творчески, беспокойно, неустанно ищут новых путей работники кинематографа повсюду и сейчас, руководствуясь теми же критериями, какими был воодушевлен тридцать лет назад Жан Ренуар, работая над фильмом «Человек – зверь», когда он, как писал Садуль, «выступил против привычных стандартов своей эпохи, обратился в своем фильме к таким моментам, которые позволяют показать большую глубину событий, связать показ героев с показом окружающей их среды, причем этот фон рисуется с той же четкостью, что и первый план». (Правда, тот же Садуль упрекал Ренуара в том, что он ушел от социального объяснения событий, показанных в этом фильме.)
Но, как мы убедились выше, рассматривая самоновейшие течения в западной литературе, театре и изобразительном искусстве, есть поиски и поиски: один ищет пути вперед, другой пятится назад, третий топчется на месте, погружаясь все глубже в зыбкое болото, куда он забрел…
Было бы ошибочным и вредным игнорировать глубокие внутренние процессы, происходящие в итальянском и французском кино, чьи лучшие произведения послевоенных лет мы успели полюбить и чей стиль в течение длительного времени был столь близок к нашему (я имею в виду, в частности, то, что именуется неореализмом).
Какими бы замечательными ни были, например, столь разнообразные по форме и содержанию, но близкие по духу фильмы Росселини, Де Сика, Де Сантиса, Висконти, Феллини и многих других мастеров, радовавшие зрителя в сороковых – пятидесятых годах, их искусство неизбежно должно было измениться, обновиться, ибо искусство – это жизнь, а жизнь – это вечное обновление.
Поиски нового – это сложный, трудный и подчас мучительный процесс, и не случайно во второй половине пятидесятых годов критики начали говорить о кризисе неореализма – наступил определенный спад в творчестве мастеров, которые поняли, что работать так, как они работали раньше, уже нельзя, но еще плохо представляли себе, в каком же направлении надо двигаться дальше.
Но вот почти одновременно были одержаны новые творческие победы: на экраны Италии и Франции вышел целый ряд значительных, очень разных, но в то же время чем‑то родственных фильмов – «Рокко и его братья» Висконти (рассказ о трагической судьбе бедной крестьянской семьи из Сицилии, которая ищет, но не находит счастья в индустриальном Милане), «Сладкая жизнь» Феллини (беспощадный, кинжальный удар в сердце разлагающейся аристократической и буржуазной верхушки итальянского общества), целая серия сильно сделанных психологических картин Жан – Люка Годара, Луи Маля и других французских режиссеров.
Что сближало этих разных и столь непохожих друг на друга художников? Стремление глубже проникнуть в психологию своих героев, чем это делалось до сих пор, перейти от анализа действия к изучению душевных переживаний людей.
На одной из дискуссий о кино в 1961 году встретились Чезаре Дзаваттини, Федерико Феллини, Элио Пьетри, Джузеппе Де Сантис и Лучино Висконти. К сожалению, эта дискуссия осталась у нас почти незамеченной, а между тем на ней шла речь о важных процессах, происходивших в эти годы в западноевропейском кино.
«1955–1958 годы, – сказал тогда Феллини, – были для нас периодом кризиса, периодом пустоты, хотя мне, конечно, не следовало бы этого говорить, поскольку именно в тот период вышли на экран мои фильмы «Дорога», «Мошенничество» и «Ночи Кабирии», – шутливо заметил он, но тут же, переходя на серьезный тон, продолжал: – В первые годы после освобождения итальянские режиссеры снимали реальный мир – наши города, наши улицы, наши дома такими, какими они были, и мы с волнением заново открывали свою страну. Но даже если бы кинематографист слетал на Луну и привез оттуда потрясающие кинокадры, которые взволновали бы всех, то через двадцать лет и они были бы уже не так интересны для зрителя, и перед кинематографистом, посвятившим себя показу Луны, встали бы новые проблемы. Нужно ли говорить, что такие же проблемы встали перед нами с еще большей остротой? Поскольку вкусы и интересы публики эволюционировали, мы начали стремиться проникнуть в психологию человека глубже, чем это делали до сих пор, пытаясь раскрыть его внутренний мир…»
«Мы думали раньше, – вмешался в разговор молодой режиссер Элио Пьетри, который до того, как сам стал снимать фильмы, писал сценарии для Де Сантиса, – мы думали раньше – ия не одинок в этом! – что фильмы надо делать так же, как проводится социологическая анкета, подчиненная некоторым академическим правилам. Короче говоря, мы путали содержание с формой… Но вот Феллини разбил некоторые каноны, и мы научились заменять документальность воображением».
«Да, – подтвердил Де Сантис, – вместо того, чтобы попросту описывать реальность, как она есть, итальянские кинематографисты теперь пытаются раскрыть ее методом психологического анализа, показывая характеры героев. Так на смену «кинематографу разоблачения» пришел «кинематограф, анализирующий проблему отчуждения (alienation)».
Почему в таких фильмах чаще всего речь идет не о психологии нормальных людей, а о разного рода анормальностях их душевного мира, больше того, о душевных расстройствах? Де Сантис считает, что в этом – знамение времени, а Пьетри поясняет, что новые, подчас полубезумные герои, каких выводит на экран, например, Феллини, – это «разочарованные, лишенные идеала, лишенные страсти люди, представляющие собой продукт [эпохи], результат влияния на человека процесса реставрации», которая произошла в Италии после разгрома фашизма, то есть после той эпохи, с которой народ связывал большие надежды на социальные перемены. В этом смысле Пьетри считает возможным соединить прямой линией знаменитый фильм Де Сика «Похитители велосипедов», который стал своего рода символом послевоенного реалистического кинематографа Италии, с последними работами Феллини.
Таковы были соображения, которыми руководствовались крупнейшие мастера итальянского кино, свершая свой крутой поворот «от съемок под открытым небом к кинематографу души», как определила его газета «Монд», публикуя отчет об этой дискуссии. Их можно понять, и доводы, приведенные ими, не следует игнорировать. Больше того, нельзя не видеть, что многие фильмы, поставленные итальянскими кинематографистами в новом, психологическом ключе, отнюдь не уступают старым, выдержанным в классической, «полудокументальной» манере послевоенного кино Италии.
Я, например, готов безоговорочно принять фильм Витторио Де Сика «Затворники Альтоны», который не нравится некоторым критикам своей психологической усложненностью, кажущейся им тяжелой и навязчивой. Де Сика в кинематографическом варианте «Затворников Альтоны» несколько отклонился от известной пьесы Сартра, положенной в основу этого фильма, – режиссер убедительно, ярко показал живучесть реваншизма, и не случайно на него с такой яростью набросилась западногерманская печать. Борьба, развернувшаяся вокруг «Затворников Альтоны», оказалась полезной жизненной школой и для самого Де Сика. После возвращения из ФРГ он заявил: «Это ужасная страна, в которой люди забыли все потому, что они хотели забыть. Грязное прошлое еще живет там… Западная Германия и сейчас еще глубоко заражена нацизмом». Так художник вторично встретился с персонажами своего фильма – на этот раз в реальной жизни.
И все‑таки нельзя не видеть, что «замена документальности воображением», о которой говорил Элио Пьетри, чревата серьезными творческими опасностями, поскольку она может увести (и уже уводит!) иных художников кино, лишенных надежного идеологического компаса, с широкого пути борьбы за народные интересы на глухие тропы бесплодных психологических вывертов.
Эта опасность мне кажется наиболее реальной в творчестве такого мастера итальянского кино, как Микельанджело Антониони, вокруг работ которого в последние дни шли столь страстные дискуссии.
Любопытная деталь: западноевропейская критика превознесла до небес творчество Антониони лишь в 1961 году, когда он уже без малого два десятилетия проработал в кинематографе. Антониони дебютировал в кино еще в 1943 году как постановщик короткометражных документальных фильмов. Свой первый игровой фильм «Хро-
ника одной любви» он поставил в 1950 году, и уже пять лет спустя его картина «Подруги» получила премию Серебряного льва на кинофестивале в Венеции. При всем том эти фильмы в ту пору, когда еще было сильно влияние неореализма, широкого успеха не имели. Но вот обстановка изменилась, и этот режиссер внезапно оказался на гребне волны новомодного «психологического» кино.
Я хорошо помню, как это произошло. В один февральский вечер 1961 года в Париже были объявлены две премьеры: одновременно вышли на экран «Рокко и его братья» Висконти и «Ночь» Антониони. Кинокритикам, режиссерам, кинозвездам, завсегдатаям премьер пришлось в тот вечер торопиться из одного кинотеатра в другой. Они ворчали на кинопрокатчиков, плохо согласовывающих премьеры, но в сущности это случайное совпадение показа двух фильмов оказалось весьма любопытным – произошло поучительное столкновение двух противоположных направлений в киноискусстве.
«Рокко и его братья» – это фильм, связанный с землей, с жизнью; это драматическое повествование о судьбах глубоко несчастной крестьянской семьи, которая покидает нищий юг и переселяется на север Италии в надежде на лучшую жизнь, но счастья она не находит и там. Фильм как бы продолжает линию, которую начала картина, создавшая славу Висконти, «Земля дрожит». Правда, Рокко и его братья не выглядят такими активными борцами за лучшую долю, какими были люди, показанные в фильме «Земля дрожит», – в новой работе Висконти уже прозвучали глубоко пессимистические нотки: плетью обуха не перешибешь, как было, так и будет… И все же это был честный, правдивый и, я бы сказал, беспощадный фильм, смело показавший тяжелую долю маленького человека в Италии эпохи «реставрации», о которой говорили Пьетри и Феллини; стоит ли удивляться тому, что буржуазная критика холодно приняла «Рокко и его братьев»?
Зато «Ночь» Антониони вызвала в буржуазной прессе взрыв энтузиазма. Этот фильм был немедленно объявлен шедевром. Кто‑то вспомнил, что всего год назад другой фильм Антониони – «Приключение», похожий, словно близнец, на «Ночь», был освистан на фестивале в Канне, хотя жюри поспешило утешить режиссера, присудив ему приз за «замечательный вклад в поиски (!) нового кино языка». В прессе началось самобичевание: как можно было так оскорбить гениального художника? Французское телевидение немедленно организовало персональный фестиваль Антониони – на протяжении пяти вечеров телезрителям показывали наспех приготовленную антологию, составленную из его фильмов за тринадцать лет. Прокатчики бросились покупать эти фильмы и выпускать их один за другим на экран. Антониони давал по нескольку интервью в день репортерам.