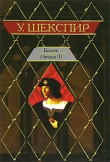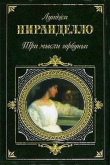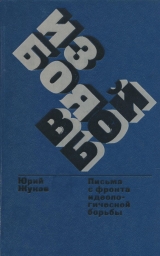
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 45 страниц)
– В конце концов главное в том, чтобы у тебя было что сказать зрителю, – говорит Крамер.
Я спрашиваю Крамера, что он думает о необычайном развитии сексуальной тематики в западном и особенно в американском кинематографе. В последнее время даже в работах крупнейших мастеров кино, которых никогда невозможно было упрекнуть в пристрастии к «клубничке», поражает обилие, мягко выражаясь, «смелых» сцен.
Крамер задумывается, потом говорит:
– Вы знаете, это сложный вопрос, о котором можно долго говорить. Сексуальная тематика заполонила не только кинематограф, но и литературу, и театр, и изобразительное искусство, она вторглась в повседневную жизнь. В обычных беседах даже в интеллигентном обществе сейчас без всяких стеснений говорят вслух такие вещи, какие в этой аудитории было бы немыслимо услышать несколько лет тому назад. И я думаю, что это только начало…
Он сделал паузу и повторил:
– Да – да, это лишь начало какой‑то стихийной перестройки общественной морали, диктуемой временем. Другое дело – грязные спекуляции на этой важной теме, я их отметаю, как и вы. Но является фактом, что откровенный показ чувственности становится нормой.
– Как, по – вашему, хорошо это или плохо? – спрашиваю я.
– Если взвесить все за и против, то это неплохо, – отвечает Крамер. – Всякое начало изобилует неудачами и провалами, и тем более, когда речь идет о такой деликатной сфере, как сфера чувств. Но вот возьмите фильм «Мужчина и женщина», снятый французом Лелюшем. Там есть сцены, которые еще несколько лет тому назад шокировали бы зрителя и вызвали бы скандал. Но с какой творческой деликатностью и тактом показывает их автор фильма и какие глубокие, в сущности благородные, мысли будят они! А возьмись за эту тему пошляк, каких, к сожалению, немало, и такие сцены выродились бы в грязную порнографию…
Что это – дань времени или нечто продиктованное внутренней логикой развития фильма? Ответ на этот вопрос мы узнаем, лишь поглядев новую работу Крамера. А пока что в артистических кругах Америки идут самые жаркие дискуссии о том, правомерно ли захлестнувшее ныне американский кинематограф обилие сексуальных тем. Уайлер, например, недавно пожаловался в печати, что компания, для которой он снимает новый фильм, поставила ему условие: либо в фильме будут эротические сцены, либо он не получит денег на постановку фильма.
Теперь разговор идет о мастерах американского кино – кто над чем работает. Джон Форд давно ничего не снимает. Вильям Уайлер недавно снял музыкальный фильм. Уайлдер ставит фильм о Шерлоке Холмсе. Кубрик создал интересный проблемный фильм «2001 год. Космическая одиссея» – о противоборстве человека и созданного им грозного и бездушного кибернетического мира автоматов [87]87
В начале 1972 года на экраны Америки и Европы вышел новый фильм Кубрика «Заводной апельсин», озадачивший и огорошивший тех, кто до сих пор с симпатией относился к его творчеству, памятуя о поставленных им смелых и бесспорно прогрессивных кинокартинах «Дорогой славы», «Доктор Стрэнджлав» и других. На сей раз он поставил фантастический философский фильм, в котором пытается доказать, будто страсть к насилию является врожденным качеством людей и что пытаться обуздать ее – опасно и вредно. Главный герой фильма Алекс, хулиган, насильник и убийца, попадает в тюрьму, откуда его направляют в «трансформационный центр», где ему вводят в кровь некий специальный наркотик, вызывающий у него отвращение к насилию. И что же? Выйдя на свободу, он превращается в беспомощный «заводной апельсин», послушный всем и каждому, и становится несчастным человеком – в мире, видите ли, без насилия прожить невозможно. Поставленный в натуралистической манере, изобилующий сценами самого отвратительного и гнусного насилия, новый фильм Кубрика имеет в США, Англии и Франции крупный кассовый успех. «Каждого человека привлекает насилие, – сказал по этому поводу Кубрик. – В нашем интересе к насилию отражается тот факт, что где‑то на уровне подсознания мы мало чем отличаемся от наших примитивных предков…»
[Закрыть]. Но погоду в Голливуде сейчас, пожалуй, делают уже не признанные мастера старшего поколения, а полные сил, новых идей молодые режиссеры.
– Вы знаете, – говорит Стэнли Крамер, – я бы с удовольствием собрал человек шесть наших молодых талантливых режиссеров и поехал бы с ними в Москву, чтобы представить нашим советским коллегам их фильмы и провести обмен мнениями о них.
Он смотрит на часы и огорчается: где‑то кто‑то уже давно предал его анафеме, не дождавшись; рабочий график дня полностью и бесповоротно нарушен. Я чувствую себя виноватым, но ведь было поистине важно вот так, откровенно и обстоятельно, вне всякого графика и без оглядки на часы, поговорить с этим большим мастером о творческих делах…
Прошло два с половиной года с тех пор, как были написаны эти строки, и мы увидели Стэнли Крамера в Советском Союзе – он приехал на VII Московский кинофестиваль. Вопреки решению американских властей бойкотировать этот фестиваль он и некоторые другие кинематографисты Соединенных Штатов пересекли океан, чтобы принять в нем участие.
Крамер привез свой новый фильм «Благослови детей и зверей». Это была, как всегда, интересная и острая в социальном отношении работа: Крамер на сей раз исследовал проблемы формирования характера юношества, живущего в душной атмосфере современного буржуазного общества. Фильм этот был с интересом встречен нашей кинематографической общественностью, ему были посвящены многие выступления в печати, и потому я не буду рассказывать о нем подробно. Если я и упоминаю о нем, то лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что Крамер, к счастью для кинематографа, остается самим собой и продолжает твердым шагом идти по избранному им пути.
Встречаясь с советскими кинематографистами, Стэнли Крамер развивал дорогую его сердцу мысль о том, что погоду в современном кинематографе делает молодежь.
4 августа 1971 года «Литературная газета» опубликовала интересную беседу советского кинорежиссера С. А. Герасимова с Крамером. Вот что сказал тогда этот мастер американского кино:
«Нельзя преуменьшить вклад молодежи в современное киноискусство. Дело в том, что и в своей общественной позиции, и в своей работе в кино – а иногда это очень тесно связано – молодежь пытается внушить старшему поколению свое представление о настоящих ценностях, подвергнуть суду совести многие понятия. Молодежь мира сейчас активно участвует в движении против войны, она требует перейти от слов к делу при решении таких проблем, как загрязнение атмосферы и загрязнение воды. Ей, молодежи, нередко принадлежит честь выступать застрельщиком в постановке такого рода вопросов.
При тех переменах, какие происходят сейчас в кино, возможны преувеличения в подходе к событиям и явле ниям, например непомерно раздувается тема жестокости, наблюдается засилье секса.
Но я надеюсь, что все те элементы, из которых слагается кинозрелище, рано или поздно придут в соответствие. Сама публика заставит кинематографистов прийти к оптимальному варианту. С помощью людей, много лет работающих в кино, молодые создатели фильмов поймут, что такое истинные ценности, найдут свой кинематографический язык, выскажут то, что хотят сказать. Но уже сейчас больше, чем когда бы то ни было, в картинах проявляется гражданская совесть».
В этой связи С. А. Герасимов выразил справедливое опасение, что современный западный кинематограф все больше скатывается на позиции так называемой вседозволенности, бездумно, а то и спекулятивно отражая уродства современной жизни буржуазного общества. «Нынешний «жестокий» фильм, – сказал он, – в конце концов тот же коммерческий стандарт, наступающий на массового зрителя во всеоружии порнографии и агрессивной кровожадности. И здесь мы не должны недооценивать опасное влияние киноискусства. Влияние это очень велико».
Крамер ответил на это так: «Все зависит от того, какие идеи несет художник… Я встречался с художниками, которые внимательно следят за тем, чтобы коммерсанты их не съели. Эти художники стараются не витать в облаках, а твердо держаться на ногах». И он добавил, что творчество целой группы молодых американских режиссеров, обладающих гражданской совестью, вселяет в него добрые надежды.
Да, все зависит от того, какие идеи несет художник своему зрителю, с чем он к нему идет. К счастью, Крамер и его единомышленники твердо стоят на ногах и не поддаются душевной коррозии в окружающем их удушливом мире. Но было бы непростительной наивностью недооценивать и сам этот удушливый мир, и его воздействие на менее стойкие души.
Современный западный кинематограф, кинематограф 70–х годов, сохраняет всю свою противоречивость и сложность. Подробнее об этом – в следующей главе.
Февраль 1972. Кино взрослеет
Да, кино взрослеет: не так давно ему исполнилось уже семьдесят пять лет. Уже семьдесят пять или только семьдесят пять? Для искусства это и много и мало. Когда братья Люмьер в памятный день 28 декабря 1895 года показали па полотне, растянутом в одном из парижских кафе, своих движущихся человечков, никто и представить себе не мог, чем станет кинематограф и какой огромной магической силой воздействия на умы он будет обладать…
По случаю семидесятипятилетия кино в мире было устроено немало выставок и написано множество статей, синематеки организовали праздничные просмотры старых лент. Деятели кинематографа провели множество дискуссий о своем творчестве. Но, как всегда в таких случаях, самым важным и значительным для людей, всерьез интересующихся этим искусством, было приглядеться к тому, что же оно создало на этом историческом рубеже, какими фильмами ознаменовано вступление кинематографии в четвертую четверть ее первого столетия.
Случилось так, что в 1971 году мне довелось немало поездить по белу свету, и я, как обычно, воспользовался этим и для того, чтобы познакомиться с новинками западного кино. О них и пойдет речь в этих заметках. Но прежде чем приступить к рассказу, несколько замечаний общего порядка…
В ежегоднике Британской энциклопедии за 1972 год я прочел горькие строки о том, что дельцы кинокорпораций Запада в юбилейный для кинематографа год с тревогой обдумывали свои дела: люди все реже и реже стали ходить в кино. В Англии, например, в конце второй мировой войны еженедельно посещали кинематографы тридцать миллионов человек, а доходы кинопрокатчиков в 1944 году достигли круглой суммы – ста миллионов фунтов стерлингов. В 1969 году в кино ходили за неделю всего около пяти миллионов англичан, и доходы от кино-проката, естественно, резко сократились.
Чаще всего посещают нынче кинотеатры советские люди: в среднем каждый из нас смотрит фильмы двадцать раз в год, за нами идут болгары – четырнадцать, потом итальянцы – одиннадцать раз. А вот американцы бывают в кино в среднем лишь семь раз в год, англичане, французы, шведы, бельгийцы – четыре, а западные немцы, японцы и австралийцы и того меньше – всего три раза в год.
Такая мрачная для кинопрокатчиков капиталистического мира статистика имела свои серьезные экономические последствия. Ежегодник Британской энциклопедии с грустью отмечал: «В 1970 году практически все старые великие компании Голливуда перешли под контроль могущественных финансовых групп. Символом падения старых кинематографических империй явилась распродажа с аукциона – красочного, но полного меланхолии – легендарных богатств корпорации «Метро – Голдвин – Май-ер» – декораций, костюмов, оформления, накопившихся за полвека становления американской кинематографии».
Новые хозяева Голливуда отказались от постановки дорогостоящих кинофильмов. Была поставлена задача «стабилизировать производство фильмов на умеренном бюджетном уровне». Но пересмотру подверглась не только бюджетная практика. Кинематограф никогда не был искусством аполитичным, он всегда использовался как острейшее оружие идеологической борьбы. И пока финансисты наводили порядок в бухгалтериях, эксперты «психологической войны» анализировали причины провалов кинематографических операций на фронте борьбы с коммунизмом: старые приемы «холодной войны» себя уже не оправдывали, зритель не принимал фильмов, сделанных в грубой манере 50–х годов, нужно было искать что-то новое, работая более тонко и более ловко.
1971 год был богат кинофестивалями. Одни из них, подобно фестивалям в Канне и Венеции, напоминали коммерческие ярмарки; другие, подобно Московскому,
являли собой подлинный смотр кинематографии. Но в целом эти фестивали дали широкую панораму мирового кинематографа на рубеже 60–х и 70–х годов, и фильмы, перекочевавшие летом 1971 года с фестивальных экранов на широкий, массовый экран, довольно точно отражают и те традиционные черты, которые свойственны западному киноискусству уже десятки лет, и то новое, что в нем появилось.
Что же осталось неизменным и что изменилось?
В целом характер западного кинематографа остался прежним: экраны по – прежнему захлестывает мощный поток кинопродукции, рассчитанной на нетребовательного кинозрителя. Я вспоминаю, что еще в 40–х годах Британский киноинститут разработал основные категории этих промышленных стандартов: «музыкальный фильм», гарантирующий успех наличием популярных кинозвезд, «плоские (!) комедии», «драма», «сентиментальный фильм», «картина ужасов», «ковбойские фильмы». При классификации фильмов, говорилось в лекции о кинобизнесе, прочитанной в 1944 году в этом институте, владелец кино, принимая во внимание разновидность мнений, должен руководствоваться сображениями прибыли… Публика хочет развлечений, и она имеет право на такие развлечения, за которые она готова платить…
Эти нормативы с некоторыми вариациями сохраняются и по сей день: кинематографический конвейер Запада работает по – прежнему. В этом я имел случай лишний раз убедиться в Париже, экраны которого принимают свыше двухсот фильмов в неделю, причем классификация их во многом отвечает старым нормам, выработанным Британским киноинститутом более четверти века тому назад.
Возьмем на выбор неделю с 27 октября по 2 ноября 1971 года. На парижских экранах в эту неделю шло двести тридцать девять фильмов, причем бюллетень «Па-рископ», задача которого состоит в том, чтобы как‑то ориентировать зрителя в этом потоке, разложил их по полочкам следующим образом:
1. Приключения. В эту рубрику входили тридцать девять фильмов, названия которых говорили сами за себя: «Стамбул – перекресток, где торгуют наркотиками», «Пистолет для Ринго», «По следу бандитов», «Четыре человека с крепкими кулаками», «Продажная девка и бродяга» и т. и. и т. д.
2. Комедии – тридцать семь фильмов.
3. Драматические комедии – двадцать два фильма.
4. Музыкальные фильмы – на сей раз почему‑то только четыре, видимо сказывается режим экономии – оплата музыкальных кинозвезд обходится дорого.
5. Мультипликации и документальные – шесть фильмов.
6. Психологические драмы – тридцать три фильма.
7. Эротические (читай – порнографические!) – десять фильмов.
8. Шпионаж – два фильма.
9. Фантастические истории – восемнадцать фильмов.
10. Политические фильмы – пять («Битва за Алжир» итальянца Джило Понтекорво, поставленный еще в 1965 году; «Печаль и сострадание» – фильм об оккупированной гитлеровцами Франции, снятый в 1969 году для швейцарского телевидения Марселем Офюльсом; новый фильм «Джо Хилл», поставленный в 1971 году Бо Видер-бергом; «Прямо» – новый фильм американца Герберта Данска, без ссылки на дату выпуска на экран; «Сакко и Ванцетти» – итало – французский фильм, недавно поставленный Джулиано Монтальдо. О некоторых из этих кинолент я расскажу ниже).
11. Постановочные боевики – два (поставленный Абелем Гансом еще в 1926 году и озвученный сейчас фильм «Бонапарт и революция» и фильм Федерико Феллини «Сатирикон», вышедший на экраны в 1969 году).
12. Военные фильмы – шесть.
13. Фильмы ужасов – два («Женщина – рептилия» и «Вампир жаждет»),
14. Полицейские фильмы – пятнадцать.
15. Трагедии – один фильм (это «Женщины Трои» – лента, снятая в Англии в 1971 году известным греческим режиссером Какоянисом при участии Кэтрин Хёпберн).
Таким образом, стандарты западного кинематографа, рассчитанного на широкий рынок, остались почти те же. Разве что добавилась категория «эротических фильмов», которая была еще немыслимой в 40–е годы, когда в кинематографе, особенно американском, сохранялась суровая цензура нравов. Но сейчас эта цензура фактически ликвидирована: люди, ведающие идеологическим фронтом, рассудили, что пусть лучше молодежь увлекается сексом, чем политикой, и широко открыли шлюзы литературы и искусства для самой немыслимой, поистиие отвратительной духовной грязи.
Открыто пропагандируются самые невероятные извращения. Когда я был в апреле 1971 года в Нью – Йорке, там вскрылась очередная скандальная история: проживавшая в районе Лонг – Айленда предприимчивая, хорошо обеспеченная чета – инженер – электрик Юджин Абрамс и его жена – в погоне за дополнительным заработком организовала «эротические» съемки малолетних детей. Они снимали – для открытой публикации за большие деньги! – не только своих крошечных детей в самых непристойных позах, но и чужих: за каждый съемочный сеанс родителям детей выплачивался гонорар в размере двухсот долларов. В этот чудовищный бизнес были втянуты многие зажиточные семьи из штатов Пенсильвания, Коннектикут, Нью – Джерси.
В самом Нью – Йорке порнография заполнила все кинематографы – об этом уже написано и рассказано немало. Помнится, меня поразила такая деталь: в центре города в одном из самых роскошных залов Бродвея шел поисти-не поразительный по своей непристойности фильм, озаглавленный «Доклад созданной президентом комиссии по изучению порнографии». Как известно, эта скандально знаменитая комиссия высказалась большинством голосов против каких‑либо запретов на порнографию, и вот предприимчивые кинодельцы состряпали фильм, в котором в сопровождении цитат из доклада этой комиссии демонстрируются поистине скотские кадры…
А чего стоит шедший летом и осенью 1971 года с большим успехом в центральных театрах Парижа фильм «Техника физической любви», название которого говорит само за себя? Еще десять лет назад такое было невозможным, а сейчас даже церковь включила этот похабный фильм в свой рекомендательный список для верующих, и в Тулоне, например, его просмотрели пятнадцать тысяч зрителей, в Гренобле – тринадцать тысяч, в Лионе, Руане, Панси – по шестнадцать тысяч, а в Париже – около полумиллиона. И он продолжает делать большие сборы.
Все это, бесспорно, диктуется заботой дельцов от кинематографа о том, чтобы любой ценой сохранить, а если удастся, то и умножить барыши от своего бизнеса. Но не только этим. Кинофильмы – не просто товар, это и мощное средство идеологического воздействия на самые широкие народные массы. Это давным – давно поняли пресловутые службы «психологической войны». И этот широкий поток низкопробных, чаще всего грязных, кинолент предназначается еще и для того, чтобы отвлечь массового кинозрителя от жгучих проблем современности, оглупить, оболванить его. Политическая сторона коммерческого кинематографа имеет не меньшее, а, пожалуй, еще большее значение, чем торговая.
Но в то же время было бы несправедливо не отдать должного тем новым, прогрессивным веяниям в западной кинематографии, которые все сильнее дают о себе знать в наши дни. Я имею в виду деятельность целого ряда независимых, прежде всего молодых, режиссеров и актеров, разрабатывающих острую политическую и социальную тематику. Именно их творческая активность, а не продолжающаяся в современном западном кино эскалация проповеди насилия и скотства является нынче подлинным знамением времени. Работая в труднейших условиях, они упорно пытаются сказать свое мужественное слово в противовес реакционной пропаганде, показать подлинное обличье окружающего их страшного мира и заставить кинозрителя подумать о своем гражданском долге.
Им приходится очень трудно. Трудно найти продюсера, который согласился бы финансировать их работу; трудно прорваться через рогатки кинематографической цензуры, которая к ним куда более сурова, чем к постановщикам «эротических» фильмов; трудно найти прокатчика, который осмелился бы показать фильм, критикующий буржуазное общество.
Они часто ошибаются, их огонь не всегда точен: не хватает правильной социальной ориентации. Иной раз кое‑кто из них идет на компромисс с совестью, лишь бы пробиться к зрителю. Но при всем том деятели этого нового, протестующего и борющегося, кинематографа 70–х годов заслуживают уважения и внимательного к себе отношения. Именно их работы я имел в виду, когда сказал, что кино сейчас взрослеет.
Как это всегда бывает в буржузной кинематографии, едва сквозь толщу «коммерческой» продукции «фабрик снов» пробьется с величайшим трудом здоровый и по-истине талантливый росток нового, сразу же тут как тут оказываются мастера «психологической войны». И если им не удастся ни перекупить, ни задушить кинематографиста, твердо решившего говорить зрителю правду, только правду и ничего кроме правды, то тут же будет пущен в ход дьявольски хитрый ход в стиле Макиавелли: рядом с правдивыми фильмами мастера, осмелившегося критиковать основы буря^уазного общества, появятся ловко склеенные лепты, которые как будто бы похожи на них, словно близнецы, но если разобраться, то окажется, что подлинная начинка у них совсем другая, ядовитая. В этих заметках мне и хотелось бы показать обе стороны нынешней ситуации в повзрослевшем западном кинематографе: с одной стороны, я расскажу о новых, подлинно прогрессивных, тенденциях, давших о себе знать в 1971 году, а с другой – покажу, как дельцы «фабрик снов» пытаются эти тенденции фальсифицировать, подделываясь под фильмы, которые на первый взгляд могут показаться смелыми, бросающими вызов буржуазному обществу, а на деле служат именно ему.
Давайте же приглядимся повнимательнее к тому, что показывают нынче на экранах капиталистического Запада…
Вы уже обратили внимание на то, что в перечне фильмов, шедших на экранах Парижа в октябре – ноябре 1971 года, было шесть военных: ленты о войне прочно занимают свое место в репертуаре кинотеатров Запада, причем по – прежнему эта тема широко эксплуатируется идеологами Пентагона для искажения истории и прославления более чем сомнительных доблестей американских вояк, показавших свое неприглядное лицо в Корее, в Индокитае, а подчас и для реабилитации гитлеровцев.
Вот и на Больших бульварах я видел в 1971 году уже давно примелькавшиеся рекламные панно – одно из них рекламировало поставленный Франклином Шеффне-ром фильм «Паттон», прославляющий американского генерала, чьи реакционные воззрения были общеизвестны; с других в прохожих целились лихие герои лихих кинокартин «Дети мерзавцев», «Пятая диверсионная группа», «Тридцать шесть часов в аду».
Всего за несколько дней до этого с экранов сошел грандиозный японо – американский фильм «Тора! Тора! Тора!», наделавший много шума – я видел его в 1970 году в Токио, а теперь он добрался и до Западной Европы; авторы этого фильма показывали победоносную атаку. японской авиации в 1941 году на Пёрл – Харбор, с которой началась японо – американская война. Задние мысли создателей «Тора! Тора! Тора!» были двояки: во – первых, надо было пробудить у японцев ослабевшую после поражения в 1945 году воинственность и заставить их примириться с возрождением гонки вооружений, а во – вторых, – и это, пожалуй, самое главное – внушить им, что в 1941 году была совершена роковая ошибка: надо было напасть не на США, а на Советский Союз…
У касс парижских кинотеатров, где шли фильмы этого рода, было, однако, пусто. А вот там, где шел фильм итальянца Франческо Рози «Люди против», вилась длинная очередь.
Кто такой Франческо Рози? И о чем его фильм, вызывающий такой большой интерес у зрителей? Советские кинематографисты, да и все любители кино знают Рози по предыдущим фильмам: «Сальваторе Джулиано» – о трагической истории расстрела участников первомайской демонстрации 1947 года в Сицилии и «Руки над городом» – о грязных нравах «отцов города», наживающихся на жульнических операциях при строительстве жилых домов, – их махинации вскрываются, когда рушится один из домов и люди гибнут.
Рози – острый и бескомпромиссный мастер политического кинематографа. И его новый фильм «Люди против» – на сей раз антивоенный – краспоречиво подтверждает это (между прочим, Рози показывал этот фильм в дни Московского кинофестиваля 1971 года, и многие его помнят).
О чем речь? Казалось бы, о далеких от нас событиях – о злосчастных и для итальянцев, и для австрийцев сражениях первой мировой войны, где и те и другие воевали за чуждое простым людям неправое дело – война была империалистической. Но как злободневно звучит этот фильм сегодня!
Франческо Розп поставил картину по автобиографическому роману ветерана первой мировой войны и участника движения Сопротивления в годы второй мировой войны, побывавшего в гитлеровских концлагерях, Эмилио Люссю, ныне сенатора от нтальянской социалистической партии пролетарского единства, тесно сотрудничающей с Итальянской компартией. Как же решает Рози свою тему, взявшись показать, что все честные люди против войны?
– Делать фильм против войны, – говорил он в одном из интервью, – не значит быть пацифистом. Я хотел сделать фильм против войны империалистической, войны определенного типа. Против тех, кто имеет власть в руках и использует ее только для насилия. Война – лишь основа фильма. Меня интересовала не столько война сама по себе, сколько отношения между людьми на войне и отношение их к войне. Она разделила их в траншеях: ведь на фронте было как бы два противостоящих класса – солдаты – рабочие и крестьяне и офицеры – буржуа…
Скажем прямо: этот четкий классовый подход – явление совершенно новое в западном кинематографе, и заслуга Франческо Рози, который смело и открыто выступает за такой подход к анализу событий, поистине неоценима. Выход его нового фильма на экраны в Италии ознаменовался острой политической битвой: фашисты срывали афиши, писали на стенах оскорбительные надписи и угрожали расправиться с постановщиком фильма; коммунисты его защищали.
– Говорить о действительности, критиковать ее, – сказал Рози, – равносильно защите политических позиций. Известно, что меня считают коммунистом. Каждого, кто делает не оппортунистические, а честные фильмы, считают коммунистом. Мой фильм родился от бунта, от стыда за современный курс итальянской политической жизни. Я считаю, что нечего бояться фраз, заимствованных из лозунгов и политических высказываний…
И вот перед нами этот острый политический фильм о кровоточащей линии фронта, которая пролегает не столько между итальянцами и австрийцами, сколько между представителями двух классов – угнетенного и угнетающего – независимо от того, по какую сторону фронта они находятся.
– Есть люди, которые против войны, и другие, которые за, – так сформулировал свои впечатления от этого фильма один парижский рецензент. – Генерал Леоне (его роль играет Ален Кюни) принадлежит к числу тех, кто считает, что войпа привлекательна. Во время боев с австрийцами в 1916 году он посылает своих солдат на смерть, чтобы вернуть Монте Фиор, жалкую скалистую горку. Ему противостоят его собственные солдаты, а вместе с ними мудрый лейтенант Оттоленьи (в этой роли выступает превосходный актер Джиан Мариа Волонте, идейный единомышленник Франческо Рози, так же как и он, видящий в своей работе в кино средство политической борьбы), лейтенант Сассю, молодой идеалист, мало-помалу воспринимающий идеи своего друга – он будет расстрелян за то, что выступает против этой войны. Солдаты взбунтуются, их бунт подавят, и им все же придется умирать в этой страшной войне, цели которой им органически чужды.
Да, это не просто пацифистский фильм. Это фильм о людях, которые против империалистической войны. И в этом – его особая ценность.
Примерно в те же дни я видел в Париже еще один фильм на тему, связанную с империалистической войной, – правда, снятый в ином ключе и с иной масштабностью, но столь же честный и, я бы сказал, прекраснодушный. Это был фильм «Джонни взял свою винтовку», поставленный шестидесятишестилетним голливудским ветераном Дальтоном Трумбо, имя которого хорошо памятно людям старшего поколения: в 40–х годах, когда «бешеный» антикоммунист Маккарти, возглавлявший пресловутую Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, начал чистку Голливуда от «красной заразы», Трумбо, способнейший и популярнейший киносценарист того времени, явился одной из основных его жертв;
Как я уже упоминал выше, комедия «публичного расследования убеждений» кинематографистов из ставшей в ту пору знаменитой «голливудской десятки», в которую был включен и Трумбо, закончилась трагически: хотя их не казнили физически, но они были осуждены на моральную смерть. «Красных кинематографистов» отовсюду изгнали, и они были на долгие десятилетия лишены всякой возможности творческой деятельности. Лишь совсем недавно, когда эти люди стали глубокими стариками, им разрешили работать.
Все эти долгие годы отстраненный от дел Дальтон Трумбо мечтал о воплощении своего давнего творческого замысла: ему очень хотелось поставить фильм, который помогал бы людям в борьбе против империалистических войн. Еще в 1939 году он опубликовал роман о том, как юноша, ушедший на первую мировую войну, возвращается с нее полным инвалидом – без рук, без ног, с изуро дованным лицом, как он порывается передать людям свои мысли о безумии того, что он пережил, о том, сколь отвратительна была эта война, и как наталкивается на глухую стену. Но вот вспыхнула вторая мировая война, начатая Гитлером, и Трумбо сам изъял свою книгу из продажи, дабы силы реакции, демагогически выступавшие тогда под пацифистскими лозунгами, не смогли использовать ее, чтобы помешать Соединенным Штатам присоединиться к антифашистской борьбе. Война войне рознь, есть войны несправедливые и справедливые, и Дальтон Трумбо, всем сердцем осуждая империалистов, столь же страстно выступал за вооруженную борьбу против фашистов.
Прошли годы, сложилась новая политическая обстановка, и Соединенные Штаты, участвовавшие когда‑то в войне против германского фашизма и японского империализма, сами встали на путь развязывания и поддержки империалистических, неоколониалистских войн: Корея, Индокитай, Ближний Восток… И Трумбо вернулся к своему давнему замыслу.
Вначале он написал сценарий по своему старому роману и в 1964 году предложил его известному кинорежиссеру Бюнюэлю. Тот заинтересовался сюжетом и решил поставить фильм. Но замысел этот не осуществился: в последнюю минуту струсил продюсер – он побоялся, что и его причислят к «красным». Тогда Трумбо решил ставить фильм сам. Преодолевая огромные трудности, он собрал необходимые средства – и вот фильм на экранах. Он даже был показан в 1971 году на фестивале в Канне.
Это поистине волнующая история. «Йадо быть камнем, чтобы не взволноваться», – писал парижский критик Франсуа Морен. Представьте себе на миг: вы в тесной больничной комнатке наедине с несчастным двадцатплет-ним инвалидом, которому вернули жизнь, но у которого нет пи рук, ни ног, ни носа, ни ушей. Он глух, нем и слеп. Но у него сохранилось сознание, и он объясняется с медицинской сестрой, ударяя изуродованной головой по подушке методом азбуки Морзе: точка – тире – точка… Солдат требует, чтобы его показывали людям – пусть хотя бы в цирке! – чтобы все поняли, как важно бороться за предотвращение повой бойнп.
Врачи отказывают солдату в ого просьбе, говоря, что ему требуется полный покой. Но он понимает – дело не в этом, а в том, что начальство боится его. Да – да, оно боится, что его появление на митингах произведет сильнейшее впечатление и будет содействовать усилению антивоенного движения! Солдат остается пленником жестоких блюстителей порядка – они упрячут его в больницу до конца дней. Сознавая свое бессилие в борьбе с этими стражниками в белых халатах, Джонни требует, чтобы его убили. Но ему отказывают и в этом.