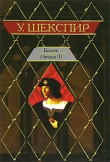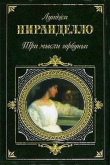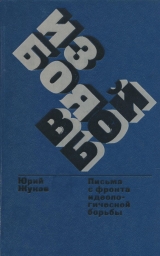
Текст книги "Из боя в бой"
Автор книги: Юрий Жуков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц)
В – третьих, автор окончательно решил сложную проблему своих так называемых двойных героев. Дело в том, что, работая над «Коммунистами», он столкнулся с понятной трудностью: с одной стороны, ему хотелось рассказать о некоторых реально существовавших героях, которые сыграли важнейшую роль в описываемых им исторических событиях, с другой стороны, когда в романе действуют реальные, взятые из жизни люди, возможности творческого домысла, естественно, ограничиваются, и от этого страдает художественная ткань произведения. И вот Арагон в то время решил создать «двойных героев»: они фигурировали то под своей настоящей фамилией, то под псевдонимом.
«Я не мог, например, обойтись без Жоржа Политцера, – поясняет он сейчас, – коммуниста, работника Центрального Комитета и в то же время философа. Потому что Жорж в 1940 году играл роль, которую нельзя было поручить другому: это через Жака Соломона, молодого физика – коммуниста и зятя Поля Ланжевена, министр де Монзи в конце мая передал Политцеру запрос относительно того, какую позицию займет партия, если правительство решит продолжать борьбу против захватчиков. И именно Политцер передал ответ Центрального Комитета Соломону для Монзи, который с ним ознакомился 6 июня. Не могло быть и речи о том, чтобы показать здесь Политцера под псевдонимом, хотя я и ввел персонаж по имени Фельцер, чтобы в плане частной жизни он играл свою роль (в романе) без того, чтобы мне пришлось заботиться о сходстве ситуаций. Таким образом, в первом варианте Политцер сохранял свое имя, в то время как Жак Соломон появился только под именем Филиппа Бормана. Результат – гибридная ситуация, несправедливая в отношении Соломона: это объяснялось тем, что Фельцеру я намеревался отвести определенную роль после освобождения (в последующих романах. – Ю. Ж.) [27]27
Жак Соломон и Жорж Политцер были расстреляны гитлеровцами в 1942 году.
[Закрыть]
Отсюда в новом варианте – исчезновение семи персонажей; Политцер и Соломон отныне выступают под их подлинными именами в той исторической роли, какую они играли в то время».
В – четвертых, Арагон заново пересмотрел все то, что имело отношение к известным колебаниям, которые возникли у коммунистов и сочувствовавших им прогрессивных французов в связи с заключением в 1939 году советско – германского пакта. Как известно, в первом томе «Коммунистов» было весьма широко показано отношение различных слоев населения Франции к этому историче-
скому событию. Были ярко описаны попытки реакции обмануть народ, вызвать у него недоброжелательное отношение к Советскому Союзу, изображена самоотверженная деятельность коммунистов, которые в труднейших условиях того времени разоблачали эту клевету и говорили народу правду. Это был широкий и объективный показ событий, оправданный тем, что, как заявляет сейчас Арагон, тогда, когда писался роман, «мы были недалеки от 1939 года, и для меня, как и для большей части моих товарищей, колебания августа 1939 года оставались вопросами, требовавшими объяснения».
Нынче, когда история поставила все на свои места, по мнению автора, нет нужды уделять в романе этому, хотя и очень важному, событию столько же внимания, сколько уделил он ему тогда. Между прочим, уже в 1953 году ныне покойный И. И. Анисимов в предисловии к русскому изданию «Коммунистов», говоря о том, что в романе широко отражены «судорожные попытки реакции использовать этот пакт для того, чтобы обмануть и дезориентировать простых людей Франции», высказывал мнение, что «читатель вынужден слишком долго задерживаться на постепенном разоблачении провокационных уловок реакции».
«Конечно, теперь, четверть века спустя, – говорит Арагон в послесловии к новому изданию романа, – ни я, ни мои друзья не глядим на вещи темп же глазами. Я их понимаю лучше». И он решил снять целый ряд моментов, относящихся к колебаниям, охватившим французов в августе 1939 года. В частности, он изъял все, что касалось минутного колебания ученого Ланжевена, фигурировавшего в романе под именем Беранже, – «замечательная жизнь великого ученого, каким был Ланжевен, сделала малоинтересной причину разногласий, длившихся каких‑нибудь несколько дней. Это, впрочем, относится не только к Ланжевену».
Так, взыскательно, глубоко продумывая запово все стороны описанных в романе событий, автор продвигался вперед, переписывая заново страницу за страницей. Он беспощадно изымал целые разделы, например четырнадцатую, пятнадцатую, двадцать третью главы первого тома, восьмую главу второго тома. В то же время автор рисовал новые картины, проникнутые глубоким философским раздумьем о пережитом. Волнующее впечатление оставляют, например, заново написанные автором страницы, посвященные катастрофе в Дюнкерке, где зрелище, открывшееся глазам солдат побежденной армии, сравнивается со знаменитой картиной Брейгеля Старшего «Триумф смерти».
А в целом, конечно, «Коммунисты» остались «Коммунистами». Как писал о новой редакции книги литературный критик «Юманите», «этот роман никто и никогда не сможет вырвать из истории, из истории нашей партии, из истории Франции… Это в сущности история, написанная до того, как она стала историей. Эта сама история в действии». И не случайно буржуазная критика буквально немеет, когда доходит до «Коммунистов». Сейчас не 1949 год и ей уже не удалось бы ошельмовать Арагона, как это она сделала тогда, – слишком велик и непререкаем его литературный авторитет в сегодняшней Франции. Ну что ж, остается молчать…
В послесловии к «Коммунистам» Арагон, как я уже отметил, вновь подтвердил свою преданность социалистическому реализму, хотя и подчеркнул, что он против примитивного толкования его и выступает за неустанный поиск нового, требуя места в литературе для «экспериментального реализма». «Экспериментальным» Арагон называет «реализм, способный отвечать на вопросы, которые ставит жизнь, реализм, идущий в ногу с великими открытиями, с новыми науками… Речь идет о реализме, который не может ограничиться констатацией, описанием происшедших событий, простым перечислением их. Для него недостаточно описывать то, что другие видят и без него».
Ну что ж, насколько я понимаю, такой «перечислительный» реализм вовсе не реализм, а самый вульгарный, бескрылый натурализм. Подлинный реализм оставляет широкий простор для поиска новых литературных форм, облегчающих взаимопонимание писателя и читателя и усиливающих эмоциональное воздействие произведения. Главное – это чтобы у автора было за душой нечто важное, что он может и должен сказать читателю, чем он способен обогатить его духовный мир, а не груда формалистических бирюлек, которыми он играет ради того, чтобы щегольнуть мнимой оригинальностью.
Раздумывая о будущем романа, Арагон считает, что он «Должен опираться на открытия поэзии – так же, как другие науки добились прогресса, используя открытия математики. Я сказал бы, – пишет он, – что гипотетически можно предположить, что поэзия – это математика всех видов литературы». Влияние этой «математики всех видов литературы» все сильнее сказывается в последних романах Арагона, и в частности в романе «Бланш, или Забвение», который парижский комитет Объединения литературных критиков расценил как лучший роман третьего квартала 1967 года.
Об этом романе сейчас много говорят и спорят в парижских литературных кругах. «Бланш, или Забвение», конечно, литературное произведение совершенно иного характера, нежели «Коммунисты», – оно обращено к неизмеримо более узкому кругу читателей. «Это книга не простая, но я и хотел выразить пе простые вещи, – сказал Арагон. – С другой стороны, я устал от простоватых вещей». По форме его новый ромаи – сложное произведение: реальное здесь сочетается с воображаемым, многочисленные авторские раздумья переплетаются с переживаниями героев ряда литературных произведений, которыми Арагон дорожит: здесь и «Воспитание чувств» Флобера, и его же «Воспитание чувств», и «Пармская обитель» Стендаля, и «Гипперион» Гёльдерлина, и «Луна – парк» Эльзы Триоле, у которой писатель позаимствовал даже имя своей героини.
Кое‑кто был склонен считать новый роман Арагона «замаскированными мемуарами»: ведь его герой лингвист Шоффруа Гефье родился, как и Арагон, в 1897 году, а в романе нередко вспоминаются события периода от 20–х годов до второй мировой войны, свидетелем и участником которых был автор романа. Но сам Арагон отвергает это толкование. Он говорит, что его роман – это, как всегда, поиск нового, обращенный к молодому поколению.
Итак, Арагон терпеливо, трудолюбиво и настойчиво ищет новые творческие пути. Путь поиска – всегда нелегкий путь, и усеян он не розами, а шипами. Тем большего уважения заслуживает пример этого неутомимого коммуниста с пером в руках.
(К тому моменту, когда эта книга сдавалась в печать, произошли новые события, о которых нельзя не сказать.
16 июня 1970 года судьба нанесла Луи Арагону тяжелый удар: скончалась его жена Эльза Триоле, верный друг и соратник, с которой он прошел бок о бок огромный жизненный путь.
И все же Арагон не согнулся под этим ударом. Он активно продолжает творческую деятельность. В августе 1971 года была опубликована его новая книга «Анри Матисс, роман» – глубокое и сложное произведение, в котором речь идет не только о творчестве Матисса, с которым Арагон и Триоле впервые встретились в 1941 году, когда они участвовали в подпольной борьбе против фашизма, скрываясь от полиции предателя Петэна. Это – большой, свободный и широкий творческий разговор об искусстве, о литературе, о политике, о нашем времени.
Много сил Арагон отдает пропаганде творчества Эльзы Триоле: во Франции устраиваются выставки, вечера, читательские конференции, посвященные ее романам. В то же время он много пишет, работает над новыми произведениями. Являясь коммунистом и членом ЦК ФКП, Арагон по – прежнему активно участвует в общественно – политической жизни. Когда в ноябре 1971 года в Париже была организована демонстрация в защиту Анджелы Дэвис, он шел в первой шеренге, бок о бок с сестрой Анджелы и руководителями французского комсомола. Французская реакция, пытавшаяся несколько лет тому назад заигрывать с Арагоном, сейчас возобновила его травлю. Любопытная деталь: в Париже почти одновременно вышли две книги, в которых Луи Арагона и покойную Эльзу Триоле обливают грязью. Одну из них написал некий Андре Тирион, который в двадцатых годах некоторое время якшался с сюрреалистами, а вторую – ренегат Клод Руа. В то же время в газетах «Монд», «Комба» и в ряде журналов появились статьи, враждебные писателю-коммунисту.
Арагон отвечает клеветникам холодным презрением.)
К чести лучшей, наиболее глубоко мыслящей части французских писателей надо сказать, что им свойственна острая заинтересованность в решении важнейших проблем современности, и прежде всего проблемы войны и мира. Это хочется особо подчеркнуть именно сейчас, когда буржуазные идеологи буквально лезут из кожи, пытаясь уговорить литераторов держаться в стороне от политики, посвящая свой труд лишь копанию в закоулках собственной души и формальным изысканиям.
Нынешний литературный сезон в Париже ознаменовался выходом в свет целого ряда интереснейших политических романов видных писателей, которые сочли своим долгом активно включиться в борьбу против сил войны, угнетения и реакции, и прежде всего против американского империализма.
Начну с романа Робера Мерля [28]28
Робер Мерль еще в 1949 году получил Гонкуровскую премию за роман «Уик – энд на берегу океана». В последующие годы писатель создал ряд выдающихся произведений, в том числе хорошо иззе-стный советскому читателю острый и мужественный антифашистский роман «Смерть – мое ремесло».
[Закрыть] «Животное, одаренное разумом», с отрывками из которого советский читатель ознакомился благодаря публикациям «Литературной газеты» и журналов «Иностранная литература» и «За рубежом». В октябре 1969 года роман был опубликован издательством «Молодая гвардия» под названием «Разумное животное». Сам Мерль охарактеризовал этот роман как «политико – фантастический»; однако содержание его настолько актуально, что читатель воспринимает это произведение не как фантастику, а как злободневное предупреждение о той страшной угрозе человечеству, которую представляют собой действия американской военщины.
Напомпю, о чем идет речь в романе: в одной из секретных лабораторий во Флориде, субсидируемой государственным агентством, американский профессор Генри Севила (во многом напоминающий Оппенгеймера!) в окружении целой группы ученых изучает дельфинов. Обнаружив у них поразительные способности, он начинает учить чету дельфинов Фа и Би английскому языку. Профессора интересует чисто научная сторона дела. Но вскоре Севила обнаруживает, что тут что‑то нечисто. За его работой следят две соперничающие между собой службы безопасности; Пентагон, по – видимому, хочет использовать дельфинов в военных целях.
Фа и Би овладевают речью человека. Но Севила уже не рад своему блистательному успеху: он все больше сознает, что невольно стал орудием в осуществлении каких-то страшных планов. В это время его помощника Майкла Гилхриста бросают в тюрьму за отказ отправиться воевать во Вьетнам. Севила пытается его защитить, но тщетно. Теперь уже сам профессор попал под подозрение, и его не допускают к дельфинам. Он вынужден уйти.
С группой самых верных учеников Севила основывает на одном из островков близ Флориды новую лабораторию.
Но тут приходит страшная новость: близ берегов Вьетнама от взрыва атомной бомбы погибает американский крейсер «Литтл Рок», и президент США выступает с поджигательской речью, заявляя, что Америка должна «с божьей помощью» защитить свободу и демократию. Он предъявляет социалистическим странам ультиматум, а кардинал Минитмен, ссылаясь на священное писание, заявляет, что бог требует, чтобы избранный им народ превратил в пыль своих врагов, а каждый «истинный американец» убежден, что бог избрал именно народ США. Значит, с красными церемониться нечего.
Профессор Севила смутно догадывается, что взрыв крейсера «Литтл Рок» – это провокация. Опасения Севилы подтверждают с трудом доплывшие до островка его верные друзья – дельфины Фа и Би. Это их американская секретная служба заставила, натренировав предварительно, подвести под днище своего крейсера атомную бомбу. Они должны были погибнуть, как погибали во время второй мировой войны собаки, бросавшиеся с минами под танки. Но умные дельфины сумели вырваться из упряжек и умчаться к своему другу профессору, чтобы рассказать о том, что произошло. И вот, чудом ускользнув от преследователей, профессор Севила и его друзья в сопровождении этих двух необычайных свидетелей и невольных участников провокации мчатся на скоростном катере, чтобы перед всем миром разоблачить поджигателей ядерной войны…
Стремясь подчеркнуть актуальность угрозы, которую навлекает на весь мир американская военщина, Мерль вмещает действия, развертывающиеся в романе, в точные рамки времени: события начинаются 28 марта 1970 года и заканчиваются в ночь с 8 на 9 января 1973 года [29]29
В конце 1970 года Мерль опубликовал роман «За окном» – о революционной борьбе французской молодежи. Он был посвящен памятным событиям мая 1968 года. А весной 1972 года Мерль вернулся к жанру «политической фантастики» – написал роман «Малевиль»; это – драматическое произведение о том, что сталось бы с человечеством, если бы разразилась мировая термоядерная война: немногие выжившие люди дичают и возрождаются худшие времена средневековья.
[Закрыть].
По словам Мерля, его роман соединяет философскую традицию французского романа с политической фанта-
стикой. «В этом смешении нет ничего искусственного, – говорит он. – Кстати, это смешение сказывается и на моих чувствах в отношении США, о которых так много говорится в романе. У кого, впрочем, авантюристическая политика руководителей этой большой страны не вызывает чувство тревоги за будущее нашей планеты?»
Этим глубоким чувством тревоги за будущее нашей планеты проникнут и другой интереснейший роман нынешнего литературного сезона в Париже – «Рождественская елка» Мишеля Батая. На его обложке помещена своего рода философическая памятка, обращенная к читателю, в которой говорится:
«Рождественская елка – это большой современный тотем. Говорят, что на ветвях индустриальной цивилизации подвешены разноцветные подарки на счастье для всех. Но на нем висят также атомные бомбы, взрывная сила которых такова, что приходится в среднем по 20 тысяч килограммов классической взрывчатки на каждого человека».
«Рождественская елка» – это великолепно написанная пером опытного писателя [30]30
Мишель Батай еще в 1947 году был удостоен премии Стендаля за роман «Патрик». Большой популярностью во Франции и за границей пользуются его романы «Пять дней осени», «Небесный огонь», «Пирамида на море» и другие.
[Закрыть] книга о страшной угрозе человечеству со стороны американской авиации, совершающей круглосуточные полеты над чужими территориями с ядерными бомбами на борту. Ее сюжет навеян трагедией испанской деревушки Паломарес, близ которой рухнул на землю американский самолет Б-52 с четырьмя термоядерными бомбами на борту.
Одинокий парижанин Лоран – его жена внезапно погибла год назад – проводит свой отпуск вдвоем с единственным сыном, маленьким Паскалем, где‑то на юге Корсики. Последний день… Лоран с Паскалем, найдя уединенный пляж, устраиваются там и выезжают в море на лодке порыбачить. И вдруг в небе вспыхивает яркая желтая точка, доносится глухой гул и внезапно налетевший откуда‑то легкий бриз подергивает волпы рябью.
– Папа, это летающая тарелочка?
– Все может быть, но вряд ли…
– Смотри!
В небе возникают черные точки, потом они быстро увеличиваются в объеме, и вот уже обломки самолета и ядерные бомбы падают в море.
– Мне холодно, – вдруг жалобно восклицает Паскаль, обхватив плечи руками…
Мгновение – и мальчик обречен на гибель: его затронул всплеск страшной радиации, ему остается всего три месяца жизни.
Автор показывает, как американское посольство предпринимает чрезвычайные усилия, чтобы скрыть катастрофу, хотя возможны страшные последствия. «И не удивительно, – пишет он, – если упавший самолет – атомный бомбардировщик стратегической авиации США, то хвастать тут нечем». Но если хоть одна из бомб, лежащих на дне моря, взорвется… «Тем, кто не испарится мгновенно па месте, тем, кто на расстоянии до сорока километров не сгорит дотла, тем, у кого не вытекут глаза от того, что они с расстояния ста километров взглянут на веселые огни этой рождественской елки, еще повезет: они будут умирать медленнее; люди будут погибать на протяжении целых ста лет после этого маленького праздника техники и войны».
Когда врач сообщает отцу, что его ребенок обречен, он приносит в жертву все, что у него есть, чтобы скрасить ему эти последние три месяца жизни. У ребенка неожиданная страсть: он интересуется волками. Отец вдвоем с приятелем похищает волков в зоопарке и привозит их в замок в Оверни, где ребенок проводит свои последние дни. Немыслимая, нереальная ситуация? Может быть. Но автору хочется показать, что даже волки лучше людей, сеющих семена мучительной смерти над чужими землями. Паскаль умирает, играя с волками…
Роман Мишеля Батая высоко оценен парижской прессой. Он получил два голоса в жюри Гонкуровской премии при голосовании в 1967 году. Ему присуждено Золотое перо газеты «Фигаро». И все же, по – моему, глубоко прав Андре Стиль, заявивший, что Мишель Батай, написав «почти шедевр», «прекрасную, полную величия книгу о великой тревоге людей», сам нанес серьезный удар своему детищу, уклонившись от того, чтобы «сказать, что должны делать люди на своей земле перед лицом столь хорошо показанной опасности».
Его герой подавлен обрушившейся на него опасностью.
Атмосфера, которой дышит книга, отравлена ощущением безнадежности. Волки, которые, как казалось вначале, случайно забрели в роман, постепенно захватывают все большее и большее жизненное пространство в нем. Гордые и сильные, они неизмеримо выше человека.
«Паскаль умирает в день рождества среди волков – меж волком и волчицей. И это они – волчья чета – подойдут вместо ребенка к предназначавшейся ему елке, чтобы молча полюбоваться ее огнями… – пишет по этому поводу критик «Леттр франсэз» Тристан Рено. – Мишель Батай стремился показать нам в этой жестокой и часто мучительной сказке, что лишь волки владеют секретом, утраченным человеком, в душе которого смертельный страх перед ядерным разрушением вытеснил страх предков перед зверьми… Человек отрекся от самого себя… Из волка он превратился в собаку… Волка можно поймать в ловушку, запереть в клетку, убить, но никогда, никогда, никогда не удастся приручить или обуздать». И Тристан Рено с горечью заключает, что вывод Мишеля Батая таков: «Настоящий человек в наше время встречается столь же редко, как и волки».
Правда, Лоран всем сердцем восстает против злой и бессмысленной участи, которая внезапно и жестоко обрушилась на его сына. «Я ненавижу армию, я ненавижу войну, я ненавижу бомбы, одна из которых отравила кровь моего сына», – восклицает он. Но у него не хватает силы осудить убийц Паскаля. «Конечно, производство атомных бомб – это преступление, наихудшее из всех, которые когда‑либо совершались, – рассуждает Лоран, но тут же заключает: – Но кого судить? Надо плакать. Надо во плоти своей ощутить стыд, стыд за кого‑то, потому что они (те, по чьей вине погибает его сын. – 10. Ж.) тоже люди и их позор автоматически становится нашим – позором для всего человечества».
Только плакать?! Но этот вывод находится в острейшем противоречии с самим романом, который – независимо от того, хотел этого автор или нет, – зовет к борьбе с термоядерными убийцами невинных детей.
Да, Лоран, преуспевающий парижский делец, оказался не в состоянии сделать логический вывод из той катастрофы, жертвой которой стал его сын, и это закономерно. «Я не хочу изменять мир, – говорит этот верный сып своего класса. – Я люблю его таким, каков он есть».
И в Испании, после того как американские ядерные бомбы упали у Паломареса, и в Дании, когда американский ядерный бомбардировщик рухнул со своим смертоносным грузом у гренландских берегов, правящие классы предпочли склониться перед этим роком, исходя из тех же соображений. Но нашлась же в Испании мужественная женщина – герцогиня де Сидония, которая сумела понять всю глубину угрозы и вопреки классовой солидарности с американскими защитниками капитализма начала вместе с крестьянами протестовать и требовать прекращения полетов американских бомбардировщиков над чужими землями! Она пошла в тюрьму, но не сдалась. Я уже не говорю о массовых, поистине всенародных протестах во всех странах Европы, организованных борцами за мир…
Мишель Батай нанес серьезный урон собственному роману, оставив все это, как говорится, за скобками и ограничившись во второй его части показом лишь того трагического микромира, в котором задыхаются обреченный ребенок и его несчастный отец в компании двух волков, украденных в зоопарке. И все же его произведение остается смелым политическим романом. Он заставляет читателей взволноваться, встревожиться и серьезно задуматься о том, какую огромную угрозу человечеству таит в себе грубая и бесцеремонная американская военщина, претендующая на роль мирового жандарма[31]31
В 1971 году Мишель Батай опубликовал новый политический роман, написанный на сей раз в форме фантастической философской сказки, – «Дикий кот». Тема романа – конфликт поколений в современном буржуазном обществе.
[Закрыть].
Газета «Юманите», учредившая свою литературную премию – премию имени Поля – Вайяна Кутюрье, в свою очередь увенчала ею политический роман, направленный на разоблачение американского империализма, но еще более острый и последовательный, нежели «Рождественская елка» Мишеля Батая, – это небольшой роман молодого писателя Эрика Вестфаля, вызывающе и полемически названный «Демонстрация».
Я прочел эту книжку, изданную Галлимаром, залпом, в один присест. Сюжет ее несложен: французский студент, путешествующий с попутным транспортом по Америке, случайно становится в городе Атланта свидетелем мощной демонстрации негров, требующих гражданских прав. Он оказывается втянутым в круговорот грозных событий. В разгар демонстрации озверелый расист, укрывшийся за железными ставнями своего магазина, убивает выстрелом из ружья возглавляющего демонстрацию негритянского священника, верившего в успех ненасильственных действий. Начинаются беспорядки. В город вступают войска. Происходит страшная бойня. Президент США лицемерно выражает сожаление и объявляет день национального траура.
Вы скажете: да ведь это рассказ об убийстве доктора Кинга. Действительно, очень похоже, но события, связанные с убийством Кинга, разразились в апреле 1968 года, а роман Эрика Вестфаля вышел в свет за полгода до этого – осенью 1967. «Я начал писать свой роман еще в 1964 году, – говорит автор. – Я был тогда в Америке, увидел своими глазами все то, что теперь описал, и мне захотелось выпустить в свет книгу, которая прозвучала бы как предупреждение».
Как видим, предупреждение оказалось пророческим. Совпало все, вплоть до деталей. Только Кинг был убит не в своей родной Атлапте, а неподалеку оттуда – в Мемфисе, и в Атланту его привезли хоронить…
В этом небольшом увлекательном романе, написанном в прозрачно – ясной манере, упругим, динамичным языком, Эрик Вестфаль гневно разоблачает пресловутый «американский образ жизни», бичует тупоголовых и злых расистов, с любовью изображает героев борьбы за гражданские права. Это Америка, как она есть, Соединенные Штаты образца 1968 года, хотя роман, повторяю, был написан раньше. И звучит «Демонстрация» столь актуально, что после убийства Мартина Лютера Книга газета «Юманите» начала публиковать полный текст этого романа, главу за главой, из номера в номер. Право же, завидна участь писателя, когда злободневность его произведений с течением времени не только не ослабевает, но, напротив, усиливается!
Ряд романов, ставших событиями этого сезона, посвящен борьбе колониальных народов за свое освобождение. Среди них я назову отмеченный премией Ренодо роман Сальва Эчара «Мир, как он есть» – о Мартинике; уже упомянутый мною роман Филиппа Лабро «Плохо погашенные огни» – об Алжире; роман Пьера Гюйота «Могила для 500000 солдат», переносящий нас в некую воображаемую страну, в которой угадываются черты Вьетнама; наконец, роман Анри де Монтерлана «Роза песков», созданный на материалах событий тридцатых годов в Марокко (роман был написан тогда же, но полностью опубликован лишь сегодня).
Это очень разные и противоречивые по своему характеру произведения, и мне остается только пожалеть, что из‑за недостатка места не удается подробпо поговорить о каждом из них. Пока же хочется отметить главное: французские писатели, исповедующие самые различные и подчас противоположные убеждения, прониклись сознанием того, что колониальный режим обречен на полное уничтожение и что американский империализм, упрямо пытающийся продлить его существование, используя грубое насилие, потерпит неизбежный крах. Конечно, не все авторы названных мною произведений – и меньше всего Монтерлан – готовы сделать этот вывод в столь ясных и определенных выражениях. Но сама внутренняя логика их произведений подводит читателя именно к такому заключению.
Сальва Эчар, французский баск из Бордо, живет на Мартинике уже четырнадцать лет. Он вложил в свою книгу глубокое знание ее истории, и особенно истории революционной борьбы. К сожалению, он отдал дань модной в наше время манере «автоматического письма» – в его книге фразы внезапно обрываются на полуслове, настоящее время переплетается с прошлым и будущим, реальное – с ирреальным, действующие лица смешивают воедино свои воспоминания и действия, мечты и свершения.
Подчас начинаешь испытывать усталость и раздражение, вызванные этим нарочито усложненным письмом. И вдруг перед тобой открывается страница, написанная острым, четким, саркастическим языком, убийственно рисующая нравы колонизаторов, и ты готов простить за это автору многое.
Роман многопланов, и в нем уйма действующих лиц. Одна из наиболее интересных его линий – это рассказ об убийстве «блюстителями порядка» доктора Алена Аликапта, который основал газету «Голос трудящихся» и организовал первую коммунистическую группу на острове. Доктору Аликанту противопоставлен всемогущий капиталист ле Понте де Курно – именно он распорядился уничтожить вожака коммунистов.
В той же сложной манере написан роман Пьера Гюйота, на котором лежат отблески мрачных видений Апокалипсиса XX века: «могилой для 500000 солдат» является пекая воображаемая страна Иноменас. Книга переполнена тщательными и подробными описаниями пыток, насилий, убийств. Роман разделен на семь «песен». В «Могиле» находишь исторические и социальные ситуации, которые легко расшифровать: описанные в ней широкими, кровавыми мазками народпые восстания, военный путч, карательные экспедиции, вырождение марионеточных властей невольно заставляют вспоминать то о Южной Корее, то о Вьетнаме, то об Алжире времен национально – освободительной войны.
Надо честно, однако, сказать, что тягучая манера, в которой написана книга, доходящее до болезненности увлечение автора подробнейшими описаниями пыток, насилий и убийств, которые повторяются бесчисленное количество раз, какой‑то рваный и к тому же тусклый стиль делают эту книгу малодоступной для читателя; надо совершить большое усилие, чтобы заставить себя дочитать этот объемистый том до конца.
Совершенно в иной манере ведет рассказ о событиях в том же Алжире Филипп Лабро в романе «Плохо погашенные огни», о котором я уже упоминал. Это реалистический рассказ тридцатилетнего журпалиста о юности его поколения, опаленной страшной, несправедливой колониальной войной. Филипп Лабро служил в Алжире с 1960 по 1962 год. Двадцать три тысячи четыреста пять его ровесников там погибли, пятьдесят тысяч триста семьдесят шесть были искалечены. Ради чего? Ради несправедливого дела. Ради интересов колонизаторов. И они проиграли эту войну.
Филипп Лабро не приукрашивает того, что произошло, не пытается оправдать себя и своих ровесников, бездумно выполнявших приказы начальства. Двадцатилетний герой романа, только что вернувшийся из путешествия по Америке, вдруг попадает в армию, и его посылают в Алжир. Высадка происходит в солнечный день. Это создает у солдат празднпчпое настроение. Война для них – это кровь, но чаще всего кровь других, а не собственная. Это трудная война, но война под солнцем, а не под дождем и сне-
nом и к тому же не каждый день. Это ужас и пытки, но это в то же время доступные веселые девушки и свободные часы, которые можно проводить на пляжах…
Надолго запоминается такая, например, страничка романа: каждое утро с тюремного двора взлетает геликоптер, чтобы сбросить в море очередной груз мертвых тел или агонизирующих жертв пыток. Он пролетает над теми молодыми людьми, которые, сняв военную форму, нежатся на песке пляжа, зная, что происходит. Лабро напоминает, что несколько сот тысяч тридцатилетних французов и сегодня вздрагивают, когда над пляжем, где они лежат, проводя каникулы у моря, проносится случайный геликоптер.
Лабро не спешит морализировать. Он лишь констатирует факты. Но эти факты, тщательно подобранные и изложенные в лаконичной манере, унаследованной от Фицджеральда и Хемингуэя, поклонником которых является автор, говорят сами за себя. «Несправедливо, что эта книга не получила одной из крупнейших премий», – заметил в «Юманите» Андре Стиль. Но от того, что жюри обошло роман Филиппа Лабро своим вниманием, он не стал менее интересным…
Особняком стоит роман «Роза песков», принадлежащий перу находящегося на правом фланге французской литературы семидесятидвухлетнего академика Анри – Мари-Жозефа Мийона де Монтерлана – он гордится тем, что на его фамильном гербе изображены две шпаги, скрещенные под пылающей башней.