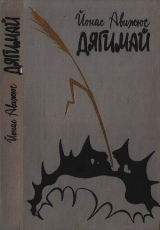
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)
V
До обеда еще так-сяк, но вечером минуты тянутся часами, а часы кажутся просто вечностью. И так всегда по воскресеньям, когда Даниелюса нет дома. Юргита верила: родит, и будет легче. Теперь Лютаурасу три годика, с ним и впрямь веселей, но Даниелюса она ждет с прежней тревогой.
Юргита садится к зеркалу, смотрится. Недурна… Да, пока еще вроде бы недурна. Черные глаза сверкают молодо, лицо гладкое… конечно, если хорошенько всмотреться, можно и морщинку найти. Пройдет лет десять – пятнадцать, и ей как женщине каюк… С помощью косметики можно, пожалуй, и больше протянуть, но чувства… чувства никакой косметикой не подновишь. Когда-нибудь и ко мне придет усталость, и сердце осенним холодком ужалит, и все вокруг предстанет как за пыльным стеклом. Матовая любовь… Матовые чувства, радость, счастье. К чему ни прикоснешься, все будет как бы захватано онемевшими пальцами. Не сбудутся ли тогда слова языкастой злючки: «Сначала все мы любим и счастливы, а наши мужья удивительны…»
«Бог ты мой, что за дурацкая переменчивость? Еще сегодня ночью я шептала Даниелюсу, что счастлива. К чему же эти черные мысли, это недовольство? Зачем я отравляю себе жизнь, отпугиваю радость? Другие благодарны судьбе, если им перепадает какая-нибудь кроха, а у меня есть почти все, и я хочу еще чего-то вдобавок… Подай мне абсолютное счастье, и все!»
Юргита виновато улыбается. Вытирает надушенным носовым платком глаза, другой рукой тянется за помадой. Кажется, черная туча прошла мимо, в просветах сверкнуло солнышко, заголубело небо…
И действительно, не прошло и получаса, как из зеркала на нее смотрела уже другая женщина: хорошенькая, игривая, свеженькая, следы недавней печали придают еще больше обаяния ее лицу. Черные волосы, длинная – из фиолетового бархата – юбка, пышная сиреневая блузка из муслина, туфельки на высоких каблуках… На шее – шикарные бусы (подарок Даниелюса, привез из туристической поездки в Индию).
«Знаешь, милая, я почти довольна тобой. Даниелюсу не должно быть стыдно перед другими мужьями… жена у него что надо!»
Юргита улыбается. Улыбка становится все ясней, все веселей, все шире. Правда, что-то ноет в груди – видно, печаль ожидания…
Горячим трепетом окатывает ее телефонный звонок («Господи, что-нибудь с Даниелюсом?..»). Нет, опять незнакомый женский голос.
Юргита с минуту сидит растерянная и прибитая хлесткими обидными словами. Потом медленно, как лунатичка, кладет на рычаг трубку. Оттуда, кажется, еще доносится злобное шипенье.
В последнее время такие нападки стали редкостью, потому-то, наверное, они и ранят так больно. Она устала и от анонимных звонков, и от оговоров, и от зависти, и от хамства – от всей этой гадкой, омерзительной грязи, которая обрушилась на них в тот день, когда стало известно об их свадьбе. Правда, были и такие, которые желали им добра, которые от души поздравили их и приняли в свой круг, но, видно, так уж заведено: ласка никогда не оставляет таких глубоких следов в душе, как жестокость. Кроме того, доброта застенчива, многие прилюдно и не выказывают ее, между тем низменные страсти (жажда мести, ревность, ненависть, неприязнь неудачника к счастливцу) ни с чем не считаются, так и прут наружу.
Юргита с детства была оптимисткой, она бесконечно верила людям и никак не могла взять в толк, что же плохого им сделала, почему они к ней так несправедливы и жестоки. Особенно женщины. Глядишь, знакомая, никогда не отличавшаяся добродетелью, но оставшаяся одинокой, встретит ее и, слащаво улыбаясь, скажет: «Как я рада, дорогая, как я рада. Такому мужику голову вскружила! Тебе, видно, нелегко было его приручить. Ничего, сумела позаботиться о своем будущем… Прими мои поздравления!» Другая ту же песенку поет… Только добавит: ты, Юргита, не зевай, держи своего старика в ежовых рукавицах, нынешние мужики такие… А третья, любившая когда-то, глядишь, тоже ушат помоев выльет, потому что у нее все в прошлом, а у тебя глаза сверкают, и ты счастлива. «Когда-то мы все были счастливы и любимы, а мужья наши удивительны. Во всяком случае строили из себя счастливых… А что же такое счастье для замужней женщины? Спокойная и обеспеченная жизнь… Тебе крупно повезло, Юргита».
Да, повезло… Очень даже повезло! Только, конечно, не в том смысле, как вы, несчастные, думаете. А самой любить и быть любимой!
И все-таки были минуты, когда достаточно было малейшей зацепки (а порой, кажется, и без всякой зацепки), и сердце начинало бешено колотиться от внезапного подозрения: «А вдруг это все только иллюзия? Однажды утром откроешь глаза и убедишься, что царевич твой – обыкновеннейший пастух, только ты, ослепленная своей мечтой, приняла посох в его руке за царский скипетр…» Ведь так уже случалось. И не раз. Правда, под внешним лоском она сразу угадывала пустоту, угадывала еще задолго до близости, однако каждое такое разочарование, пусть и неглубокое, пусть кратковременное, оставляло в душе рану или ссадину. Ей не давала покоя удивительно живучая мысль о том, что любовь – это временное чувство, подобное извержению вулкана. На такие мысли наталкивали ее и вечные жалобы подруг, недовольных своими мужьями: один, мол, настолько ушел в работу, что даже жену не видит; другой стал изменять… А ведь большинство из них когда-то свела и связала любовь, большинство из них парило когда-то в облаках. Почему же все так обернулось? Неужто брак – могила любви? Нет, нет, настоящая любовь вечна. Какое это счастье встретить достойного, глубоко понимающего и любящего тебя человека, умеющего ради тебя (как, впрочем, и ты ради него) пойти на любую жертву! Разве не в этом смысл истинной любви? Любви, закаленной долгим и терпеливым ожиданием, любви, подаренной тебе его величеством Случаем, который ты, к радости твоей, не прозевала. Это и впрямь чудо – встретить своего суженого на шумных перекрестках жизни. Но коли судьба не судила тебе такой встречи, то не кляни ее, не поноси, ибо куда лучше остаться одинокой, чем мучиться вдвоем без любви.
Большая любовь Юргиты, о которой она так мечтала, пришла к ней неожиданно, вдруг, с первого взгляда. Как и для него, Ричардаса, серьезного, порядочнейшего семьянина, талантливого инженера, всегда осуждавшего случайные связи. В ночном мраке ярко вспыхнула искра, и они слепо бросились на нее, как две беззаботные бабочки.
Судьба как бы поглумилась над ними. Дело в том, что незадолго до их встречи Ричардас стал жертвой случайной истории: познакомился с женщиной, увлекся и вынужден был жениться, поскольку та ждала ребенка. Он ужасно терзался, ругал себя, что из-за карьеры уступил давлению своего начальства. Юргита старалась понять и оправдать его компромисс с совестью, но не могла подавить в себе гнетущего чувства недоверия к своему возлюбленному. И все-таки верила, что нашла то, к чему всю жизнь стремилась, чего желала, – свой идеал любви. Любовь! О, могучее, ни с чем не сравнимое чувство! И в твоем, и в его сердце горит огонь любви, и твое, и его сердце полно благородства и жертвенности – не это ли дает человеку крылья? Правда, тебя подстерегают и опасности: можешь грохнуться с головокружительной выси на землю. Юргита тогда и не думала о ее гибельном притяжении. А если это ей порой приходило в голову, то, не желая омрачать свою жизнь, которая конечно же не была сплошным праздником, бездумно отдавалась судьбе. Юргиту унижало то, что она должна делиться крохами счастья с другой, даже не подозревавшей, что ее обманывают. Это не вязалось с прямой натурой Юргиты, вызывало в ней отвращение к самой себе, повергало в отчаянье, и постепенно она свыклась с мыслью, что не счастье, а страданье является спутником любви. Юргита поняла: Ричардас не может отказаться от предложения отправиться на работу за рубеж, где открывалась широкая перспектива для его способностей и карьеры. Ей стоило большого труда совладать с собой и не крикнуть: не уезжай, если тебе дорога наша любовь! Она слишком крепко любила, чтобы требовать от него такой жертвы. Прощаясь с ней, Ричардас сказал: ты единственная женщина на свете, которая понимает меня. «А ты меня?» – спросила она взглядом. Да, и он ее понимал, он знал, что обрекает ее на одиночество и том – тельное ожидание, однако и ему предстояла та же печальная участь.
«Забыть… как можно скорей забыть… забыть…» – механически, как заученную в детстве молитву, повторяла она, понимая, что только забвенье может спасти ее от бессмысленной, изнурительной тоски.
В поисках забвенья она и отправилась в тот тишайший курортный городок, где познакомилась с Даниелюсом. Вернулась оттуда успокоенная, но ненадолго… Теперь ее единственным утешением были воспоминания, будоражившие душу, и редкие телефонные звонки. Чувства их постепенно блекли – она это поняла по его голосу, когда он сообщил по телефону, что возвращается из-за рубежа в Вильнюс. Навсегда. «Уехал возлюбленным, а возвращается любовником», – ужаснулась Юргита.
Прихватив с собой самое необходимое, она поехала на взморье. Добиралась целый день (стояла поздняя осень, рано темнело), но дорога не наскучила: охваченная своими мыслями, которые изредка рассеивал мелькавший за окном вагона пейзаж, она и не заметила, как пролетело время – о нем напоминали только громоздкие часы на вокзалах, показывавшие бог весть что. Приехав в приморский город, Юргита сняла в гостинице номер, разделась, легла спать, и всю ночь ей снились вокзальные часы, голубые стрелочники, размахивающие оранжевыми флажками. Они смеялись и махали флажками… Махали ей, проехавшей добрых три сотни километров и счастливо прибывшей на место. Проснулась она в странном состоянии. Острое чувство одиночества, невеселые мысли («Надо было самолетом, вдруг разбился бы…»). Но сквозь сумятицу, сквозь хаос противоречивых чувств, как блеклый осенний луч сквозь тучу, пробивалась успокоительная мысль о том, что Вильнюс, город ее страданий, остался где-то далеко-далеко…
Берег моря, куда Юргита отправилась после завтрака, был совершенно пуст. Только волны, грохоча и пенясь, накатывали на песок, да стужа леденила пасмурное небо. Вдали виднелся белый корабль, одинокий отшельник в бушующем морском просторе, кишащем уймой невидимых опасностей, и Юргите было приятно чувствовать под ногами землю. Неистовствовал ветер, гудел в ушах, сбивал с ног, обдавая ледяными брызгами, но она упрямо продолжала идти вдоль берега, прислушиваясь к грозному гулу волн и как бы отдавшись суровой ласке стихии. Изредка Юргита поворачивалась спиной к ветру, вглядывалась в замысловатую вязь своих следов, то и дело исчезающих под белесой пленкой пены. На обратном пути буря и вовсе разыгралась, но теперь ветер дул в спину, и Юргита должна была сопротивляться, чтобы не упасть. В голове было пусто, ясно, покойно – ни одной мысли, только неумолчный гул моря в ушах, и – насколько хватал глаз – студеное пространство. Даже рыбачьи избы, видневшиеся в просветах прибрежного сосняка, и те казались совершенно пустыми. Какой-то человек, единственное живое существо, шел ей навстречу, и полы его куртки призрачно трепыхались на ветру, как крылья диковинной птицы, но и он внезапно исчез среди кабин для переодевания, словно сквозь землю провалился, и Юргита даже усомнилась, видела она его на самом деле или он только померещился ей?
Она уехала автобусом после обеда и всю дорогу чувствовала грозное неистовство морской стихии, явившейся ей недавно во всем своем величии… Вышла она в курортном городишке, где когда-то познакомилась с Даниелюсом, заметив в окне знакомый пейзаж. В памяти мелькнули сосняк, потонувший в снегу, прыткая белка, перескакивающая с ветки на ветку. Она услышала, как монотонно долбит толстенную кору дятел… Уютное и надежное прибежище – словно жарко натопленная среди зимы комната, где она в детстве, сделав уроки, любила сидеть и слушать музыку.
На другой день Юргита уехала в Вильнюс. Уехала, исходив вдоль и поперек все улочки этого тишайшего, почти игрушечного городка, всласть побродив по парку, по извилистым тропинкам, усыпанным сосновой хвоей и жухлыми листьями, побывав в санатории и у источника целебной минеральной воды, где собирался пестрый, разношерстный люд, хлынувший сюда со всех концов страны, чтобы поправить свое здоровье.
Вагон, как и обычно в межсезонье, был почти пуст. Напротив нее сидел молодой – примерно ее возраста – парень и что-то бойко рассказывал пожилой паре, мужчине и женщине, слушавшей его очень внимательно. Некоторые долетавшие до слуха фразы привлекли и ее внимание. В другой раз Юргита не стала бы подслушивать чужие тайны, пересела бы куда-нибудь подальше, но сейчас была абсолютно равнодушна ко всему. Подумаешь – невидаль: парень родом из Епушотаса (кажется, это родина Даниелюса Гириниса), правда, в Епушотасе давно не живет, а на курорт ездил, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье. Хотя ему, пожалуй, грех жаловаться, кости его, мол, давным-давно истлели бы в земле, он бы света белого не видел, если б не какой-то Жгутас-Жентулис, в ту пору народный защитник; это он вынес его вместе с братишкой из горящего дома, который подпалили проклятые лесовики, порешившие до этого его бабушку, дедушку и отца, председателя только что народившегося колхоза. Да, да, одобрительно кивали головой мужчина и женщина, слушавшие его с прежним вниманием и засыпавшие словоохотливого попутчика массой всяких вопросов, которые помогли Юргите окончательно разобраться в его истории: мать рассказчика чудом уцелела, на другой день после убийства собрала она, значит, косточки своих близких, выгребла их из неостывшей золы, сложила в гроб, сколоченный сердобольным соседом, и сама зарыла, потому что селяне, напуганные бандитами, не отважились ей помочь.
Когда Юргита вернулась в Вильнюс, она еще долго вспоминала того парня, которому какой-то смельчак подарил жизнь. Пылкое воображение, распаленное его рассказом, воссоздавало сцены кровавой, разыгравшейся той ужасной ночью драмы, перед которой блекли все ее собственные переживания и неудачи. В зловещей полночной тишине она видела полыхающий огненный куст, взметнувшийся в черное поднебесье и расцветший призрачными, пляшущими языками пламени, и великана, выходящего из него с двумя невинными детьми, прижатыми к широкой груди, в которой бьется бесстрашное сердце, сердце, которое замолкло бы навеки, рухни несколькими мгновениями раньше горящая крыша избы. Ранней весной, когда по заданию газеты Юргита отправится в Епушотас и неожиданно наткнется на такой материал о Жгутасе-Жентулисе, что не написать о нем не сможет, выяснится, что был он не великаном, а низкорослым, хотя и плечистым, мужчиной, на которого, по словам знавших его женщин, и «смотреть-то нечего». Но для мальчишки, который в ту ночь льнул к груди своего спасителя, Жгутас-Жентулис был ни с кем не сравнимым великаном. Он стал как бы олицетворением жизни отца, дедушки, бабушки, матери, которая только через несколько часов прибежит из леса, чтобы помолиться над грудой горячего пепла. Был он, наконец, для него олицетворением мира, хотя этого он своим детским умом не понимал; будущего, счастливых и несчастливых мгновений, уготованных ему судьбой, того магического клубка нитей, имя которому время и которое он, добрый великан, подхватил своими могучими руками на самом краю пропасти…
Впервые после нескольких бессонных ночей кряду Юргита как следует выспалась. Проснулась, но ощущение сна, образ курортного городишки еще тревожили сознание. Своим гудом навевали покой сосны. Над их кронами плыли косматые осенние облака.
Раздался телефонный звонок. Раз заверещал, второй. Настырно. А-а, Ричардас? Вернулся? Привет, привет… Он удивился, струхнул даже: что случилось? почему твой голос такой странный?.. Ничего, ответила она, я долго и тяжко хворала, но, слава богу, оклемалась наконец. Да, да, оклемалась… Все в порядке… Будь он повнимательней, он бы в словах и голосе Юргиты почувствовал горечь… О чем уж Ричардас точно не подумал, так о том, что голос Юргиты как бы ставит крест на их прежней любви. Он, видно, и сейчас не сомневался в этом, потому что тут же предложил встретиться. Юргита включила транзистор. Оркестр Берлинского радио играл вальс Гофмана «Беатриче», мелодия звучала печально, навевала горестные и скорбные воспоминания, но Юргита слушала ее отрешенно. «Все, – решила она, поднимаясь с софы, когда Ричардас позвонил в дверь. – Кости моих близких давно сгнили, а крест на их могиле скособочился…»
Он сразу понял все. У него дрожали руки, когда он открывал саквояж, доставал оттуда розы и клал их на стол. Ему хотелось обнять Юргиту, но взгляд ее оттолкнул его. «Слишком долго мы ждали друг друга», – сказала она. Ричардас глубоко вздохнул, молча оглядел комнату, словно прощаясь навсегда с каждым предметом. Он не сводил глаз с тоненькой, стройной фигурки Юргиты, казавшейся в черном платье стройней, чем всегда, с ее белой шеи, с ее крохотных красивых рук. На безымянном пальце левой руки сверкал старинный серебряный перстень – подарок бабушки – с огромным черным агатом. «Я хотел привезти тебе какой-нибудь сувенирчик. На память, – сказал он. – Но подумал: ты не приняла бы его… Ты никогда ничего от меня не принимала. Столько лет любим друг друга, а у тебя никакого подарочка на память…»
Юргита ничего не ответила. «И никакого подарочка на память… – повторила она, когда он ушел. – А чем была наша любовь? Разве это не самый дорогой подарок?»
Шел дождь. Юргита распахнула окно навстречу промозглому ноябрьскому вечеру, шелесту дождя в полуголых ветках деревьев, городскому шуму, пожирающему покой, нервы, но удивительно привычному. Таким же он был и для Юргитиных бабушки с дедушкой, знавших о деревне только по рассказам родителей. Повеяло запахом прелой листвы и жаркого из близлежащего ресторана. Крики, гомон… Сейчас грянет джаз. Запоют «Долгих лет желаем…» Каждую субботу или воскресенье в ресторане отмечают чей-нибудь юбилей. Ура! Да здравствует!..
Юргита стояла в задумчивости у окна, прислушиваясь к этому гомону, и никак не могла отделаться от ощущения, что когда-то такой вечер уже был. Точно так же лило, точно также пахло жарким из ресторана, точно так же шелестели мокрые деревья, сверкал асфальт и точно так же охрипшим тоскливым голосом вопила пьяная женщина. Только тогда была не осень, не ноябрь (такие теплые вечера, как нынешней осенью, бывают, наверно, раз в столетие), а середина лета, цвели липы, никто не вопил (да-да, она ошиблась, никто не вопил), громко, почти остервенело играл джаз-банд, горяча молодую кровь. Чем же, право, сегодняшний вечер похож на тот… давний? Только рестораном?.. Правда, еще дождем, его монотонным шелестом в ветвях… Но тогда дождь хлынул намного позже, когда совсем стемнело и стрелка часов приближалась к двенадцати…
– Ни одной звездочки не видно. Что же наши кавалеры достанут нам на прощанье с небес? – полюбопытствовала Юргитина подруга.
Ее парень усмехнулся:
– Давайте скорей, иначе достанется! Над Жверинасом уже сверкает…
– Пусть льет, – махнул рукой шедший рядом с Юргитой мужчина, с которым она познакомилась на приеме. – Я обожаю дождь и молнии…
– «Обожаю мед я, ты на мне женись…» – тихо процитировала Юргита одну поэтессу и сама удивилась: застряли же эти строчки в голове.
– Я бы охотно, не будь я женат…
Сзади шла еще ватага, возвращавшаяся с приема. Одного из них, журналиста, Юргита знала. Он взял да и ляпнул:
– Ты, Ричардас, поосторожней. С Юргитой шутки плохи. Она как Цезарь: пришла, увидела, победила…
– Сердцеедка?
– О! Поля любовных битв усеяны костьми мужчин, потерпевших в борьбе с ней фиаско.
– Не слушайте его, Ричардас. Он вас нарочно стращает. Шпагу из ножен – и вперед!
Грянул гром, суливший ливень. Юргитина подружка и ее попутчик остановили такси, к их счастью, в нем было два свободных места, и уехали. Остальные же приняли приглашение услужливого мужчины, занимавшего солидный пост в торговой сети, зайти к нему в гости и переждать ливень за накрытым столом. Юргита собиралась проститься, но тут Ричардас встал на дыбы: ни за что, мол, не отпустим, как можно – женщину… одну… в такое позднее время, да еще когда Перун гневается. Другие были того же мнения, а о хозяине и говорить нечего. Он всячески старался угодить «товарищу Ричардасу», просто из кожи вон лез: почту, мол, за честь. Что ни говори, а среди нас светило, человек с большим будущим.
Через каких-нибудь полчаса, еще до ливня (первая туча прошла стороной), все очутились в просторной, богато обставленной квартире с хрустальными вазами, фарфоровыми сервизами и другими дефицитными вещами, выставленными напоказ: полюбуйтесь, дескать, на наше житье-бытье. В гостиной всю стену занимала книжная полка, битком набитая книгами: все собрания сочинений, все классики в прекрасных переплетах, альбомы, энциклопедии. Судя по названиям книг, хозяин был человеком весьма широкого кругозора. Но когда Юргита полистала две-три книги, то убедилась в том, что ни одна из них не читана; это же подтвердила простодушная хозяйка, заявившая без обиняков, что такую уйму и за всю жизнь не прочитаешь. Словом, и книги здесь были приложением к мебели, декорацией, долженствующей прикрыть невежество и духовное убожество. Если хозяева что-то и ценили в своей богатой библиотеке, то только то, что было подарено живыми авторами с дарственной надписью в благодарность за услуги – возможность приобрести заграничную дубленку, сервиз или другую ценность, не доступную простому смертному. Да, у этих невзрачных, довольных собой людей было вдоволь всего, что должно было удовлетворить их спесь, кроме личного знакомства со знаменитостями, светилами искусства. Когда же им удавалось завести такое знакомство, они не стеснялись на каждом шагу трубить о той услуге, которую оказали тому или иному таланту.
Угощали в доме только самыми дорогими напитками – шампанским, фирменным коньяком, а для Ричардаса даже нацедили рюмку из полупустой бутылки «Наполеона», которую расчетливые хозяева откупоривали только в честь полезных и именитых гостей.
– Хозяева не знают, что после Нового года я уезжаю из Вильнюса, – шепнул Ричардас Юргите.
– Ну и что? – равнодушно спросила она.
– Они не были бы такими щедрыми, – сказал он и добавил: – Я получил назначение.
– Вас можно поздравить с повышением? Может, даже с поездкой за рубеж? – оживилась Юргита.
– Вы угадали.
– От души за вас рада… Но меня никакими повышениями из Литвы не выманишь, – невольно вырвалось у нее, хотя она относилась к домоседам с предубеждением.
– Очень жаль, но тут наши взгляды не совпадают, – разочарованно протянул Ричардас. – Я лично за простор, где можно расправить крылья.
– Орлы меня восхищают, но, по-моему, они должны остаться верными родному гнезду, – посерьезнела Юргита.
– Конечно! – радостно поддержал ее Ричардас. – Ведь и улетают-то они только для того, чтобы набраться на чужбине сил и еще выше подняться.
Юргита пошутила: не свидетельствует ли такой взгляд о его склонности к карьеризму, но Ричардас сменил тему разговора и принялся подтрунивать над собравшимися (и над собой): дескать, у современного трудового интеллигента нет большего удовольствия («Ах, это вершина блаженства!»), чем интеллектуально, из дорогих рюмок, потягивать дорогой коньяк и думать о себе, что «я самый… мудрый, самый…».
Ричардас выделялся среди всех: элегантный, исключительно внимательный, остроумный, мужественный. Юргите нравилось его умение быстро приноравливаться к людям, если надо, порывать с ними, становиться выше их и не кичиться своим превосходством.
После полуночи все встали из-за стола и собрались уходить. Дождь давно прошел; доносившийся издали громок никого не пугал, никто не подозревал, что прояснившееся небо вот-вот снова затянет тучами.
Хозяева второпях попрощались с гостями, но Юргиту и Ричардаса наотрез отказались отпустить. Куда в такое позднее время? Погода хуже некуда… Да и мало ли что случается по ночам… Не лучше ли заночевать, никто ведь не гонит… а завтра со свежими силами за работу… Если товарищу Ричардасу неудобно, то хотя бы на час, на два… пока не рассветет…
Ричардас улыбался, пожимал плечами. И по его улыбке ничего нельзя было понять. Только когда хозяин распахнул дверь в комнату (она, должно быть, не раз распахивалась перед именитыми гостями), где белела кровать с двумя взбитыми подушками и заманчиво откинутым одеялом, все стало понятно.
Юргита глянула на Ричардаса. Их взгляды встретились, и оба, захваченные одной мыслью, громко захохотали. Расстроенные, даже обиженные хозяева попытались объясниться, но Ричардас, давясь смехом, уже открывал дверь в коридор. Они спускались по лестнице молча, тихо посмеиваясь и чувствуя такую близость, словно остались вдвоем на всем белом свете. Юргита почему-то вспомнила, что ей двадцать четыре года. Уже двадцать четыре! На миг ей привиделись белая фата, белое цветенье садов, белые поля в середине зимы, белые-белые мгновенья детства, зыбкие и трепетные, как мельканье белых августовских мотыльков. На нее внезапно нахлынула какая-то ослепительная белизна, и на душе стало так хорошо и так тревожно, как будто у нее выросли крылья и она взмыла высоко-высоко…
В таком странном и взбудораженном состоянии Юргита вышла на улицу. Снова зарядил дождь, и она пустилась в пляс по асфальту под пересверк молний и грохот грома. Зачарованный Ричардас что-то выкрикивал в такт, хлопал в ладоши, что-то напевал, пока наконец сам, поддаваясь Юргитиному азарту, не затанцевал. Оба кружились, увлекая друг друга, никого не видя и ничего не замечая. Кружились вместе с снявшимися с насиженных мест домами, оскалившими широкие черные пасти подворотен, кружились вместе с тусклыми уличными фонарями, с мокрыми, как бы озябшими, липами, кружились вместе с милиционером, который вылез из подворотни и уставился на них, этих приплясывающих под струями дождя придурков, гадая, что это, сон или явь.
Потом Ричардас притянул ее своими длинными сильными руками к себе и понес – разгоряченную, умаявшуюся от пляски, дышавшую прерывисто и тревожно ему в лицо – по мостовой. Юргита губами ловила прохладные капельки дождя, вода струилась с мокрых волос по щекам, по шее, за воротник, но она не чувствовала ничего, кроме удивительной легкости, словно ливень смыл с души все, что ее угнетало: и недобрые взгляды, и двусмысленные намеки, и похотливую услужливость хозяев двуспальной кровати, всю мразь и муть, которую порой обрушивают на голову красивой женщины мелкие людишки, завистники и злопыхатели, подходящие ко всему на свете со своей меркой.
В темноте подъехал поздний троллейбус, Юргита испуганно вскрикнула, но Ричардас, смеясь и сыпля остротами, продолжал идти по мостовой, пока троллейбус не остановился возле них. Они забрались внутрь и стали кататься по городу, пережидая ливень. Юргита вернулась к себе домой на рассвете. Она засыпала усталая, но счастливая под шорох благословенного дождя. Гроза давно кончилась, молнии больше не сверкали, Юргита закрыла глаза, но и с закрытыми глазами она все еще видела лоскуток чистого безоблачного неба. (Тогда она еще не знала, что, испытав сильное и большое чувство, которое называется первой любовью, она будет долго и мучительно искать исцеления от него, а потом, как следует не исцелившись, встретит Даниелюса. Возможно, Даниелюс так и остался бы добрым, случайным знакомым, если бы не благоприятные обстоятельства, которые помогли ей глубже понять его, открыть то, что она, как ей казалось, всю жизнь искала. Незаметно, исподволь он завладел ее душой, и наконец наступил день, когда Юргита удивленно сама себя спросила: «Неужто я неравнодушна к нему?»)
Но это случится только по возвращении из командировки в Дзукию, куда Юргиту послали написать очерк о прославившемся на всю республику Доме культуры. Могла она у секретаря тамошнего райкома партии и не побывать, тем более что в райисполком уже заходила, но ей не хотелось обижать Даниелюса. А если честно признаться, не терпелось увидеть его.
Юргита вошла в тесную, битком набитую посетителями приемную, отыскала свободное местечко и села. Секретарша, смекнувшая, видимо, что за гостья пожаловала, дала понять, что сделает для нее исключение, но Юргита не терпела поблажек и ничем не желала выделяться среди других: они пришли сюда по более важному делу и с более неотложными заботами, а не в гости, как она. Какая-то полуживая, высохшая, как гороховый стручок, старуха жаловалась – не принимают ее в дом престарелых, потому что у нее взрослые дети, а их долг содержать родителей. А дети нынче, сами знаете!.. Ах, ах! Горе одно и слезы… Другой почем зря председателя колхоза распекал: не дает шифера для крыши, хоть убей, про дыру и слышать, бес этакий, не хочет, перебирайся, говорит, в поселок, тогда тебя стройматериалами завалим… Легко сказать – перебирайся… Разве такое дело решишь за день?.. В разговор вмешался сосед: у меня, понимаешь, такая же беда – шесть лет назад переехал в новый поселок по плану, а теперича по новому плану все старые планы к черту полетели, кажись, снова придется избу ставить, только на сей раз в другом месте… Сами дальше своего носа не видят… Сделают, а ты, человече, страдай! Был в приемной и мужичок, который когда-то переселился в другой конец Литвы, где земля пожирней… Супесь в его родной деревне собирались под лес пустить… Однако планы планами и остались: кто не порол горячку, тот остался, не переехал и по сей день на родине возле своих грибочков и ягодок… Свой край, как же. Вот и тянет назад, мочи нет, хоть, может, на чужбине кусок и пожирней. Изба скособочилась, но стоит еще, старая. Может, говорю, товарищ Гиринис войдет в положение, поможет вырваться из того колхоза… наш председатель скорее в гроб тебя загонит, чем позволит назад перебраться… Все в приемной единодушно закивали: секретарь поможет, от него еще никто не ушел с пустыми руками. Может, только какому-нибудь ловчиле, искателю легкой жизни, проныре, ничего у него не перепадет. А если и перепадет, то не то, чего ждет: пристыдит, высмеет, добра не жди. А честного труженика товарищ Гиринис всегда поддержит. Скажет слово – как топором отрубит, попусту его на ветер не бросит. Да, ежели правда на твоей стороне, выкладывай и ступай спокойно домой – будет сделано! Не так ли в прошлом году с почтой на колесах было? Для министра, может быть, и удобство – меньше рабочих да и дешевле, а для простого человека такая почта как телеге пятое колесо… По телефону, когда беда нагрянет, не позвонишь, и телеграмму, когда жизнь заставит, не пошлешь. Худо, и все тут. Пусть одна такая штука для пробы, значит, ездит по округе, но не по головам же… голова, она для таких проб не годится. Ежели министру уж такое от этого удобство, может, он, уважаемый, согласится зимой среди лесов пожить, когда дороги заметает, и воспользуется услугами такой разъездной почты? Сели, написали бумагу, отнесли секретарю. С такой же бумагой явились и по другому поводу, когда лесхоз пастбища урезал и стал высаживать лес прямо-таки под окнами. Лесхоз думал – пишите себе на здоровье, все равно у вас ничего не выгорит, мол, таково указание сверху – против ветра не подуешь… Да и сам товарищ Гиринис ничего не обещал. Но сделал. Сделал! И связь осталась такой, как прежде, только одно отделение на колеса перевели для пробы, и пастбище их не тронули… Кто-то вспомнил о работнике, которого начальник понизил в должности только потому, что его мать ходила в костел. Гиринис вызвал его и потребовал отменить дурацкое решение. И добавил еще, что людей надо воспитывать не силой, а чуткостью и личным примером.








