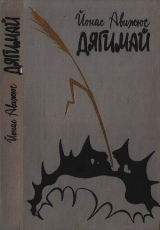
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 36 страниц)
V
Когда я и Вадим Фомич впервые встретились, мне показалось, что мы с ним уже когда-то виделись. Не только виделись, но и вместе что-то очень важное для нас обоих решали, хотя и не были друг с другом знакомы. Правда, после университета я работал директором школы в местечке Н., а Вадим Фомич в то время заведовал отделом в укоме партии и порой бывал в волостях, но не припомню случая, чтобы у нас были с ним какие-нибудь служебные дела. Только примерно через три-четыре года, когда я был избран председателем райисполкома и вызван в Вильнюс с отчетом, мы встретились с Вадимом Фомичом. Вместе с несколькими другими товарищами он сидел за длинным, накрытым красным сукном столом и время от времени окидывал меня пронзительным взглядом, терпеливо слушая ораторов, но сам не промолвил ни слова.
Сейчас и вспомнить трудно весь ход того обсуждения, но суть его глубоко врезалась в память. Меня обвиняли, что я слишком сурово отношусь к некоторым хозяйственным новинкам (в частности, к такой редкой для Литвы культуре, как кукуруза), и связывали мой мнимый консерватизм с недоверием к политической линии нашего правительства в народном хозяйстве. Поскольку на одном из совещаний актива я высказался против штурмовщины, выразившейся помимо всего прочего в стремлении некоторых товарищей урезать личные участки колхозников (на мой взгляд, такие участки играли важную роль в производственных планах района), мне приписали и мелкобуржуазную ограниченность, отнюдь не совместимую с обязанностями председателя Совета рабочих и крестьянских депутатов. «Мы возлагали на товарища Гириниса большие надежды, но, к сожалению…» – разведя руками, многозначительно закончил один из выступавших. А другой с горечью заявил: «Товарищ Гиринис не оправдал доверия партии и правительства». Что же, все ясно. Оставалось поблагодарить за внимание и, прежде чем выйти, спросить, когда и кому передать дела.
Так бы я, пожалуй, и сделал, но тут попросил слова Вадим Фомич. Он сказал, что нам опасны не ошибающиеся, а равнодушные. Да и следует хорошенько подумать, ошибается ли Даниелюс Гиринис. Ведь каждый толковый хозяин, пекущийся о своем хозяйстве, прежде всего сеет не для того, чтобы сеять, а для того, чтобы собрать хороший урожай. И если район пока что только наполовину выполнил план сева кукурузы, то это еще не значит, что кого-то надо загодя винить; посмотрим, сколько зеленой массы получит район осенью. Что же до урезывания личных участков колхозников, то вряд ли такая инициатива заслуживает поддержки, пока до конца не решена проблема производства сельхозпродуктов.
– Руководство должно идти рука об руку с практикой, – закончил Вадим Фомич. – Инструкции и постановления, пусть они будут трижды прекрасными, – это еще не хлеб и не мясо. Я предлагаю выступившим пересмотреть свою позицию по отношению к товарищу Гиринису. Тем более что производственные показатели его района не дают оснований для таких строгих выводов.
Кто-то из ранее выступавших попытался было возразить Вадиму Фомичу, но другие не поддержали его, и обсуждение вопроса пошло по другому руслу. Согласившись с мнением большинства («Цыплят по осени считают»), сторонники формального хозяйствования все-таки вкатили мне выговор, ибо «если смотреть сквозь пальцы на такое пренебрежение Даниелюса Гириниса к посеву кукурузы, его пример может отрицательно сказаться и на других районах…».
Не помню, кто из собравшихся, недовольных таким ходом обсуждения, усомнился в моей политической подкованности и посоветовал «товарищу Гиринису хорошенько позаботиться о своем идейном уровне». Вадим Фомич, не отрицая этого, сказал, что повышение политической сознательности никогда и никому еще не приносило вреда, и предложил отправить меня на учебу в Москву.
– Считаю постановку этого вопроса пока несвоевременной и неуместной, – строго заметил председательствующий.
Вадим Фомич смолчал, но, когда заседание кончилось, попросил меня зайти к нему.
Пробыл я в его кабинете с полчаса, но и этого было достаточно, чтобы мы, как говорится, раскусили друг друга. Я напомнил Вадиму Фомичу, что совсем недавно он работал в уезде, в который входит и наш район, и был крайне удивлен, когда он сказал, что хорошо помнит меня как тогдашнего директора школы и человека, на которого можно положиться.
– Я вам очень благодарен, Вадим Фомич, за понимание, – сказал я, прячась от его взгляда, доброго, но пронзительного. – Район не может отвести под кукурузу столько площадей, сколько требуется по плану, а распахать клевер было бы преступлением. Этого не одобряют не только рядовые колхозники, но и председатели колхозов. А не считаться с их мнением… Не знаю… Если мы осенью не выполним план по кукурузе – а так оно и случится, потому что на худой земле эта привереда не растет, – то нанесем удар по престижу руководящих советских органов и партийных организаций. А об ущербе сельскому хозяйству и говорить нечего… Поэтому не лучше ли посеять столько, сколько можно вырастить?
– Больше всего не уважаю и не терплю слепых исполнителей. Тех, кто поддакивает, кивает, поднимает в знак согласия руки, думает одним местом, а не головой. – Вадим Фомич уселся на краешек письменного стола, как подросток-озорник вытянув длинные ноги. – Человек, черт побери, должен мыслить! Раз ошибись, два ошибись, три, но гори и отстаивай свою идею, стремись к цели, ищи оптимальные варианты решения, не сиди сложа руки! Пошевеливайся и других тормоши! Потому что там, где кончается движение, начинается гниение. А сколько таких гнилых в нашем обществе! Грибок перестраховки так и разъедает их, равнодушных, интересующихся только своей персоной! Пальцем не пошевелят, пока не нажмешь на соответствующую кнопку. Да и то, если рука нажимающая не чья-нибудь, а начальника… Равнодушие – страшная штука, мой друг!
Я что-то ответил. Вадим Фомич одобрительно улыбнулся, болтая свисающими со стола длинными ногами, но вдруг посерьезнел и сказал, что мне и вправду не мешало бы поучиться в Москве.
– Я не утверждаю, что вас ничему не научил университет, – добавил он. – Знания у вас немалые. Но надо знать еще больше. Ведь знание на плечи не давит.
Осенью я поехал учиться в Москву.
Когда через несколько лет я вернулся оттуда, первым, кто поздравил меня с новым назначением, был Вадим Фомич.
Мы встречались не часто – два-три раза в году, кроме тех редких случаев, когда я приезжал в Вильнюс по делу. Вадим Фомич занимал более высокий пост, чем я, но он никогда не кичился этим, напротив – был скромен, всегда приглашал к себе в гости, и я, бывая у него, чувствовал себя как дома. Тем же радушием старался отплатить ему и я, когда он приезжал в наш район, – зимой мы охотились, летом ловили на спиннинг щук или просто сиживали с удочками в лодке, любуясь красотой дзукийских озер. О чем мы только с ним не толковали: и о тонкостях политики, и об истории страны, и о разных проблемах экономики, и о бытовых мелочах. Вадим Фомич очень интересовался искусством, особенно литературой, и, когда я однажды признался, что пишу стихи, пристал ко мне, чтобы я что-нибудь прочитал из своих «творений». Внимательно выслушал, восторга не выразил, но мы еще больше сблизились, просто-напросто стали друзьями.
Фима недолюбливала Вадима Фомича, и он, надо сказать, не питал к ной симпатии, хотя оба это тщательно скрывали. «А, снова этот проповедник…» – говаривала Фима, узнав, что Вадим Фомич приезжает в гости. За столом она была внимательной и вежливой хозяйкой, но стоило Вадиму Фомичу отлучиться, как она принималась его оговаривать.
Особенно их рассорил один случай, а причиной были растущие с каждым днем наши разногласия с Фимой.
В то время у нас родился второй сын. Мысленно я себя бранил – зачем нам этот ребенок, если семейный воз и без того трещит? Дело в том, что я давно пришел к безоговорочному выводу, что наш брак с Фимой – роковая ошибка. Безвольная тряпка! У Фимы и впрямь есть основания презирать меня. В душе она, может, меня и презирала, но так или иначе была счастлива. Родился гений под знаком серпа и молота, он будет счастливее, чем его родители, повторяла она как заклинание. Младенцу шел только второй месяц, а мама уже строила планы на всю его дальнейшую жизнь: он-де пойдет в такую-то школу (в районе нет ни одной приличной), будет штудировать там-то и то-то… углублять свои знания… защитит диссертацию… Нет, лучше всего военная карьера. Военная академия… Генерал, а может, даже маршал… Перед ним – полки… Колонны танков и броневиков… Грозные ракеты… «Товарищ командующий, по вашему приказу…» Я был уверен: Фима, должно быть, жалеет, что нет пышных эполет, они бы очень пошли ее сыну, который по своей импозантности не уступал бы самому Кутузову.
– Наш сын сам выберет себе профессию, – сказал я однажды. – Откуда ты знаешь, может, он будет ученым, как мой брат Повилас, или, может, поступит на журналистику?
– Если и поступит, то только не здесь, не в этой провинции, – отрубила Фима. – Сыну нужен простор. Я его здесь, в этой вашей клетке, не собираюсь держать!
– В нашей?
– Да, в вашей!
– Чего ж ты сама в эту клетку?..
– Разве я одна? Вот и Вадим Фомич тоже… Без нас вы бы давно здесь ножки протянули…
Не помню, что я ответил. Знаю только, что вмешался Вадим Фомич и как бы подлил масла в огонь. Оба мы слушали, как Фима разоряется, – Вадим Фомич сердито, пристыженно, а я терпеливо, потому что к таким ее выпадам давно привык. Она не понимала, что, смешивая с грязью то, что для меня свято: обычаи моих отцов, культуру, историю – раз за разом рубила сук, на котором сидела сама.
Вадим Фомич не выдержал:
– Полноте, Ефимья Никитична, мне стыдно вас слушать.
– Давайте не будем слишком добренькими, нечего приписывать свои заслуги другим. Кто кровь за других проливал, кто от фашизма освобождал, как, скажем, мой отец и оба старших брата, наконец, вы сами, Вадим Фомич, а кто в это время в окошко спокойно поглядывал, ждал, чем это все кончится… Нет, Вадим Фомич, так не годится…
– Все советские народы ковали победу, Ефимья Никитична, все…
– Может, кто-то и ковал, только не мой муж со своими… – Фима презрительно махнула рукой.
– Для того чтобы нас другие уважали и любили, мы должны платить такой же любовью и уважением, – сказал Вадим Фомич. – Когда находишься у соседа в гостях, то и вести себя подобает как гостю, незачем указывать хозяину, где он должен в своей избе стол поставить, как его накрыть и чем угощать. Может, нам с вами и смешно, что он хочет разуться во дворе или в сенях за дверьми, но оставим ему это право…
Фима отрезала, что нечего мириться с «их» дикими обычаями и, обозвав Вадима Фомича птицей, гадящей в собственное гнездо, выскочила из комнаты, оставив нас одних за столом.
Мы оба долго молчали.
– Если бы вы друг друга любили… – наконец промолвил Вадим Фомич. – Любовь все сплавляет воедино.
– Да, – сказал я, боясь вздохнуть. – Самая большая вина в этом – моя: в нужный момент твердости не проявил. Мне стыдно признаться, но чем дальше, тем больше убеждаюсь, что женился-то я из страха, шума испугался, Фима грозила поднять его, думал, повредит моей карьере. Хотя, с другой стороны, ни я сам, честно говоря, не думал, ни вы, Вадим Фомич, наверное, не предполагали, что у меня задатки карьериста… Как бы там ни было, я презираю себя за этот поступок и никогда себе этого не прощу.
– Не простите? Ну и что? Разве вы будете счастливы от угрызений совести? – спросил Вадим Фомич. – Вообще-то я не сторонник разводов, но иногда они – единственный выход. Конечно, никто не гарантирует, что разведенные свое счастье найдут, но у них хотя бы больше возможности искать его. А счастливая семья – это залог счастливого общества.
Этот вывод показался мне логичным, и я не мог с ним не согласиться.
В тот же вечер Вадим Фомич откланялся, хотя собирался уехать только на другой день вечером. На прощанье он крепко пожал мне руку и, обняв, поцеловал в обе щеки.
Меня просто поразила неожиданная его сентиментальность. Я успел сказать ему, что мне было бы приятно видеть его почаще в своем доме, и пригласил его на именины моего младшенького, которые должны были состояться через месяц. Вадим Фомич обещал, но слова своего не сдержал, прислал письмо, в котором, передав свои добрые пожелания имениннику, коротко и невнятно объяснил, почему не может приехать. Не приехал Вадим Фомич и на районный праздник урожая, который для него всегда был хорошим поводом навестить нас. Правда, зимой он раза два наведывался – на охоту и на подледный лов рыбы, но останавливался в гостинице: зачем, мол, доставлять лишние хлопоты Ефимье Никитичне. Короче говоря, встречи наши стали реже, хотя каждый раз, когда я бывал в Вильнюсе, Вадим Фомич с той же искренностью, что и раньше, звал меня в гости, к себе в дом, где меня всегда встречали тепло и радушно.
Так прошло несколько лет.
Однажды жарким летним днем Вадим Фомич неожиданно позвонил в двери нашей квартиры. Я не удержался, даже вскрикнул от радости, но гость остудил мой пыл, сказав, что приехал ненадолго, только попрощаться в связи с переводом на работу в другую республику.
Я долго не мог обрести дар речи.
– Нечего унывать, братец, – широко улыбаясь, сказал Вадим Фомич. – Важно, чтобы сердца не отдалялись. А расстояния в наш век ничего не значат.
Фима не скрывала своего удовлетворения.
– Желаю вам всяческих благ, Вадим Фомич, – сказала она тоненьким голосом на прощанье. И когда он уехал, добавила: – Так и обрастает человек пылью чужих дорог, кочуя из республики в республику.
Я долго не мог свыкнуться с мыслью, что потерял, можно сказать, близкого человека. «Расстояния в наш век ничего не значат…» Нет, дорогой Вадим Фомич, значат, и очень много значат. В свободный денек не сядешь в самолет, чтобы навестить друга, не отправишься за тысячи километров, потому что и своих дел невпроворот. Да и не могу к тебе выбраться, хотя каждый раз, когда вспоминаю тебя, печаль сжимает мое сердце. И вместо того чтобы собрать чемодан в дорогу, я пишу тебе письмо, выкладываю, что наболело, и питаю робкую надежду, что дела наконец сложатся так, что мы сможем по-дружески обнять друг друга. О том же пишешь и ты, уповая на такую же встречу…
Да, пока что только письма. Туда и оттуда. А письма, как известно, – это только заменитель живого слова и крепкого мужского рукопожатия. Неудержимо бежит время. Понемногу остывают чувства, притупляется память, даже если она и хранит нашу с тобой дружбу.
VI
– …Алло, алло! Ты слышишь меня, Юргита?
– Слышу, слышу, дорогой, говори.
– Помнишь, я тебе не раз рассказывал о нем? И частенько ловил себя на мысли, что было бы очень хорошо с ним встретиться. И вдруг вижу – он, мой Вадим Фомич, идет мне навстречу! Я остановился как вкопанный, не мог поверить своим глазам. А потом бросился вдогонку. Какая-то непостижимая сила несла меня вперед. Я уже почти не сомневался, что это не он, а все-таки бежал, продирался сквозь толпу, не сводя глаз с папахи. В один момент я потерял ее из виду, но она снова мелькнула, и я, ясно сознавая свою глупость, взял того, в папахе, за плечо. Он повернулся и удивился. На меня смотрело незнакомое лицо… Мне стало как-то не по себе, побеспокоил чужого человека. Странная ошибка… Правда? Что-то необыкновенное…
– Потому что ты сам необыкновенный… Я очень соскучилась по тебе.
– И я по тебе, Юргита. Считаю часы, оставшиеся до нашей встречи. Только подумай: целых три дня, три долгих дня и ночи мы не виделись! Почти восемьдесят часов. Одно утешение, что завтра снова будем вместе… Поверь, мне хотелось все бросить и мчаться домой…
Она хотела было сказать, что вчера тоже чуть не сделала ему сюрприз: думала сесть в самолет и прилететь в Вильнюс. Еще минута, и эти слова слетели бы с уст, но она вдруг почему-то раздумала: пусть это лучше останется маленькой тайной. Конечно, она когда-нибудь откроет ее Даниелюсу. А вместе с тем и то, о чем она сейчас спокойно подумать не может, осуждая себя за легкомысленность.
Разговор оборвался, но в ушах Юргиты еще долго звучали слова Даниелюса, его мужественный голос, да и он сам стоял перед глазами как живой, только протяни руки – и он подхватит тебя и прижмет к себе.
– Хозяин звонил? – спрашивает Алюте. – Вы так говорили, что даже дух захватывало. – На глаза Алюте навертываются слезы. – Это редкость, чтобы люди друг друга так любили. Так хорошо на душе, дорогуша моя, оттого, что вы счастливы. – Алюте утирает лицо передником и прикрывает за собой дверь в кухню – нечего своим шмыганьем портить настроение хозяйке.
«Счастливы…» Юргита съеживается, словно слово это тяжелым камнем упало у ее ног. В последнее время она все чаще замирает, когда слышит или сама его произносит. «Счастлива… Да, я счастлива… Очень счастлива…» – шепчет она упрямо, чуть ли не сердясь, словно кто-то ей перечит.
Подавленная, она направляется в спальню. Разложив между кроватями и шкафом игрушки, здесь хозяйничает сынишка Лютаурас. Юргита удивлена: пять минут тому назад ребенок спал и вот уже снова играет. Она чуть не проговаривается, что звонил отец. Мог бы с ним поговорить и Лютаурас. А теперь зачем бередить детскую Душу?
Увидев мать, Лютаурас засыпает ее вопросами, не по возрасту серьезными и прямыми.
– Мудрец ты мой, – говорит Юргита, усаживаясь рядом с ним на ковер. – Так что мы с тобой будем сейчас делать?
– Я город строю. Когда построю, налетят самолеты и разбомбят его. Ты будешь противником, – выкладывает свои планы мальчуган.
– Нет, лучше я помогу тебе строить. Не надо войны, Лютаурас. Умные люди работают, а не воюют, – объясняет Юргита, гладя его светлую головку. «Когда подрастет, волосы потемнеют. Глаза большие, синие. Весь в Даниелюса».
– Люди все делают, – не соглашается Лютаурас. – Строят, разрушают и снова строят. Войны, говорит Алюте, нужны, чтобы людей перебить, когда их слишком много.
– Алюте? – кусает губу Юргита. – Ты лучше нас с папой слушай, а не то, что во дворе болтают.
– Алюте знает… Так ты будешь противником? Сейчас давай строить, потом объявим войну, налетят самолеты… Как по телевизору. Хорошо, мамочка?
– Нехорошо, Лютаурас. – Юргита долго и терпеливо объясняет сыну, какое это несчастье война («Ты потерял бы папу и маму…»), пока мальчуган не отказывается наконец от своей затеи.
– Лучше я тебе сыграю, хочешь?
«Вот так и растут дети под присмотром чужих, – огорченно думает Юргита, садясь за пианино и начиная играть „Детский уголок“ Дебюсси. – Мать целыми днями пропадает в редакции, отец целыми днями занят в райкоме. Учим других жить, воспитываем, а свой ребенок словно подкидыш…»
– Сегодня, Лютаурас, я никуда не пойду, – улыбается Юргита, прижав мальчугана к груди. – Мы будем вместе и после обеда, и весь вечер.
– Когда ты, мамочка, дома, мне так хорошо. Ты такие интересные игры придумываешь и такие сказки рассказываешь… И Алюте умеет, но с тобой лучше.
Юргита утыкается головой в плечо Лютаураса, с трудом сдерживает себя, чтобы не зарыдать в голос: «Ах, ты моя милая букашечка, моя любовь, простишь ли ты своей маме, когда вырастешь, что она так мало с тобой была в детстве?»
Наобнимавшись и наигравшись вдоволь, они отправляются в город. Лютаурасу интересно гулять, особенно с мамой, она столько знает и так хорошо объясняет. Больше всего ему конечно же нравится каток, там столько детей, а среди них и такие малыши, как Лютаурас. В другой раз он явится сюда с коньками – мама обещала купить. Замечательный сегодня день!
Юргита сидит у кроватки, пока глубокий сон не одолевает уставшего от дневных впечатлений мальчугана. Она счастлива, что хоть сегодня выполнила свой долг матери. Слышно, как крупные капли дождя стучат по обитому жестью подоконнику. Во дворе громко переговариваются мужчина с женщиной. Кто-то цокает каблучками по тротуару. Ну и зима – три раза выпал снег и три раза растаял. А ведь еще вчера, когда они возвращались с Малдейкисом из Лаукувы после подписания договора о соцсоревновании, ударил морозец, и все предметы казались удивительно яркими на фоне заснеженной земли.
VII
В глазах еще мерцало зимнее звездное небо, черная бездна которого разверзлась над головой, когда Юргита вышла во двор. С ней часто так: ни с того ни с сего врежется в память какая-нибудь картина, и Юргита долго не может от нее отделаться. «Я привезу с собой единственный гостинец – полоску звездного неба… – улыбнулась она странной и неожиданной мысли. – С искусственными спутниками земли… Космический пирог…»
– Я, наверное, вам помешал, – извинился Малдейкис. – Обдумываете, наверное, статейку для газеты.
– Нет, товарищ Аполинарас. Сижу и с удовольствием уплетаю гостинец.
– Какой гостинец? А! Юркшайтис догадался – что-то в дорогу положил? Радушные люди. И мне в багажник бочонок пива вкатили. Так, может, скинемся и пороскошествуем? Найти бы только удобное местечко…
– Можете не искать, товарищ Аполинарас, – Юргита снова загадочно улыбнулась, поймав взгляд Малдейкиса, брошенный украдкой на дорожную сумочку, стоявшую у ее ног. – Мой гостинец не в вашем вкусе.
Малдейкис только разинул рот, но тут машину занесло так, что она несколько секунд металась от одной канавы к другой, пока не подчинилась водителю и не застыла поперек дороги.
– Лодыри! Не могут щебенкой посыпать… – Малдейкис вытер вспотевший лоб. – Еще чуток, и мы бы с вами в канаву сиганули. Тогда уж без трактора ни туда ни сюда.
– Может, надо было через Лаукуву? – опомнившись от испуга, сказала Юргита.
– Когда едешь с женщиной, все дороги опасны, – лукаво возразил Малдейкис и включил зажигание. – В конце концов, застрянь мы где-нибудь, что тут плохого? Ведь мы не в тайге, не в тундре, кто угодно на ночлег примет, постелет, и не обязательно отдельно…
– Не пугайте, товарищ Аполинарас.
– Простите. Язык мой – враг мой, Гита. Позвольте мне вас называть Гитой, ладно? Это и короче, и оригинальней. – От интимности голос Малдейкиса стал глуше. – Да и вы меня просто – Полис. Договорились?
– Нет, не договорились, товарищ Малдейкис. Пусть все будет как прежде, так лучше всего.
– Простите, я не хотел вас обидеть. Но что поделаешь, частенько расплачиваюсь за свое панибратство. И знайте, меня совершенно не интересует ни ваше семейное положение, ни профессия – вы для меня женщина и только женщина.
«А ведь не врет», – мелькнуло у Юргиты.
Аполинарас Малдейкис продолжал:
– Жена моя в райисполкоме работает. Завотделом. Инженер. Несколько лет назад кандидатскую защитила, упорно в доктора рвалась. Вбила себе в голову, что это единственный способ не отстать от мужа и удержать его в своих руках. Не может, бедняга, логики постичь: настоящему мужчине нужна женщина, а не ее степени и звания.
– А ведь было время, когда вы эту женщину любили? – мягко заметила Юргита.
– Да, пока она была женщиной.
– А кто ее такой сделал?
– Я не оправдываюсь. Но, согласитесь, любовь зависит от двоих.
– Я не утверждаю, что от одного.
– Перед женитьбой каждый в той или иной мере испытывает любовный голод, – витийствовал Малдейкис, укротив скользившую по наледи машину. – А женившись, насыщаются до отвала и через какой-нибудь год-другой теряют аппетит. Нет, Гита, такой любви, какой ее представляют идеалисты и романтики, нет на свете. Она только для начала, для того, чтобы свести мужчину и женщину, для приманки, как запах цветка для пчелы. Отсюда, наверное, и название: медовый месяц. А после начинается нормальная жизнь: воспитание детей, борьба за кусок послаще… Да, да, дорогая Гита, за кусок послаще… Не какие-нибудь там абстракции, именуемые любовью, а именно кусок определяет, так сказать, жизнедеятельность человека. Нет, я не отрицаю, любовь, она в моей жизни играет важную роль, но это только вспышка молнии; после того, как она гаснет, ты слышишь только монотонный шорох дождя. Можно прекрасно уживаться без любви. Привычка, дружба… Но для того чтобы плод, так сказать, завязался, этого мало. Есть такое классическое выражение: он (или она) – плод любви. Все мы плоды любви. Плоды мгновения, вспышки молнии. Я не представляю себе, как можно лечь в постель без того накала чувств, имя которому любовь.
– Ну, знаете… – Юргита пыталась скрыть смущение. – Ваше понимание любви применимо ко всему живому на земле, кроме человека.
– Человек тоже биологическая единица. Он подчиняется законам природы, – запальчиво возразил Малдейкис, упиваясь своим красноречием.
Юргита ничего не ответила.
Молчал и Малдейкис, собирая силы для дальнейшего штурма.
Машина едва двигалась по скользкому обледенелому большаку. Когда ее заносило, Юргита через переднее стекло видела усыпанное звездами небо. «Вспышка молнии…» – лениво думала она, охваченная каким-то леденящим равнодушием.
И вдруг, как это бывало с ней в минуты душевного подъема, она ни с того ни с сего мысленно перенеслась на миг в суровую позднюю осень, когда ноябрьский ветер срывал с деревьев листья и когда она до боли жалела о том, что никогда не сумеет увековечить на холсте то, что остается на всю жизнь самым дорогим воспоминанием. «До сих пор я не любила это время года – слякотное, грязное, с безнадежно короткими днями, а теперь оно для меня стало самым прекрасным», – сказала она тогда Даниелюсу, сидя рядом с ним на заднем сиденье машины. «И для меня», – ответил он взглядом, и улыбка вспыхнула на его лице. В тот миг он казался ей каким-то всемогущим волшебником – пожелал, чтобы автомобиль превратился в старинную карету, и вот они оба катят в ней, сказочный принц и принцесса, послушные удивительным чарам и – хоть ненадолго – оторвавшиеся от повседневности. Запряженная в королевскую карету четверка лошадей несется по курортному городку, зябко съежившемуся под серым войлоком облаков, сквозь которые редко пробивается луч зимнего солнца. «Мы дезертировали из своего столетия, дорогой, и не можем считать себя его истинными детьми, которых запах бензина должен волновать больше, чем конский пот», – шептала она, прижимаясь к Даниелюсу.
А королевская карета все неслась и неслась… Как во сне, увиденном когда-то в детстве, как в волшебной сказке, которую они сейчас сами для себя придумали. Дома и деревья тонули в таинственном осеннем тумане, в котором, словно какие-то заколдованные гномы (или схожие с ними рыбы на дне морском), мелькали люди. Бесцветные, тусклые, как и всё вокруг в тот незабываемый полдень, как бы предназначенный самой судьбой для их счастья. Как сказочные боги, колесили они вдвоем по устланному золотой чешуей морскому дну, а гномы-рыбы оборачивались и удивленными взглядами провожали их, диковинных пришельцев из другого мира. «Я боюсь, что проснусь», – шептала Юргита, лихорадочно сжимая руку Даниелюса. «Успокойся, милая, – шепотом отвечал он, склонившись над ней. – Нас усыпили, и этот сон называется счастьем. И разбудить нас может только смерть. Но мы с тобой никогда не умрем, потому что мы боги». Это она могла повторить вместо брачной клятвы в загсе той женщине, матери четырех детей с благородным лицом мадонны, на котором, словно в зеркале, отражались чужая радость и печаль, той женщине, которая руководила их бракосочетанием. Но в тот торжественный миг любые слова казались мелкими и никак не могли выразить их чувств. Поэтому она только улыбалась, глядя сверкающими глазами на Даниелюса, который тоже улыбался и в растерянном взгляде которого можно было угадать отчаянное желание сказать что-то возвышенное. Она готова была поклясться, что в жизни не видела более красивого мужчины, чем он. Такого близкого, умного, благородного, понимающего ее с полуслова, готового сделать для нее все что угодно. Модно причесанные волосы с проседью очень молодили его лицо, кое-где изрезанное морщинами, которые тоже не старили, а придавали достоинство и одухотворенность. Влажные от тумана щеки высохли, но на густых бровях еще посверкивали капельки. Охваченная неожиданной нежностью, Юргита привстала на цыпочки и прикоснулась к ним губами. Мать четырех детей с лицом мадонны растрогалась до слез, хотя за время своей службы в загсе видела не одну счастливую пару.
А через несколько дней неожиданно выпал снег. Они стояли у гостиничного окна и смотрели на белую сказку точно так же, как тогда, когда познакомились, и перед взором каждого проносилось безгрешное детство. Студеные зимние вечера, весело потрескивающие в печи поленья, бабушкины сказки, вороны, каркающие на заснеженных большаках. «Сколько надо было пройти и сколько надо было выстрадать в одиночестве, пока мы нашли друг друга…»
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Малдейкис что-то говорил.
Юргита медленно открыла глаза.
– Вы меня совершенно игнорируете, дорогая Гита, – услышала она его голос, не сразу смекнув, что машина стоит у крошечного домика, построенного в готическом стиле и окруженного заиндевелыми яблонями.
– Что случилось? – забеспокоилась Юргита.
– Что-то с двигателем, не везет, – почти весело ответил Малдейкис, открывая дверцы. – Одно счастье, что мы застряли недалеко от коллективных садов. У одного моего приятеля здесь шикарный домик. Я знаю, Гита, куда он прячет ключ. Разведем с вами огонь и до утра потягаемся со стужей. Романтично, правда?
– Очень… – досадливо бросила Юргита, раскусив его хитрость. Она хотела отчитать Малдейкиса и потребовать, чтобы он больше не ловчил, завел мотор и ехал дальше, но почему-то побоялась показаться смешной и банальной. – И вы в поисках этой романтики отъехали километров пятнадцать в сторону?
– Да, виноват. Признаюсь. – Малдейкис снова захлопнул дверцы и откинулся на сиденье. – Противная дорога. Устал. А до Епушотаса еще километров двадцать. Противная дорога – это еще полбеды. Но вот прелестная женщина, которая хотя и рядом, но абсолютно равнодушна к тебе… Чертовы нервы, раздерганы до крайности, понимаете? Сам дивлюсь, как очутился у этого забора. Видно, не я вел машину, а леший.
Юргита рассмеялась:
– Вы выбрали себе профессию не по призванию, товарищ Аполинарас… Может, не поздно еще испытать свои силы на сцене какого-нибудь народного театра?
– Так что будем делать, Гита? – спросил Малдейкис, беспомощно развалившись на сиденье. – Передохнем в этом домике на курьих ножках, как рекомендуют в таких случаях правила дорожного движения, или, плюнув на смертельную усталость, двинемся вперед, хотя авария почти обеспечена?
– Может, рискнем.
– Вы храбрая женщина, – тяжело вздохнул Аполинарас и повернул ключ стартера. Раз, другой. Но мотор только чихнул и замолк. Попутчик Юргиты еще раз попробовал включить зажигание, но, ничего не добившись, вылез из машины и, откинув капот, принялся копаться в моторе. – Черт побери, неужели беду накликал? – сказал он, сев за руль. И в самом деле, сколько он ни поворачивал ключ стартера, двигатель не издал ни звука.








