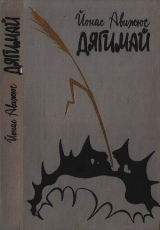
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
– Я слышал, ты работаешь в Гедвайняй, на строительстве фабрики.
– Да, в медпункте. Строителей лечу.
– Я думал, ты перебралась в Вильнюс. Ведь ты так рвалась в большой город.
– Что мне большой город без тебя, Даниил?
«Лучше бы сказала – без моего положения. Была первой дамой в районе (во всяком случае, строила из себя такую), а теперь только медсестра, да еще не очень умелая».
– Так зачем же вы туда теперь едете, Ефимья Никитична?
– К детям. Сам знаешь, у брата живут. Тяжко им с женой, но что поделаешь? Детям учиться надо. А что за учеба там, в Гедвайняй?
– Школа всюду одна – советская.
– Школа-то одна, но с вашим языком далеко не уйдешь. Помнишь, у нас когда-то уговор был: старший пойдет в русскую, а младший – в литовскую. Сегодня оба учатся в моей школе, Даниил Йонович. И я этому очень рада, потому что каждая хорошая мать желает, чтобы ее дети не узкими стежками шли, а широкой дорогой.
«Твоей дорогой, да-а-а…» Даниелюс барабанит пальцами, по-прежнему глядя в окно, но ничего не видит. Дети, дети… Неужто он и впрямь потерял их? Наказан! Да, наказан… Надо было хотя бы младшенького взять к себе, как он вначале и собирался сделать, но подумал, что Юргите чужой ребенок будет в тягость, и решил выплачивать алименты на двоих. «Приеду и обязательно зайду к Фиминой родне. Конечно, тут же засыплют неприятными вопросами, пойдут всякие намеки (тем паче что сама Фима приехала), но навестить детей надо. Походим вместе по городу – по музеям, магазинам, куплю каждому какой-нибудь подарок… Да, скверный я отец, редко они меня видят, редко. Но будь Фима другой, разве шел бы я на свиданье со своими детьми, как на виселицу? В этом она, эта истеричка, виновата, только и знает – кричать!»
– Где вы собираетесь остановиться, Даниил Йонович? Не у новых ли тестя и тещи? – нарушив долгое молчание, спрашивает Фима.
– Да нет, Ефимья Никитична. Зачем людей беспокоить? Лучший ночлег в гостинице.
– Могли бы и у моего брата. С детьми пообщались бы…
– Мог бы, но вряд ли, Ефимья Никитична… А с детьми пообщаюсь, если, конечно, не захлопнете перед носом дверь.
Фима обиженно встает. Гордая, знающая себе цену.
– Как вы смеете обо мне так думать, товарищ секретарь? Разве я когда-нибудь?.. – Энергичным движением руки Гиринене открывает дверь купе, застывает на минутку, раздумывая и что-то решая, потом бросает через плечо: – До свиданья, Даниил Йонович.
– Всего доброго, Ефимья Никитична, – в тон ей отвечает Даниелюс и с облегчением вздыхает.
II
Вывалила целый воз грязи и ушла… Такой она, Фима, была всю жизнь – стремилась к счастью, не считаясь со средствами и – о, парадокс! – сама вечно несчастна. А теперь, желая вернуть потерянное, роет яму Юргите. Бедняга, бедняга… Придумала тысячи нелепостей, хотя сама в это конечно же не верит… В конце концов, это не ново – помои лили на наши головы и пять лет тому назад. Тебя, Юргита, тогда тоже обзывали распутницей, интриганкой, а кое-кто из наших «доброжелателей» даже вызвался «спасти» меня от твоей погибельной руки. Будь ты в эту минуту рядом со мной, мы бы об этом даже не вспомнили, но такое возвращение в прошлое только возвышает душу. Да, Юргита, моя единственная! Ибо мы вышли из этого испытания победителями и унесли с собой самое дорогое – любовь! А они, эти «доброжелатели», давно выкинули вон это святое чувство и продолжают толкаться среди таких же, как они, лицемеров, поглядывая по сторонам, кого бы еще оплевать.
Сейчас трудно восстановить все подробности. Как-то потускнела, выцвела и беседа с товарищем Клигасом, который в то время только занял нынешний пост и которого я встретил тогда. В память врезались только его рукопожатие, твердое, мужское, и открытая, подбадривающая улыбка. Мне показалось, что он все уже знает и решительно поддерживает меня, но это, наверное, мне только казалось, потому что пройдет еще час, пока я выйду из другого кабинета, куда меня вызвали для объяснения. Я сразу смекнул: Фима постаралась! Виновато письмо, которое я написал, Юргита, сразу же после нашей последней встречи в райкоме, излив на бумаге душу и признавшись, что люблю тебя, что твердо решил начать новую жизнь. Но я его так и не послал – испугался. Нет, нет, я не испугался своего решения, – ради нашего счастья я был готов сделать бог весть что, я просто усомнился, будешь ли ты со мной счастлива. Поскольку я и до этого был неважнецкого мнения о самом себе, я ухватился за годы, разделяющие нас, и чем дольше я об этом размышлял, тем непреодолимее казался мне барьер. Если бы я тогда знал, что ты помнишь наши случайные встречи… Но ты молчала. Прошел месяц, другой, полгода. Молчание, молчание. Жизнь с Фимой казалась мне кощунством. Поэтому в один прекрасный день я достал написанное письмо и прочитал его вслух Фиме, сказав, что, скорее всего, эта удивительная женщина, то бишь ты, никогда не станет моей женой, однако дальше мириться с духовным двоеженством я не в силах.
И вот это письмо, украденное Фимой из ящика моего стола, лежит перед человеком, удобно устроившимся в своем тяжелом дубовом кресле и взвешивающим бог весть на каких весах мои чувства. И пока я буду сидеть, внимая его многомудрым поучениям и отеческим советам, перед моими глазами ни на минуту не исчезнет твой облик, светящийся каким-то несказанным светом, наполняющим сердце решимостью и уверенностью в себе. Меня не собьют с панталыку никакие заманчивые предложения на будущее («У нас, товарищ Гиринис, для вас на заметке очень ответственный руководящий пост») и весьма прозрачные намеки на то, что я могу лишиться доверия партии и народа. Народа! Неужто он сам не любит, что может осуждать любящего? И в чем я, в конце концов, провинился? В том ли, что не хочу лицемерить, живя с нелюбимой женой и лаская за глаза любимую женщину? В том ли, что прямо, без обиняков, заявил о своем праве на любовь, которая к нашему обоюдному несчастью пришла так поздно? В том ли, что, наконец, оказался бессильным заглушить зов своего сердца, как это сделал бы на моем месте не один солидный товарищ, отрекшись от любимой и любящей женщины ради сомнительной карьеры?
Позже этого человека, пытавшегося «образумить» меня, поправят и объяснят ему, что он перегнул палку, корректируя судьбу другого по своим собственным нравственным меркам, но никто не осмелится внести предложение о пересмотре принятого им решения. Любовь к тебе, Юргита, осудят, а меня проводят до дверей с такими словами, будто я самый последний преступник:
– Ваше поведение, товарищ Гиринис, только мягко выражаясь, можно назвать легкомысленным. Поддаетесь чувству, как какой-нибудь желторотый юнец. Вы, должно быть, забыли, что вам не восемнадцать, а почти в три раза больше. Оставляете в таком возрасте жену и двоих детей и пускаетесь вдогонку за женщиной, которая намного моложе вас!..
– Как это, пускаюсь вдогонку? – нетерпеливо перебил я. – Просто с Ефимьей Никитичной я жить больше не могу.
– Простите, но вы рассуждаете не совсем здраво, товарищ Гиринис, – продолжал морализировать мой собеседник. – С чего вы взяли, что я осуждаю любовь? Я всегда поддерживал и буду поддерживать это благородное чувство, как бы дарующее человеку крылья. Однако давайте прежде всего установим, настоящая это любовь или глупое увлечение. Ведь когда-то вы и свою жену любили? Уж вы не пожимайте плечами, дети просто так на свет не появляются. Любили! А теперь легкомысленно предаете ее. Детей своих и пятнадцать лет совместной жизни. Сдули, как пух с одуванчика, и как будто никогда ничего не было. Только эта, как там ее зовут, Юргита, – смысл и цель вашей жизни. А с партией, позвольте вас спросить, как? Неужто не чувствуете перед ней никаких обязательств, забыли, что вы не рядовой коммунист, что должны отказаться от личного счастья во имя более высоких идеалов? На человека вашего положения обращены глаза множества людей, придирчиво следящих за каждым вашим шагом, и вы не можете, не имеете права, если, конечно, не хотите уронить авторитет партии, шагать абы как. Образумьтесь, товарищ Гиринис. Неужто нельзя обойтись без скандала, без ломки семьи, без того, чтобы шокировать общество?
– Это цинизм, – сказал я, повернувшись к двери. – Вы предлагаете мне путь обмана и двуличия.
– Нет. – Мой исповедник поправил на носу очки. – Я хотел вам только напомнить, товарищ Гиринис, что вы прекрасно могли бы избежать недостойной сделки с совестью, если бы сумели обуздать сердце и убедить себя, что, кроме жены, на свете не существует никакой другой женщины.
– Такой совет может дать только тот, кто никогда не любил, – отрубил я, пораженный своей дерзостью.
Послышались приглушенный вздох, потом слова, полные искреннего сочувствия:
– Вы очень перспективный работник. Как я уже вам говорил, у нас было намерение… Но теперь, в такой момент… сами понимаете. Жаль, товарищ Гиринис. Очень жаль!
«Жалейте!» Я удрученно пожал плечами и, ничего не ответив, толкнул дверь в коридор. Мне хотелось как можно скорее остаться одному и хотя бы мысленно побыть с тобой, Юргита.
Возвращаясь из Вильнюса в район, я все время думал о тебе, дорогая. А через полгода судьба нас свела в покинутой дзукийской деревне, которую мы в шутку назвали Юргитаном.
…Когда по редеющему сосняку мы вскарабкались на высокий холм и наконец добрались до опушки леса, я попросил водителя остановить машину. Отсюда взору открывалась знакомая, волнующая до слез картина, при виде которой сердце начинало биться чаще, и я, охваченный какой-то невыразимой радостью, широко улыбался каждому встречному и поперечному, не скупясь на добрые слова и крепкие рукопожатия. Но сейчас здесь никого не было… С печалью я смотрел на раскинувшуюся у подножия холма дзукийскую деревню, опоясанную узкой лентой родниковой речушки, петлявшей по только что скошенным лугам, как бы охваченным с обеих сторон зубчатыми крыльями леса. Мне было бесконечно грустно при мысли о том, что настанет день, когда здесь не останется и следа человеческой жизни. Уже теперь то там, то сям чернели голые фундаменты изб, а кое-где их и вовсе не было. Избы, которые не успели разрушить, жались друг к дружке по обе стороны дороги, покинутые, неприкаянные, с заколоченными ставнями и дверьми, в иных и дверей-то не было, и только на остатках разобранных крыш чернели давно остывшие печные трубы.
Не знаю, сколько времени я стоял в задумчивости, не сводя глаз с печальной картины, словно с лица дорогого человека, черты которого хочется запомнить навеки, ибо видишь его в последний раз. Потом я начал спускаться вниз, преследуемый странной мыслью о том, что это не что иное, как Дягимай, только надо повнимательнее всмотреться в эти кладбища жилищ и увидеть родную усадьбу – такую же, помеченную печатью смерти и навсегда для меня потерянную. Я брел, с трудом переставляя ноги по пустынной деревенской улице, глядя на сломанные плетни, захламленные дворы и разоренные сады: плодовые деревья, те, что помоложе, были вырваны с корнем, а те, что постарше, боязливо хирели между своими срубленными одногодками и ожидали той же участи. В палисадниках у изб и на развалинах цвели кусты жасмина и хилые цветы, с трудом пробившиеся через гущу сорняков. За хлевками и амбарами, там, где начинались луга, должны были быть огороды, но и их теперь бросили на произвол судьбы, ибо приусадебные участки переселенцам колхоз выделил в другом месте, поближе к новым усадьбам. У меня пропала охота бродить по этому кладбищу, я повернулся и зашагал назад, совершенно не догадываясь о том, что за тем вот поворотом ждет меня моя судьба…
Ты сидела, прислонившись к старому каштану, спиной к дороге и, положив на колени папку, рисовала полуразрушенную избу и колодезный журавель, сорванный ветром.
– Даниелюс! – вскрикнула ты, вскочив, и я увидел, как в твоих глазах вспыхнули радость и удивление.
– Как вы здесь очутились? Откуда? – пробормотал я, не веря своим глазам.
– Мы с подругой пустились на байдарке, по нашим рекам. Отпуск у нас… Это просто чудо, что мы здесь встретились.
– Чудо происходит тогда, когда его очень ждешь, – ответил я, глядя на этюд и не видя ничего – до того был счастлив.
Ты что-то ответила и сунула лист в папку, сказав, что это только эскиз.
– Правда, в художницы не мечу, но эта покинутая деревня очень волнует. Когда я увидела ее с холма, мне захотелось написать ее.
Ты зажмурилась, словно хотела навсегда запечатлеть эту картину, и твое лицо на миг приняло такое выражение, что у меня, честно говоря, дыхание перехватило.
– Я понимаю вас, Юргита, – сказал я и в который раз подумал, что в своей жизни еще не встречал женщину, с которой было бы так приятно и просто, как с тобой. – Я тоже неравнодушен к этому уголку. Всякий раз, когда я сюда приезжал, на меня что-то накатывало. Возвышенное, радостное. Раньше здесь жили люди… Лаяли собаки, кукарекал петух… Из трубы вился дымок. Шизнь! Даже от осенней плесени и гнили веяло жизнью. А теперь что? Такое чувство, будто стоишь у ворот покинутого кладбища.
– Кладбище! В самом деле! И я так подумала, когда увидела эту деревню с холма, – сказала ты, почему-то обрадовавшись. – Мне, журналистке, это позволено, а вы по своей должности не должны так драматизировать…
Я подхватил твой игривый тон и ответил, что случай явно нетипичный и что я сторонник диалектического материализма, то есть я за вечную борьбу между жизнью и смертью, разрушением и созиданием, ибо иначе не было бы прогресса, но сердце мое не всегда согласно с этим драконовским законом природы.
Ты стояла, склонив набок голову, улыбалась. И не проронила ни одного слова, да слов и не нужно было – до того красноречивым было твое озаренное каким-то внутренним светом лицо. Казалось, я чувствовал каждое движение твоего тела, биенье твоего сердца, шорох твоих ресниц, пьянел от близости и ловил себя на мысли, что никогда еще в жизни не испытывал такого душевного состояния.
– Странно, – сказал я тебе после того, как мы по нескольку раз обошли каждую усадьбу, словно безымянную могилу, на веки вечные покинутую близкими. – А ведь недалек тот день, когда эту пустошь целиком покроет лес. Приедем сюда и будем бродить, держась за руки, как сейчас… И вспомним еще раз все, что сегодня пережили. Услышим те же самые слова, и душу обласкают те же чувства. Ты будешь мне улыбаться, обдавая теплом своих черных глаз, а я буду сжимать своей рукой твои ласковые пальцы. Я себе это так отчетливо представляю, словно все это уже происходит. Будущее! Меня, может, тогда уже на свете не будет… Странно, право же.
– Нет! – прикрыла ты мне ладонью рот. – Не говори так! Ты никогда не умрешь. Для меня – никогда!
– Все равно странно, – не уступил я, желая еще раз услышать твой протестующий голос. – Мне кажется, что одну жизнь я уже прожил и будущее мне ясно: это долгий солнечный день, это праздник. И всюду ты. Как песня, как музыка… А прошлого словно не было. Ни Фимы, ни детей. Какой-то дурной сон. Он то обрывается, то наплывает каким-то смутным воспоминанием. Ужасно! Прожить с женщиной столько лет и не сохранить в памяти ни одного мгновения, которое можно было бы назвать счастливым. Ты можешь презирать меня, Юргита, жалеть, что у меня не хватило воли бороться за свое счастье, но если бы не ты, моя милая, эта канитель продолжалась бы дальше, и единственным утешением для меня была бы работа, а укором – сознание того, что никакое дело не может быть плодотворным, не может приносить радости, пока оно не озарено любовью.
III
Все нарядились как на свадьбу.
Андрюс Стропус – в новой, сшитой по последней моде пиджачной паре, в импортных ботинках, на голове дорогая меховая шапка из выдры, а под расстегнутой югославской дубленкой поблескивают все награды – орден Ленина, «Знак Почета» и орден Трудового Красного Знамени. Продолговатое мужественное лицо чисто выбрито, поэтому на нем еще ярче выделяются черная коротко подстриженная щеточка усов под носом, темные лохматые брови и длинные ресницы, из-под которых чуть насмешливо, донельзя самоуверенно смотрят серые глаза.
Вторая по рангу в этой свите (могла бы быть и первой, если бы не председатель колхоза) – Рута Бутгинене. Тоже с головы до ног по-праздничному разодета, надушена резкими духами так, чтобы, упаси бог, коровником не несло, а под теплым полупальто с воротником из искусственного меха притаилась на высокой груди Золотая Звезда Героя.
Остались три члена делегации колхоза деревни Дягимай – секретарь партийной организации Фортунатас Гоштаутас, молодой, неказистого вида мужчина; руководитель подотдела Альгирдас Юодвалькис и свинарка Бируте Стиртене.
От хозяев праздника – сам председатель колхоза «Пирмунас» Донатас Юркшайтис, пожилой мужчина с красным, как жженый кирпич, лицом; секретарь парторганизации Анатолис Плятоте; заведующий фермой крупного рогатого скота Витаутас Зурба и доярка со свинаркой – прославленные передовики молочного и мясного производства. Тоже пятеро. Все расфуфырены, надушены, сверкают орденами и медалями.
Только что каждый выступил перед переполненным залом, дал обещание произвести в нынешнем году всего намного больше, чем в прошлом, оба председателя по очереди торжественно зачитали договор о соцсоревновании, тут же его подписали и предложили поставить свои подписи членам делегаций. И вот сейчас, когда волнующая церемония подписания позади, все дружно отправляются через двор в читальню, где для обильного ужина накрыты столы.
Юргита могла бы вернуться домой – материала для полосы предостаточно, – однако под конец торжественного собрания приехал сам Аполинарас Малдейкис, толкнул пламенную речь, и Юргита не могла устоять перед его просьбой и осталась.
– Секретарь нам оказал такую честь! – сияет от счастья Донатас Юркшайтис. – Не говорил ничего, не обещал и вдруг пожаловал, так сказать, на заключительный акт… А уж речь сказал такую, что всех зажег, люди долго будут помнить.
– Думаете, людям важнее всего красивые речи? – осторожно язвит Юргита.
– И речи, и печать, товарищ Гиринене. И книги, и радио. Все важно. Все, вместе взятое, толкает, так сказать, наш воз вперед и помогает ковать наши успехи.
Между тем Андрюс Стропус тихонько выговаривает Бируте Стиртене:
– Ты же без пяти минут мать-героиня, а кто же догадается о твоем геройстве, если ты дома все награды оставила? В такой день лезешь на трибуну голым-гола! Я же тебя по-человечески просил, я же говорил тебе…
– Не успела, председатель. И все из-за детей. Всюду успей, бегай, высунув язык, как собака, – чуть ли не со слезами оправдывается Стиртене. – Да и неловко как-то, ведь я не артистка. Чего доброго, отстегнется какая-нибудь медаль, потеряю, а потом… Нет, лучше такие штуки под замком держать.
– Государство тебя отметило, а ты – под замком, – не может простить ей Стропус. – Привыкла от муженька все прятать… В другой раз смотри у меня!
– Ладно, ладно, председатель…
Гости вешают пальто в раздевалке, причесываются, охорашиваются и направляются в просторную комнату, которую делят надвое накрытые для пиршества столы. Пока что на них красуются только холодные закуски, горки хлеба, пироги, бутылки.
– Это наша читальня. Временно оккупировали, – кратко информирует гостей Донатас Юркшайтис. – Прошу садиться, не будем ждать, пока все соберутся.
Но гости скромничают: топчутся в нерешительности около столов, пялятся на свисающую с потолка пластмассовую люстру, на стены, увешанные портретами, фотографиями передовиков колхоза, лозунгами, один из которых, приветствующий участников социалистического соревнования, только что начертан. Пока гости рассаживаются, скрипят стульями, зал читальни постепенно наполняется хозяевами: заведующими животноводческих ферм, учетчиками, руководителями подотделов, конторскими служащими и парой-другой почетных колхозников.
– Вот теперь-то можно будет и начать, – говорит Андрюс Стропус, по-хозяйски устроившись за столом. Рядом с ним усаживаются остальные дягимайцы (хозяева – напротив), а на самом краю – Бируте Стиртене, к которой пытается присоседиться Юргита, но Юркшайтис начеку.
– Нет, нет, товарищ Гиринене, – громко протестует он, уважительно взяв ее под руку. – Для прессы у нас специальная ложа. Будьте любезны, прошу прощения…
– Может, без церемоний, товарищ Юркшайтис? – противится Юргита.
– Нет, нет, с церемониями, товарищ Гиринене, непременно с церемониями. В природе только потому и существует гармония, что каждый занимает свое место. А ваше место рядом с уважаемым товарищем Стропусом. Сейчас вы сами убедитесь, как здесь хорошо и удобно, сейчас убедитесь…
Ну и лиса же этот Юркшайтис, думает Юргита, усаживаясь рядом со Стропусом и косясь на пустую тарелку и свободное место слева от себя.
Все становится ясным, как только появляется Аполинарас Малдейкис, который после собрания куда-то ненадолго отлучился.
– Сюда, сюда, милости просим, товарищ секретарь, – обращается к нему Юркшайтис и ведет его к Юргите, с трудом неся свое увесистое брюшко.
Аполинарас Малдейкис приятно удивлен. Так счастлив, так взволнован неожиданным соседством, но артист он никудышный, да и вся режиссура шита белыми нитками.
– Простите, я должен был срочно позвонить одному человеку, – начинает он объяснять, смущенный насмешливым взглядом Юргиты.
– Это вполне понятно. Даниелюс тоже звонит мне, когда где-нибудь задерживается, – притворяется простушкой Юргита.
– А я жене не звоню. Зачем ей зря нервы дергать? «Почему не отозвалась? Куда уходила? Почему у тебя такой голос?..» Черт знает, что только в голову не придет. Когда друг другу доверяют, телефонные звонки ни к чему.
– И вы, товарищ Малдейкис, в самом деле никогда, соскучившись, не бросаетесь к трубке, не звоните, чтобы услышать голос любимого человека?
– Н-даа… иногда бывает. Но меня волнует больше близость женщины, чем ее голос.
Юргита не успевает ответить: вдруг встает Донатас Юркшайтис и произносит первый тост. За социалистическое соревнование, за прекрасных гостей – дягимайцев, за разум и сердце Лаукувского района – товарища Аполинараса Малдейкиса.
Скрипят отодвигаемые стулья, у стола вырастает стена тел. Звенят рюмки.
Аполинарас Малдейкис игриво улыбается и, держа рюмку в руке, кланяется во все стороны. Деликатно отхлебывает глоток и первый садится, увлекая своим примером послушную пока что его авторитету застольную братию.
С минуту-другую слышен только звон ножей и вилок, то тут, то там заглушаемый несмелым гулом голосов, в котором звучат щедрые похвалы умелым хозяйкам, так вкусно и изобретательно приготовившим уйму закусок.
– Вот у кого должен учиться наш общепит, – говорит Аполинарас Малдейкис, как бы вписывая свои слова золотыми буквами в несуществующую кулинарную книгу отзывов колхоза «Передовик».
– Погодите, товарищ секретарь, это только цветочки, – весь светится Донатас Юркшайтис, подперев край стола своим увесистым брюшком. – Ягодки будут, когда на стол начнут подавать горячие блюда.
– И у нас в Дягимай ягодки не хуже ваших, уж вы не выхваляйтесь, – не выдерживает самолюбивая Рута Бутгинене.
Самое время и Андрюсу Стропусу сказать ответный тост. За замечательные традиции соцсоревнования, за хлебосольных хозяев, за руководителей обоих районов – глубокоуважаемого товарища Даниелюса Гириниса и Аполинараса Малдейкиса, оказавшего нам большую честь своим присутствием за этим столом.
Все выпивают стоя. Малдейкис снова кивает во все стороны, отхлебывает из рюмки (на сей раз до половины) и медленно садится, как бы нечаянно задев рукой бедро Юргиты.
– Ой, извините… ради бога, извините… Прошу прощения, – вполголоса повторяет он, виновато потупив взгляд.
После пятого тоста (на стол уже поданы и горячие блюда) все навеселе.
– В прошлом году не хватило сантиметра, чтобы положить ваш «Передовик» на лопатки, – уверяет Юркшайтиса Стропус, навалившись на стол. – Только одного сантиметра…
– Да брось ты, Андрюс… Оба колхоза, можно сказать, идут ноздря в ноздрю, нечего мелочиться, – добродушно приговаривает Юркшайтис. – Если кто-то тебя и превзошел, то разве что я своим брюшком.
– Нет, нет, не хватило сантиметра, – не сдается Стропус. – Но нынче у нас другой разговор пойдет, товарищ Юркшайтис. Разве я не прав, товарищ Бутгинене?
– Да чего с ними долго разговаривать, – хорохорится Рута, удобно устроившись справа от Стропуса. – Не будь у вас такого благодетеля-покровителя, как ваш бывший председатель колхоза товарищ Багдонас, мы бы вас давно обскакали. Он ваш колхоз за своей теплой пазухой держит, вот он где, этот сантиметр.
– Не поминайте имени господа всуе, товарищ Бутгинене, – вежливо предупреждает Юркшайтис. – Ваш колхоз тоже получает все, что ему нужно. Стропус умеет постоять за себя. Так что не жалуйтесь. Не подкидыши, нет. Положим, нас кто-то и держит за теплой пазухой, как вы здесь изволили безответственно выразиться, но такие стройки, какие затеяли вы, нам уж точно не под силу. Два животноводческих комплекса, Дом культуры… Колоссально! – добавил он по-русски.
– Какой Дом культуры? Кто его строит? – Стропус искренне возмущен слухами, распространяемыми легковерами. – Может, когда-нибудь мы его и построим, но пока он существует только на бумаге и в чьем-то горячечном воображении.
– Увы, это правда, товарищ Юркшайтис, только на бумаге, – вдруг вмешивается задетая Юргита. – Ибо товарищ Стропус убежден, что людям достаточно и того, что остается от четвероногих.
– Ах, уж эти мне журналисты! – Стропус снисходительно усмехается, прикрываясь улыбкой победившего праведника. – Несколько капель чернил, два-три листа бумаги – и статья готова. А если на машинке, то небось и того проще. А на строительство Дома культуры тысячи нужны, сотни тысяч. Я уже не говорю о таких вещах, как получение стройматериалов, рабочая сила и прочее. Вот когда у нас появятся лишние денежки и энергия, тогда, может, и возьмемся за такую стройку.
– А вы, черт подери, упрямец, товарищ Стропус, – говорит Малдейкис, решительно став на сторону Юргиты. – Если не ошибаюсь, уже год прошел, как проект утвердили, а вы и пальцем не шевельнули.
– Пошевелим, товарищ секретарь, придет время – и пошевелим, – упивается собственным великодушием Стропус. – Время жить, время умирать, как писал Ремарк.
– Читали? Вы, товарищ Стропус, читаете художественную литературу? – атакует беднягу Малдейкис, стараясь угодить Юргите.
– Все мы в юности горы книг прочитали, – спешит на помощь Стропусу Юркшайтис. – А теперь, если за год одну-другую осилишь, то это уже достижение. Счета, отчеты, хозяйственная литература… Заседания, пленумы, сессии… А сколько времени уходит на такие вот застолья? Иногда себя спрашиваешь, кто ты – человек или мячик, который пинают и гоняют из угла в угол…
Кто-то в шутку заметил, что многоуважаемого товарища Юркшайтиса никто сюда, за стол, за уши не тащил. Как, впрочем, и других собравшихся. Могли бы давно сидеть дома у телевизоров или читать книгу, то есть полезно проводить время.
Юркшайтис с этим не хочет согласиться: человек должен тянуться к человеку, иначе отчужденность доконает его.
Аполинарас Малдейкис полностью поддерживает мнение хозяина и прижимается к Юргите, мол, женщина, вот кто убережет нас от отчужденности.
Собравшиеся за столом почтительно кивают, не станешь же перечить секретарю, а Юргита, игриво отстранившись от Малдейкиса, иронизирует, мол, феминизирующемуся мужскому роду ничего не остается, как с грустью вспоминать те времена, когда мужчина был прибежищем для женщины, а не наоборот.
Рута Бутгинене гордо выпячивает украшенную орденами грудь: кто они, эти мужчины? Цыплята!
– Да, – соглашается Малдейкис. – Мужчины правят миром, а женщины – мужчинами.
– Вы так думаете? – улыбается Юргита.
– Эмансипация – плод женской логики: сами бьют и кричат, что их бьют, – кипятится Стропус. – Перестань хоть на миг быть мужчиной и сразу же окажешься под каблуком у женщины.
– А вы не поддавайтесь, – говорит Юргита. – Как только попытается прищелкнуть вас каблуком, вы тут же ей наручники любви. Наденьте и закуйте.
Но Юркшайтис замечает, что эти наручники чаще всего сковывают руки мужчине.
– Если такое и случается, – не возражает Юргита, косясь на Малдейкиса, который (опять-таки нечаянно, мол) прикоснулся рукой к ее колену, – то это только потому, что вы не умеете этими наручниками пользоваться.
Аполинарас Малдейкис виновато смотрит на Юргиту и отрывистым голосом говорит:
– Не умеем. Да, да, это правда. Поэтому и попадаем в плен к женщине. Мы мышки, играющие в когтях у кошки. Вот в чем наша трагедия.
– Трагедия не мужчин, а мышек, – вставляет Юргита. – С настоящим мужчиной женщина никогда не ведет себя, как кошка с мышкой.
Аполинарас Малдейкис готов согласиться, но ему интересно, каким, на взгляд женщины, должен быть настоящий мужчина.
– В этих делах вы разбираетесь не хуже меня, – отрезает Юргита и прислушивается: за дверьми колхозные музыканты начинают настраивать инструменты. – Как бы то ни было, для женщины важнее всего не то, что, создавая семью, предвкушают некоторые мужчины.
– Да у них только это на уме, – рубит сплеча Рута Бутгинене.
– Это уж точно, – вздыхает Бируте Стиртене.
Аполинарас Малдейкис сдается, бессильно разводит руками, пытается что-то сказать, но голос его тут же заглушают звуки музыки, мощным потоком хлынувшие в читальню.
…Юргита смотрит через плечо Малдейкиса на танцующие пары. Она ловит на себе его цепкий взгляд, чувствует, как дрожит его рука на ее талии. От его одежды несет табаком. Каждое его движение дышит страстью и надеждой, хоть он и сдерживает себя, пытаясь скрыть свои чувства. Танцующие пары то и дело толкают их друг к другу, и Юргите передается чужая дрожь, а Малдейкис, как бы испугавшись такой близости, слегка отстраняет партнершу и взглядом просит у нее прощения. Никогда не знавший поражений, Аполинарас готов зачислить в свой актив еще одну победу. Ну, ну, пусть немножко порадуется, если для него это главное, насмешливо думает Юргита, игриво опустив ресницы и предвкушая свое торжество: ему скоро придется разочароваться. Она входит во вкус и не замечает, как ширится пустой круг, пары одна за другой рассыпаются, жмутся к стенкам и оттуда следят за полетом секретаря Лаукувского райкома с женой секретаря из Епушотаса, кажется – они ногами не касаются половиц. На миг, только на один миг, перед ее глазами проносится та июльская ночь, когда она под открытым небом, под дождем, танцевала с Ричардасом, его озаренное вспышкой молнии мокрое лицо… Шелест приближающегося троллейбуса… Отсветы фонарей на залитом струями воды асфальте… До жути заманчивая тайна глядела на нее со всех сторон своими незримыми глазами, и было чертовски хорошо при мысли, что все, что тебе уготовано судьбой, еще впереди – и любовь, и радость, и скорбь, и сбывшиеся мечты, и разочарования. А сейчас? Господи, а сейчас? Когда у тебя, можно сказать, есть все, о чем только может мечтать женщина, откуда эта неизбывная тревога, разбуженная тоской по далекой юности, обостренная кощунственной мыслью о том, что, кажется, охотно отдашь все, чем сегодня владеешь, за несколько незабываемых часов прошлого, как, например, за ту поездку к морю, когда она бежала от любви; и это неудивительно, потому что по прошествии стольких лет и мука начинает казаться настоящим счастьем.








