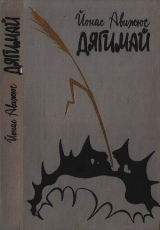
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
VI
Одна из них – Салюте, а другая… Другую он сразу и не узнал: Юргита! Жаркая волна захлестнула грудь, под меховой шапкой на лбу проступили капли пота. Он вдруг устыдился своих валенок, своего старомодного зимнего пальто – ни дать ни взять захребетник деревенский!
– Гостью привезла, – с гордостью сказала Салюте.
– А я собрался было к Бутгинасу, – Унте покраснел, поняв, что спорол глупость. – Но теперь… поскольку Юргита приехала…
– Не вовремя? Да?
– Что вы? Что вы?
– Ну уж теперь все равно не выгоните, – Юргита улыбнулась. На ней была белая меховая шапочка, делавшая черты ее лица еще мельче, но подчеркивавшая черноту глаз. – Тем более, что приехала-то я неспроста, по серьезному делу, касающемуся нас обоих.
Унте ничего не понял – только повел бровью и снова ляпнул ни к селу ни к городу:
– Очень удобно, когда автобусы останавливаются у самого двора. В снег ли, в дождь ли…
Салюте схватила желтевший на снегу тяжелый саквояж.
– Оставь! Унте возьмет, – промолвила Юргита.
Унте обернулся и чуть ли не силой вырвал из жениных рук ношу.
– Да мне не тяжело… до дома-то всего два шага… Не такие тяжести таскала… – защищалась Салюте, не отдавая саквояж.
Унте покраснел как рак.
– Чего это ты накупила столько, – грубо перебил он жену, боясь, чтобы та не принялась рассказывать, сколько потратила денег.
Открывая дверь в прихожую и приглашая гостью войти, Салюте похвасталась перед Унте, что гостила у Юргиты и до тех пор не отпустит ее домой, пока не ублажит своими угощениями.
Вошел старый Гиринис. В одной рубахе, как юноша, меховая шапка в соломинках, он только что из хлева – скотину кормил.
– Здравствуй, невестка, – радушно встретил он Юргиту, прижимая ее к груди. – А Даниелюс что?.. Опять не мог?..
Юргита хотела сказать правду («На охоту уехал»), но не стала огорчать свекра.
– Доклад готовит. Совещание скоро, – соврала она. – Секретари, отец, люди подневольные.
– Что верно, то верно, подневольные, – согласился старый Гиринис и горько усмехнулся. – Теперь все казенное.
– А где Юстина? – спросила Юргита, уводя свекра от опасной темы.
– На ферме. Ведь и Юстина казенная. Воскресенье не воскресенье, возится со своими коровами неизвестно за какие грехи… Просто жаль смотреть на нее. Но что это мы тебе своими бедами голову морочим? Ведь в гости приехала!.. Салюте, голубка, сбегай в чулан за пивком!
– Нашел, видите ли, с кем пиво пить! – прыснула Салюте.
– А что? Такое вкусное, как отцовское, и я не прочь… – сказала Юргита.
– Ну, что я говорил? – старый Гиринис весь сиял. – Какие это гости, если на столе кувшина нет?
– Председатель обещал представить Юстину к высокой награде, – насмешливо выпалил Унте, когда Салюте шмыгнула в чулан. – Но Героя она не получит, потому что две звездочки одному колхозу не дадут… Тем более что у одной доярки, Бутгинене, уже есть.
– В бирюльки играют, как дети, право слово, – заметил старый Гиринис. – Лучше бы Юстине сменщицу дали, может, так бы не уставала.
– А где ж ее взять? – отозвалась Салюте, вернувшаяся с пенящимся горьковато-сладким пивом. – В колхозе людей не хватает, не только коровницы, но и мы, свинарки, света белого не видим.
– Такие заботы мучают не только Дягимай, – поддержала золовку молчавшая до тех пор Юргита. – По всей стране не хватает рабочей силы… В деревне и в городе, в колхозах и на фабриках.
Старый Гиринис нервно мотнул головой.
– И будет не хватать, пока люди не научатся работать, – не выдержал он. – Пока не будут себя уважать и других. Потому-то и товар никудышный, да и производят его меньше. А эта ваша материальная заинтересованность только предлог для начальников… Чтобы оправдаться. Настоящих причин они-то не хотят видеть. К примеру, наш колхоз. У людей не сотни рублей – тысячи на книжках. Стало быть, заработок у каждого приличный. В городе, конечно, хуже; живя на асфальте, на жалованье далеко не уедешь, не разбежишься, как говорят. Но и там никто голым не ходит, с голоду не пухнет. Живут люди-человеки… Есть у них на что и одежу справить себе, и поесть, и, коли позарез нужно, машину купить. Нет, дети мои, не здесь собака зарыта, дело не в том, что одни работают каждый день, не ведая, что такое выходной, а другие баклуши бьют. Нет! Порядка не хватает – вот что! Дисциплины! Уж больно много всяких чинодралов развелось! Начальничек над начальничком, контора над конторой, поди угадай, куда сперва пойти, куда потом, ежели у тебя какое-нибудь дело. Намедни и сам Даниелюс возмущался… рассказывал, как одна вдова двадцать справок собрала, чтобы своим малолетним детям пенсию выхлопотать. Вы это называете бюрократизмом, а я так думаю: проверка за проверкой не от хорошей жизни – от недоверия к человеку, от страха, вдруг власть обманут. И что же?.. Все равно обманывают, сколько там проверок ни учиняй! А когда нужно призвать виновного к ответу, вот тут и начинается: виновников вроде бы и нет, закон запутался среди прорвы ответчиков, каждый посылает к другому, и в конце концов всю кашу должен расхлебывать самый меньший. Всех этих щелкоперов, всех этих переписчиков, переливателей из пустого в порожнее, всех этих выдавальщиков справок и бумажек надо к работе, к делу приставить! А ведь сколько их, этих канцелярских крыс, во всем нашем необъятном отечестве небось миллионы… и все они только и делают, что наши закрома опустошают. Пусть же производят то, что нужно, пусть человеку пользу приносят, дармоеды. Тогда бы никто не жаловался на нехватку рабочих рук… И каждый мог бы по-людски отдохнуть, да и прилавки в магазинах ломились бы от всякой всячины… Эх, да что тут говорить, это и малому дитяти ясно. Почему же те, у кого башка на плечах, те, кто должен заниматься этим, не желают понять…
– Может, и понимают, да боятся мозгами пошевелить, – сказал Унте, наливая всем пива. – Невыгодно, а главное – опасно, еще, не приведи господь, обмишулишься, на смех тебя поднимут вместе со всеми твоими новинками… такое, отец, уже не раз случалось. Поэтому те, что побашковитей, считают так: лучше сидеть в своем кресле и не рыпаться, послушно пережевывать старые истины, забыв главную из них: жизнь не стоит на месте.
– Скажи, какой нашелся! А ты новые истины пережевывал бы, посади тебя в такое кресло? – вмешалась Салюте, направляясь в кухню с пустым ведром. – Легко учить других… Это дело нехитрое…
– А я бы… я бы землю вверх дном перевернул! – не на шутку распалился Унте. – У меня никто бы не врал. Никто бы не крал, никто бы не мошенничал. Моей правой рукой были бы не подхалимы и аллилуйщики, а мудрость и справедливость.
– Словом, ты бы навел порядок, – рассмеялась Юргита.
– В один присест! – не унимался Унте, выдув всю кружку.
– А ты откуда знаешь? Может, так, как ты, думали и они, перед тем как усесться в свои кресла? На словах переворачивать землю вверх дном легче, чем на деле.
– В том-то и вся загвоздка, что на словах! – отрезал Унте, поймав себя вдруг на мысли, что Юргита пытается защитить Даниелюса. – На трибуне соколами летают, а на земле воробьями чирикают.
Споря, они и не заметили, как пришла Юстина – неказистая, рано располневшая старая дева. Поскольку характер у нее был замкнутый и при чужих она стеснялась выказывать свои чувства, то могло показаться, что приезд гостьи не очень-то ее обрадовал. Юстина сняла нейлоновую куртку и поспешила на кухню, чтобы помочь Салюте. А Юргита между тем попросила Унте показать ей проект нового Дома культуры.
– Я думаю, Стропус сдастся, – сказала она, когда все уселись за стол. – Только не надо уступать. Ведь старый Дом культуры и впрямь не годится для такого богатого колхоза, как Дягимай.
– Для того чтобы отплясывать до одури на танцульках, и теперешний хорош, – буркнул старый Гиринис. – И ежели хочешь какую-нибудь картину посмотреть, то места в зале для всех желающих хватает… Правда, бывает, хлынут из соседних колхозов!..
– Да что вы тут говорите, отец? – подскочил Унте. – Как только что-нибудь посерьезнее или поинтереснее, половина за дверьми остается. В прошлом году театр четыре раза приезжал. Но что из того? Только треть попала!.. А в нынешнем году только два спектакля привезут… маловато, мол, публики, неудобная сцена… Нет, отец, наш старый Дом культуры годится только для самодеятельности. И то не от хорошей жизни…
– Годится не годится, а ты сиди и не суйся, – наставительно произнесла Юстина. – Пусть решают те, кому положено.
– Кто? Стропус, наш благодетель? А может быть, правление, которое под его дудку пляшет? Дождешься, пока они решат!..
– Не решат сейчас, решат попозже, – поспешила Юстине на помощь Салюте. – Тебе все тотчас подавай… как только приспичит. Право же, терпения у тебя ни на грош. Кипятишься, горячку порешь, сгоряча и брата обидел, и с председателем поцапался. А ведь Стропус – неплохой человек, с ним ужиться можно…
– Помещик! – зло бросил Унте. – Колхозник ли говорит, пес ли брешет – ему все едино.
– Простить ему не можешь, что он тебя из правления вытурил? – ужалила Юстина.
– Из правления я сам ушел На кой черт мне там играть в демократию, если я все время должен руку поднимать только за то, что нравится товарищу Стропусу?
– А тебе что – поднять ее тяжело? – произнесла Салюте. – Может, скажешь – Стропус колхозу зла желает? Говоришь, как…
– Лучше бы помолчала, – перебил ее Унте. – Сунул тебе краюху хлеба с толстым слоем маслица, вот ты и прыгаешь вокруг хозяина, как собачонка… А надо быть человеком. Со своим разумом, мнением, достоинством. Может, кое-кому и совсем нетрудно поднять руку по приказу господина, а по мне, лучше с голоду подохнуть, чем на коленях ползать.
Старый Гиринис, сияя от гордости, положил сыну на плечо руку: мол, дело говоришь, Унте!..
– Похвально, сын мой. Я не помню своего деда, но отец рассказывал, что во времена крепостного права его забили до смерти плетьми только за то, что по велению пана он осмелился сказать ему горькую правду в глаза. Другой на его месте малодушно соврал бы и выкрутился, но наш дед был человеком гордым и достойным.
– Слава ему, – послушно согласилась Юстина. – Но живым от дедовской правды легче не стало.
– То-то, – заерзала Салюте. – Жена осталась вдовой, а дети сиротами. И уделом их до гроба были нищета и панский гнев.
– Панский гнев? Но и уважение всех, – с нажимом сказал старый Гиринис.
– Нечего им объяснять, отец, – прохрипел Унте, без аппетита пережевывая кусок колбасы. – Они могут оценить только то, что можно на весах взвесить. А почет и уважение… Порядочность, достоинство человека… Не поросенок – не взвесишь, килограммами не измеришь, чтобы цену установить. Так на кой шут этот Дом культуры, ведь его ни доить, ни резать… на кой эти театры, книжки, концерты? К чертям их собачьим! Давайте побольше сала, давайте отгородимся свиными загонами от всего мира и будем набивать рублями сберкассы!
– А по-твоему, их лучше пропить? – без обиняков спросила Юстина.
– В самом деле, ты хоть бы постыдился так говорить, – напустилась на Унте жена. – Радоваться надо, что люди трудятся, с толком деньги тратят, а ты, как Стирта… И без нас хватает лоботрясов и лодырей, по вине которых люди должны бог знает откуда ехать, чтобы купить кусок колбасы или мяса.
– Да разве ж я за лодырей, за пустую трату денег? Ах вы, вороны эдакие! – Унте пренебрежительно махнул рукой, давая понять, что нечего с такими разговаривать. И снова налил всем бокалы, а свою кружку, выпитую до дна, наполнил, не скупясь.
Теперь заговорила Юргита, державшаяся до сих пор в тени.
– Кто же может осуждать человека за его трудолюбие, за умение толково тратить заработанные деньги? Мы должны только гордиться этим и с благодарностью вспоминать наших пращуров, которые воспитали эти черты в нашем народе. Однако одно дело – работать с любовью, из чувства долга, и совсем другое – стать рабом своей работы… Как мне кажется, Унте подразумевал как раз это. Работа, работа и только работа. С утра до позднего вечера. Колхоз, своя скотина, огород… Бесконечный бег по кругу, урывками чтение газеты, еще реже книги или какое-нибудь другое развлечение. Вот человек и становится похожим на рабочую скотинку, за день так умается, что вечером валится как мертвый в постель или засыпает у телевизора…
– Это вы о ком? О мужиках или бабах?
– Обо всех, кто от жадности из кожи вон лезет.
– Ну уж наши мужички не перерабатывают. Не жадные…
– До работы не жадные, – поправила Юстину Салюте. – А от водки никакими силами не отдерешь.
Юстина скупо улыбнулась своими тонкими губами, соглашаясь с Салюте. Затем покраснела, обиженная каким-то тайным намеком, и ни с того ни с сего затараторила, все больше распаляясь и входя в раж:
– Жадность? Мы ишачим, высунув язык, от жадности, по-вашему? Ну знаете ли – такое может ляпнуть только горожанин, отгородившийся от деревни бумажной стеной. Ему-то что – ни огорода, ни скотины. Захочет молока – шасть в магазин, захочет какой-нибудь овощ – туда же. Плати денежки и бери надушенными ручками, лакированными ноготками… Шляпка, кудряшки…
– А чем плохи шляпа и кудри? – вспылила и Юргита. – В человеке все должно быть красиво, гармонично. Кто не смотрит за своей внешностью, у того и душа коснеет.
– Может быть, и коснеет, но зато город сыт. Вы! – рубанула Юстина. – Если мы вместе с вами будем бегать на базар за каждой мелочью вместо того, чтобы самим ее вырастить, то и в витринах ничего, кроме деревянных окороков и крашеных бутылок кефира, не останется. Потому-то мы бродим по навозу, потому-то вкалываем на огородах… от жадности. От той же жадности откармливаем какую-нибудь хавронью на продажу, потому что один черт – двух или трех кормить. От той же жадности возимся с колхозными животными – доим коров, кормим свиней, телят… Одним словом, превращаемся в рабочую скотинку, чтобы вы, горожане, с голоду не мерли.
– Какая уж тут жадность! – заступилась за свою работу и Салюте. – Не знаю, нашелся бы хоть один, который копался бы в огороде, ежели бы в деревенском магазине можно было все купить, как в городе? Разве я бы кормила такую ораву свиней, будь в колхозе людей побольше? Стропус так расставил. Вот откуда эта жадность.
– Я не о тебе, Салюте, – поспешила успокоить ее Юргита. – Ведь есть же и такие, которые ни о чем не думают – только бы как можно больше денег зашибить, вещей дорогих купить…
– Что поделаешь, невестка. Человек уж так устроен: ему подавай жизнь получше да покраше, – отозвался и старый Гиринис.
Унте почтительно объяснил отцу, что желание жить получше да покраше не то же самое, что погоня за богатством, а Юргита, желая, видно, разрядить обстановку, добавила, что иногда человека делают жадным неблагоприятные условия, это, мол, их вина. Она даже сослалась на Дягимай: из-за нехватки рук люди должны работать здесь в два, а то и в три раза больше, чем следует; за свою работу они и получают соответственно, то есть жалованье у них в два или в три раза выше, а такие деньги – не так-то просто распустить. И еще: поскольку из-за большой занятости человек как бы наглухо отгораживается от культурной жизни, душа его нищает и хиреет, возникает пустота, которую и заполняют низменные страсти: пьянство, безудержное накопительство и тому подобное.
Юстина со всей решительностью ополчилась против такого мнения Юргиты. Она упрямо, с какой-то отчаянной яростью доказывала, что работа может заменить человеку все – всякие там культмероприятия, развлечения, удовольствия, потому что начало всех зол – леность. Дочь поддержали и старый Гиринис, и Салюте: кто родился на свет волком, тот волком и подохнет – лентяй, мол, будет баклуши бить, пьяница – пить, а скупердяй – складывать рубль за рубликом, сколько бы ни зарабатывал.
Унте, вконец потерявший надежду столковаться со всеми, только нервно подергивал плечом, хмурил густые черные брови, косясь на веселое пиво, от которого щеки покрылись легким багрянцем, и растерянным взглядом просил прощения у Юргиты за прямоту и дерзость Юстины. А Юргита искренне радовалась тому, что ужин идет к концу и можно подумать об отъезде.
Но вечерний автобус уже проследовал в Епушотас, а следующий отправится туда только в шесть утра.
– Колхозных шоферов теперь нигде не сыщешь – воскресенье, – забеспокоилась Юстина. – Стропус, тот охотно отвез бы… как-никак жена секретаря…
– Стропус?! – встал на дыбы Унте. – Этого не хватало, чтоб мы у него просили! Лучше я к бригадиру схожу – лошадь даст. За час, глядишь, и доберемся до Епушотаса.
– Так-то, – одобрительно осклабился старый Гиринис. – Лучше всего мотор, работающий на овсе. Только смотри, ноги не отморозь!
– Я дам Юргите свои валенки, – добродушно предложила Салюте.
Унте торжествовал.
Вскоре одноконные сани промчались по деревне. Юргита тихо ахала от удовольствия, сидя на покрытом попоной облучке рядом с Унте, который одной рукой держал вожжи, а другой размахивал над головой кнутом, стараясь поторопить ленивого, но быстрого мерина. Всем существом Унте чувствовал: ей хорошо, ей очень хорошо, и сердце замирало от наплыва каких-то добрых, доселе не изведанных чувств. В голову пришла странная мысль: если бы с Юргитой что-нибудь приключилось в дороге и ей понадобилась помощь? Тогда бы она убедилась, что он готов отдать за нее все, даже жизнь. Его так и подмывало засыпать ее вопросами: не холодно ли, удобно ли, не слишком ли он гонит? Однако Унте не отваживался заговорить, боясь вспугнуть негаданное блаженство, которое казалось таким же бесконечным, как лента шоссе, посеребренная холодным лунным сияньем.
– Господи, какая ночь… какая ночь! – как зачарованная повторяла Юргита, кутаясь в воротник шубы.
Унте чудилось, будто он слышит не шепот ее, а мысли, и его захлестнуло такое чувство близости, что острая тоска сжала горло. Он глядел, не отрываясь и почти не помня себя, на придорожные деревья-лунатики, подпиравшие своими заиндевелыми верхушками небо, на бледную и зябкую луну, и Унте не было никакого дела до того, что часа через два этот небесный фонарь погаснет и домой придется возвращаться в кромешной тьме. Ехать бы и ехать так всю ночь, слушать скрип полозьев, которому время от времени вторит ржанье быстрого мерина, и чувствовать рядом с собой ту, которую обожаешь…
– Боже, как я рада, – повторила она, высунув голову из воротника свекровой шубы. – Хорошо, что прозевала автобус. Хоть разок всласть на санях покатаюсь!..
– И мне санный путь по нраву, – засуетился Унте. – Только вот беда: вид уж больно однообразный: ни холмов, ни лесов. Небо в ясную погоду куда красивей, чем земля. Смотрите, эвона сколько звезд! Видите вон те, на западе… очень яркие, напоминающие вроде бы крест… Они так и называются Северным Крестом!.. Где-то сразу же за ним должны быть созвездия Льва и Девы, но сейчас их не видно. А вот эта светлая полоса через все небо – Млечный Путь… Трудно представить себе, что самая крохотная звездочка, которую мы видим невооруженным глазом, во много раз больше, чем наша матушка Земля! А ведь за ней еще другие… и еще… Созвездие за созвездием… И так без конца и без края, как подумаешь, голова кругом идет. – Унте замолк, спохватившись, что все эти сведения о звездах и без его болтовни известны: чего он ей небесную механику излагает? Он поглядывал на нее, кутающуюся в воротник отцовой шубы, и, приняв ее молчанье за согласие, продолжал, не требуя ни вопросов, ни ответов: – Когда я был маленький, чего только не придумывал! Бывало, мысленно превращаюсь в какое-нибудь живое существо и… Эх, смешные бредни детства!..
– Ничего смешного в этом нет, – прорвался сквозь скрип полозьев негромкий голос Юргиты. – И мне в голову приходила всякая чушь… В детстве все чисто, прекрасно и невинно.
– Что верно, то верно, чистыми мы были, – согласился Унте и, обласканный ее вниманием, раскрыл душу. – Да, да, всякие со мной случались превращения, как в сказке, обернусь, бывало, то тем, то этим, а чаще всего птицей. Поднимаюсь, бывало, ввысь, и все мне мало. Уже и до звезды рукой подать, и Земля сверху выглядит как маковое зернышко, а мне все мало. Больше всего мне нравилось летать над Млечным Путем. Может, потому, что мне о нем всякие чудеса рассказывал еще мой дедушка Доминикас: выведет в ясную ночь и показывает мне, малу эти рои, эти стада звезд, мерцающих в палевой мгле, и как начнет свои байки… Головастый был старик, царство ему небесное, а уж врал – заслушаешься!.. От него я узнал, что птицы по нему, по Млечному Пути, в теплые края улетают, а вот эти туманности, которые Повилас называет космической пылью, это отставшие от стаи птицы, которые от спеси хотели выше всех подняться и потому были обречены на вечное скитание среди звезд. И еще всякие другие небылицы поведал мне мой дед, за ночь при всем желании не расскажешь…
– Говори, говори, – подхлестнула его взволнованная Юргита, утопая в теплой свекровой шубе.
Но Унте, побродив по Млечному Пути, вернулся на Землю.
– Так говорите – санный путь нравится? И эти равнины не кажутся вам скучными?
– Конечно нет. Наоборот. Меня равнины всегда волнуют. Вокруг такой простор, такая свобода!.. Да и вообще красиво.
– Это так… Но вот по лесу в санях промчаться… Да еще если он холмистый. Ни с чем не сравнишь!
Юргита прыснула.
– И откуда у тебя, выросшего на равнине, эти холмистые леса? Где ты их здесь видел?
Унте, удивляясь самому себе, пожал плечами.
– Это у меня, видать, с армейских Бремен. Я служил в гористой местности. Среди лесов.
– А чем этот плох! – Юргита показала рукой на белевший по обе стороны дороги березнячок, куда они только что въехали. – Сворачивай направо и чеши.
– Вы всерьез?
– Еще бы!
– Да? Но мы можем грохнуться…
– Разбиться о березу! – Юргита весело рассмеялась. – Увязнуть! Утонуть в снегу! Господи, сколько всяких опасностей нас подстерегает!..
– Раз так, то вперед! Навстречу смерти! – воскликнул Унте, заражаясь ее игривостью, и стегнул кнутом мерина. Стегнул и рванул вожжи вправо, на обочину. – Но, но!.. Оп-ля! – вопил Гиринис, пританцовывая в санях и остервенело орудуя кнутом, свистевшим над головой лошади, но не обжигавшим ее потную спину.
Юргита и оглянуться не успела, как сани пустились по березняку, перемахивая через широкие тени деревьев, через их затейливый рисунок на снегу, в котором увязали полозья. Оглобли поскрипывали своими стальными ковками, потный мерин только фыркал, пар от него клубился облаком, и это облако пахло чем-то соленым и едким, а Унте только покрикивал, осклабившись, разинув рот как привиденье – все громче, все веселей, потому что было страх как приятно слушать свое собственное эхо:
– Нооо! Оп-ля!
– Ноо! Оп-ля! – не отставала и Юргита.
Войдя в раж, они пересекли березнячок, проехали через него и вдоль и поперек, а потом, захваченные азартом, поддаваясь какой-то безотчетной страсти, пустились вокруг. Снега было немного, только кое-где белели сугробы, разгоряченный конь так несся, обдавая их хлопьями летящего из-под копыт снега, что по спине у Юргиты и Унте мурашки ползли.
– Хорошо? – то и дело спрашивал Гиринис, готовый безумствовать всю ночь, только бы доставить ей радость.
– Хо-ро-шо! – отвечала та, откидывая голову и защищая лицо от летящего снега. – Оп-ля! Оп-ля!
Ах, никогда еще Унте не было так славно, как в ту зимнюю ночь! От Юргитиного ликования, от ее ахов и охов кругом шла голова, и Унте, как бы желая продлить этот нечаянный праздник, эти богом дарованные ему минуты, неожиданно для самого себя затянул народную песню:
Эх, пил я пиво
и песню пел.
Кто ж расписал лицо мне,
Кто же расписал лицо мне?
Хмелек веселый,
хмелек веселый —
он расписал лицо мне,
он расписал лицо мне.
Что густо вьется,
что ввысь стремится,
тот расписал лицо мне,
тот расписал лицо мне…
– У тебя голос красивый, Унте, – похвалила его Юргита.
– Эту дед пел. Доминикас… Я знаю много. Мне только старинные песни и нравятся. Теперь придумывают, пожалуй, похлеще, но…
– Лучше твоих нет, – возразила Юргита. – Потому что их народ складывал… Ты можешь выступать с ними на сцене вашего Дома культуры.
Унте ответил не сразу. Смотрел на далекие, проплывавшие над ним звезды, и улыбался: в ушах еще звучала песня.
– Приглашали в хор… Но мне и одному неплохо… Нооо! Оп-ля! – снова подстегнул он мерина.
– А ты попробуй не один, – соблазняла его Юргита. – Покажи всем, какой у тебя голос. Порадуешь сотни, а может, и тысячи людей да и сам испытаешь настоящую радость.
– Ноо! Оп-ля! – еще яростней гремел Унте, встав во весь рост.
Сани описали еще один круг, бог весть какой по счету; умаявшийся мерин вдруг метнулся в сторону, сани ударились о дерево и перевернулись.
– Сумасшедший! – пыхтел Унте, барахтаясь в снегу. – Нарочно, чертяка, опрокинул!..
Юргита лежала рядом и тихонько смеялась.
Унте изрядно устал, пока поднялся: ноги его запутались в длиннющем отцовском кожухе, в который была закутана Юргита, маленькая, да удаленькая. Когда же ему наконец удалось освободить ноги, он встал и побрел к мерину, стоявшему чуть поодаль, перевернул сани, сложил вывалившееся сено, попону, облучок, но все это он делал как бы не наяву, а во сне. Он видел себя, окутанного какой-то странной дымкой, держащего на руках Юргиту, видел ее огромные черные, искаженные испугом глаза, слышал, как судорожно-маняще шелестят ее губы… И еще видел, как целует их… И был счастлив, что хотя бы мысленно может прикоснуться к той, которую боготворит, к той, о которой никогда не позволит себе грязно подумать. И от этого счастья ему было немножко стыдно: как же это он распоясался, обидел ее, Юргиту… Брата своего, Даниелюса…
Снедаемый чувством вины, он вернулся домой и несколько дней ходил сам не свой, то и дело вспоминая это буйство, это сумасшедшее круженье по березняку, который мерещился ему ночами, – огромный белый колокол, звенящий от песен…
А в субботу, в банный день, отправился он в колхозную баню. Робертас Марма выбрал ему веник получше, парку поддал, только согрейся изнутри после мытья, и готово. Унте присел к четверке Пирсдягиса, которая в конце каждой недели устраивала в бане складчину, но о том, чтобы опрокинуть стаканчик, он и не помышлял. Просто было интересно слушать, о чем судят да рядят мужики, и, отказываясь от рюмки, чувствовал свое превосходство. Самым молодым тут был Юозас Гайлюс, самыми старшими – Еронимас Пирсдягис да Моте Мушкетник-Кябярдис, порядком перевалившие за пенсионный возраст. К ним присоседился и мастер Игнас Сартокас, золотые руки, без его помощи в Дягимай никто не обходился. Мужики чесали языками о том о сем, то переходя от повседневных дел к политике и злобе дня, то перескакивая в далекое прошлое, когда они были почти юнцами и все с ними считались. О-о, попробуй не считаться! Кто теперь, к примеру, Еронимас Пирсдягис? Самый обыкновенный пенсионер-доходяга. А в первые послевоенные годы силища был! Нагрянет, бывало, с такими же, как он, на кулацкое подворье, только пух и перья летят. У всех поджилки трясутся, даже на другом конце деревни дрожат. Милости просим, товарищ Пирсдягис. Все будет сделано, товарищ Пирсдягис. На стол яства ставят, бутылки… Ешь – не хочу! Или Мотеюс Кябярдис, которого в ту пору никто не смел в глаза Моте Мушкетником называть. Товарищ председатель сельсовета – и баста. Да так уважительно, так торжественно, словно он не Кябярдис вовсе, а председатель Совмина.
Да, знали в ту пору люди свое место. Боялись, уважали… А кто нынче председатель сельсовета? Скажем, тот же Ляонас Бутгинас. Из-под Стропусова каблука выбраться не может. О-о, попробовал бы такой Стропус тогда… Председатель сельсовета бац кулаком по столу, и твой Стропус тише воды, ниже травы… Мигом на место поставили бы, это уж точно. Это уж точно, согласился Игнас Сартокас и, как уже не раз бывало, когда разговор заходил о тех временах, снова вспомнил про свою загадочно исчезнувшую работу, про свою резьбу с изображением деревни Дягимай. Мотеюс Кябярдис согласно качал головой, но Сартокаса не очень-то убедили слова дружка, будто резьбу эту кто-то спер из зависти. Такая работа – вы только подумайте! Очень подошла бы новому зданию Дома культуры, очень…
Юозас Гайлюс прислушивался к разговорам и криво усмехался: господи, какая чушь! И, улучив момент, заговорил о своих бедах, хотя на сочувствие и не рассчитывал. Эх, не повезло ему со старшими детьми, еще как не повезло! Девчонка, та в Вильнюсе за какого-то чужака выскочила, с ней и договориться-то нельзя, в деревню носа не казала, а ежели и появлялась, то только и делала, что денежки на кооперативную квартиру клянчила. Пожалел ее Гайлюс, построил – как-никак свое дитя. А вот недавно примчалась ни жива ни мертва: дай, батя, веревку, удавлюсь, житья нет. Оказывается, ирод ее, муженек, другую себе нашел. Спутался и привел в дом без всяких стеснений, потому что половина кооперативной квартиры и ему принадлежит. Несколько тысяч псу под хвост! А ведь каждый рубль кровавым потом полит. А тут – надо же – чужак на твое добро… Спрашивается, где нынче у людей совесть? А Альбертасу хоть бы что, только смеется. Были дураками, вот и построили, говорит. А он-то сам умный, что ли, ежели с такими гулящими, как эта Живиле с птицефермы, якшается? Половина получки – в трубу, а еще хочет, чтобы отец ему машину купил. Днем и ночью донимает, на отцовский карман зарится – денег ему, денег! Однажды, пьяный, даже за грудки схватил, грозился душу вместе с деньгами вытрясти. Не сын, а разбойник, чтоб ему пусто было. Просто не верится, что за год мог так испортиться. Армия, сдается мне, исправила бы. Там последний неслух шелковым становится. Обломали бы ему рога, уму-разуму научили бы. Армия – сущее спасение для таких лоботрясов. Но дело в том, что не берут его… Такую беду старый на себя навлек, хоть в голос вой. Ах, если бы знать, если бы знать… Ни за какие деньги!..
Гайлюс осекся, испугавшись, что сболтнул лишнее, но его собутыльники, догадавшиеся о том, почему Альбертаса, такого здоровяка, не призвали в армию, подбивали Гайлюса-старшего еще на одну бутылку.
– Комбинатор ты, Гайлюс, комбинатор, – приставал к нему Моте Мушкетник-Кябярдис.
А Пирсдягис стращал:
– Свернет тебе сею твой родной сыноцик, помяни мое слово.
Гайлюс стукнул кулаком об стол:
– Мои дети – мои беды, черт бы вас всех побрал! – И швырнул стоявшему поодаль Марме пятерку на пол-литра.
Мужики были ошарашены:
– Такой скупердяй раскошелился! Ну теперь все собаки в Дягимай подохнут!
Унте терпеливо сидел, пока мужики не опорожнили Гайлюсову бутылку. Перед ним поблескивала полная стограммовая рюмка – штрафная за опоздание. Собутыльники с обеих сторон подталкивали Унте локтями – тяпни, мол, но он только мотал головой, виновато улыбался и с отвращением взглядом отодвигал от себя напиток. Тогда Пирсдягис, выцедив последнюю каплю из бутылки, нашарил в кармане рубль и предложил скинуться еще на одну поллитровку. Четверо мужиков – четыре рубля. Унте гордо извлек из кармана пятый рубль и, словно милостыню, протянул собутыльникам, презрительно усмехаясь и окидывая каждого взглядом.








