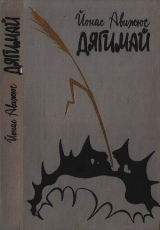
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц)
II
Так думал старый Гиринис и в тот день, когда со стороны Гедвайняй до деревни докатились отголоски первых взрывов, положившие конец разговорам и пересудам о том, что строительство фабрики решено-де временно заморозить, потому что власти еще раз хорошенько пересмотрели проект, оказавшийся явно устаревшим.
– Раз так, дело застряло лет на пять, не меньше, – утешали друг друга жители Дягимай.
Одни из них тихо радовались («На кой нам этот город в деревне?»), другие в душе сожалели, что не смогут связать свою судьбу с фабрикой.
Йонас Гиринис ни сожалел, ни радовался. На строящуюся фабрику старик смотрел, как смотрели его предки на крепость, которую противник обычно сооружал на захваченных владениях; чеши языком сколько влезет, на заложенном фундаменте все равно непробиваемые крепостные стены вырастут, ежели кто-нибудь их не разрушит. Но, даже не веря слухам, старый Гиринис питал смутную надежду, что в них, в этих слухах и пересудах, кроется беззащитное зернышко правды.
Поэтому-то на другой день, как только установилась погода, собрался он в Гедвайняй, чтобы все самолично проверить. Четыре километра ходьбы были для его норовистых ног еще совсем недавно сущим пустяком – он столько за всю свою жизнь пешком проходил, что всю землю, пожалуй, раза два обогнул, но сейчас ноги не слушались. И уж совсем они подкосились, когда внезапно грохнул взрыв и над стройкой повисло черное облако пыли. Потом снова грохнуло. И снова!.. И еще раз!.. Всего, наверно, с полдюжины… Старый Гиринис только разевал рот, как рыба, выброшенная на берег, смирнехонько сидел в канаве и ждал, когда кончится эта бомбардировка, и в его встревоженном, гулко бьющемся сердце снова затеплилась погасшая было надежда: а вдруг на самом деле заморозят? Вот этими самыми взрывами сметут то, что уже сделано, и вздохнет земля… Но когда старый вылез из канавы, насытившись утешением, самому стало смешно от своих мыслей: за высоким фабричным забором чернел лес кранов и экскаваторов, и был этот лес гуще, чем две недели тому назад, и шум над ним стоял такой же, если не больший, и людей как будто прибавилось. В широко распахнутые ворота вползали самосвалы, груженные землей, а со стройки возвращались порожняком, изредка преграждая путь могучим «МАЗам», таскавшим прицепы со стройматериалами.
Йонас Гиринис долго стоял, впившись жадным взглядом в стройку и отыскивая в каждой мелочи то, что могло подтвердить глупую надежду, побудившую его отправиться из деревни сюда, в Гедвайняй. Напрасно! Фундамент крепости рос неудержимо, вскоре на нем воздвигнут и все строение, и в его бастионах, чуждых и непонятных старому Гиринису, обоснуется, расположится, укрепится весь гарнизон, готовый к новым завоеваниям…
Смутно догадываясь о том, что он всего-навсего мелкая щепка в бушующем океане времени, Йонас Гиринис потопал домой еще более подавленный, чем прежде… Подумаешь – горе, утешал он себя, ежели им позарез нужно, пусть себе строят, мне-то что? Все равно долго не протяну, на мой век хватит еще и воздуху, и воды, и добрых людей, и лесной зелени… Нет, нет, не задохнусь, пока жив. А мертвому все одно, цветут ли на могиле цветочки или выжгли землю так, что не найти на ней, на сто верст вокруг, ни одной травинки…
Его вдруг захлестнула непостижимая, несказанная тоска, смешанная с прорвой других, невыразимых и безымянных чувств. Что это были за чувства? То ли предостережение? То ли страх? То ли тревога? Ответственность за будущее рода, за судьбу своего племени? То ли унизительный стыд за свое бессилие? Йонас Гиринис просто задыхался от наплыва этих навязчивых, подспудных чувств, не находя (да и не пытаясь найти) им ни начала, ни объяснения, и, спроси у него кто-нибудь, чего ты, старче, такой мрачный, он мог бы только ответить: сегодня у меня чертовски скверно на душе. Но когда старый Гиринис недалеко от Дягимай встретил трех чужаков, все его чувства слились в одно – в ненависть. Старик притворился, будто не видит их, хотя прекрасно видел: один из чужаков нес пластмассовый бидончик с какой-то жидкостью, а двое других – пузатые портфели. Достаточно было одного взгляда, чтобы запомнить их. Наверно, они чем-то отличались друг от друга – возрастом, внешностью, наконец, одеждой, но старику Гиринису показалось, что троица удивительно похожа, он даже на миг подумал, не троится ли у него в глазах… Но нет, их и впрямь было трое. Все они были одинаково одеты – в комбинезоны, – обуты в резиновые сапоги, а на круглые головы нахлобучены шлемы, казалось, будто они срослись телами: не только плечи, груди, бедра, но даже складки на комбинезонах были словно выточены.
Выточены, ей-богу, выточены, уверял себя старый Гиринис. Выточены и с ног до головы серы от пыли. Серая одежда, серые сапоги, серые шлемы, серые руки и лица. И глаза серые.
Йонас Гиринис какое-то время смотрел им вслед. Смотрел на них, как на отлитые из какого-то серого металла статуи. Когда они проходили мимо, на него вдруг пахнуло алкоголем, и Гиринис весь похолодел, съежился. Могли они, конечно, в пластмассовом бидончике нести молоко, но старый Гиринис не сомневался, что там сахарное пиво, а в пузатых портфелях бутылки дешевой водки, купленной ими, видно, впрок.
«Из фондов Гайлюса, – с горечью подумал Йонас Гиринис. – Но и у Мармы этого добра полно. А уж сахарное пиво в каждом втором дворе рекою льется. И как ему не литься, ежели столько пьющих вокруг? Кто даром лакает, кто за денежки, вот так, как эти жучки. Выкладывай полтинник за пол-литра, вылакал четыре бутылки, и весел! А уж ежели его Пирсдягис сварил, то и трех хватит – мастер, ничего не скажешь! Вот так и губят себя люди отравой – только бы подешевле, только бы покрепче, подумав только – за то, чтобы здоровье погубить, ты же и плати! Совсем испортилась деревня! Не хватает еще, чтобы сивуху гнали, чего в здешних краях сроду не было. Отцы выпивали стопочку в праздник, или на свадьбе, или на крестинах, или в честь Какого-нибудь торжества, а дети пьют почти ежедневно, и не стопочками, а стаканами… Отсюда и всякие нелады в семьях, распри, разводы. Просто люди добровольно в могилу лезут и туда же своих близких тащат. Взять хотя бы Пранюса, зятька. С утра до вечера заливает, из-за этой треклятой браги ни детей, ни жену не видит. В усадьбе все загажено, плетни поломаны, дрова не пилены, не колоты, так и валяются на дворе до самой середки лета. Это тебе не старый Стирта, его отец. Куда Пранюсу до него! Старик и меру знал, и время, когда веселиться. У него на плечах голова была, а не горшок из глины. Земли немного было, но на своих пятнадцати гектарах так хозяйничал, что выжимал из них больше, чем иной из тридцати. Не одному хозяину переезд на хутора дорого обошелся, кое-кто года два оправиться не мог, а для Стирты это переселение – что другому штаны сменить. Сменить на новые, из добротной ткани. Так-то… И избу на загляденье срубил, и сад огромный развел, и… да что тут говорить! Бывший хутор Стирты и сейчас ни с каким другим не спутаешь, хотя от усадьбы только клены остались. Вот какой был человек, царство ему небесное… А сынок!.. Господи, сохрани и помилуй!»
Старый Гиринис даже перекрестился – до того разволновался. Но не очень-то удивился, увидев перед собой темную еловую завесу, за которой когда-то плодоносил Стиртин сад: задумался Йонас и не заметил, как по узкой луговой тропке свернул к бывшему хутору приятеля. «Ноги сами меня сюда привели», – усмехнулся старый Гиринис в усы, почувствовав, что угнетавшее его недавно чувство улеглось и на душу снизошла какая-то возвышенная печаль, навеянная безвозвратной утратой. Глаза у старика подернулись дымкой, он зашагал, с трудом волоча ноги по заросшей дорожке, где в лунках ржавела вода, которую не успело высушить выглянувшее из-за туч солнце, и в его, Гириниса, смятенной голове то возникали, то пропадали, выцветая и расплываясь, картины юности. Они возникали бессвязно, случайно, казалось, совершенно разрозненно, но удивительно ярко, словно все было вчера. Вот здесь был овин, а там, среди этих четырех берез, хлев с флюгером – оранжевым петушком на крыше. За хлевом – пруд, огороженный высоким плетнем, чтобы ночью в него какой-нибудь прохожий или ребенок не свалился. А уж рыбы в пруду – видимо-невидимо!.. Гиринис не раз вытаскивал из пруда невод, раздевшись по пояс вместе с другими гостями Старты. И теперь, кажется, он ясно видел: и ослепительно яркое солнце в неоглядной синеве, и шумную, неугомонную стайку людей на высоком берегу пруда – господи, сколько знакомых лиц, ему больше не суждено их увидеть… Прошлое… умершее прошлое… как и колодец, заросший бодыльем… как и этот прогнивший журавль, рухнувший на землю… Или как замшелый фундамент избы, на каменной груди которого покоилось жилье Старты, покрытое оцинкованной жестью, с крылечками, с небольшой, но вместительной светелкой. Вот здесь, где торчат стебли прошлогодних лопухов, были наружные двери. Так называемый каждодневный вход. Через кухню. А со стороны дорожки гости входили. Йонас Гиринис всегда через кухню ходил, потому что своим человеком был. Там же, на кухне, его за стол усаживали – напротив печурки, уставленной горшками. Бог ты мой, как было уютно у Старты! Йонас Гиринис, кажется, и сейчас еще видит покойницу Стиртене, распаренную, хлопочущую, колдующую над горшками… Когда хозяева варили пиво, приглашали в избу, а на праздники – даже в светелку. Выпьют ячменного и как затянут песню – оконные стекла дрожат. Старта, бывало, утихомиривал: эй вы, мужики, не дерите так глотки, свет погаснет. Только увещевания Стирты для Гириниса – как масло в огонь: еще громче выводит, во всю мощь своих легких гудит, как отлаженный орган, аж потолок качается. Лампа, глядишь, и впрямь гаснет, и в избе темнеет. Да, был у него, у лешего, как его Стирта прозвал, голос. Да что там голос – голосина. Свадьбы, крестины, поминки – нигде без Йонаса Гириниса не обходится, как нынче без Унте.
Старик бродил по усадьбе бывшего друга юности, млея на каждом шагу от приятных воспоминаний, от которых нет-нет да кольнет сердце и затуманит слезой глаза. «Прожил человек целый век, а что оставил? – печально размышлял старый Гиринис, присев на солнцепеке на сломанную скамейку под яблоней. – Ежели бы не этот еловый венок вокруг сада, не плодовые деревья, никогда не подумал бы, что здесь когда-то труба дымила, коса звенела, которую точили в подклети, что дети гомонили и гуси гоготали… В самом деле, не господня ли кара: работаешь, строишь, из кожи вон лезешь – мол, детям останется, – а они твой труд собаке под хвост. Оберут до нитки, обчистят, и будь добр, догадайся, жил когда-нибудь здесь Юргис Стирта или не жил?.. Так-то… Каждая пядь земли полита его потом, а его самого будто и не было вовсе. Только рута, ельничек, четыре березки да еще эти яблони… Но и они, эти красавцы деревья, сгинули бы, не будь Унте… Немного не хватало, чтобы только ветры здесь гуляли. Совсем немного… И какая же тогда о тебе осталась бы память, человече? Разве что каменный крест на могиле, который ты сам же и соорудил, как бы предчувствуя, что от детей такого почета не дождешься».
Солнце уже близилось к зениту, а Йонас Гиринис все еще сидел на замшелой скамейке, погруженный в свои невеселые думы. Сидел, изредка поглядывая то на черную стену ельника, подпиравшего своими стрельчатыми кронами голубизну весеннего неба, то на голые ветки яблонь, на которых весело чирикали воробьи, соперничавшие своим щебетом с прилетевшими недавно скворцами, радостно обживавшими скворечни. От чистого воздуха у старого Гириниса кружилась голова и светлели мысли. Ничего не хотелось, только спать, спать под веселую музыку весны, уснуть и не проснуться. Сейчас же, сей момент. Птахи возвращаются из теплых краев – глядишь, и пропоют тебе отходную. Пока стоят еще эти ели, источающие удивительный, ни с чем не сравнимый запах жизни… Пока еще зеленеют ржаные всходы, чешет по опушке заяц и фабрика рядом круглосуточно не дымит. Уснуть навеки, запечатлеть образ родной земли, малой частичкой которой ты был, и в небытие… Ага, я бы сказал: спасибо, господи, за такую милость. Только перед тем, как позовешь меня к себе, за облака, позволь проститься… обойти усадьбу, и мимо пруда, мимо ельничка, навевающего своим шелестом покой и благодать, доплестись до дому, чтобы в последний раз глянуть на те места, с коими сызмала сросся, как дерево с землей…
– Что ж, вставай и иди, добрый человек, – донесся всемилостивейший голос с неба.
Йонас Гиринис благодарно улыбнулся тому голосу и зашагал прочь с хутора Стирты, чувствуя в ногах удивительную, дотоле не виданную легкость. Мимо пруда (казалось, его только выкопали и доверху наполнили желтоватой глинистой водой), мимо яблонь и смородиновых кустов, раскинувшихся за березняком, гремящим от неумолчного щебета пичуг и пичужек. Мимо зеленого ельничка, с трех сторон обступившего сад, на краю которого виднелась изба Стирты – только что срубленная, такая звонкая и легкая, почти невесомая – кажется, тронь пальцем, и польется со сруба музыка. И ели казались почти невесомыми бумажными вырезками, словно приклеенными к земле. И Юргис Стирта был прежний, но тоже невесомый. Кажется, повис на прозрачной нитке, прикрепленной к вколоченной в землю жерди. Потяни ее, сорви, и старик Стирта воспарит в небо, как воздушный шарик.
– Что ты здесь делаешь? – спросил Йонас Гиринис, удивляясь тому, что и язык у него во рту невесомый, и слова не он говорит, а кто-то другой.
– Хочу взять то, что жизнь мне недодала, – отрубил Стирта, и старый Гиринис еще больше удивился: не слова вылетали изо рта друга юности, а фиолетовые мыльные пузыри, и от них исходил какой-то странный гул наподобие резкого звона пилы.
Старый Гиринис зажмурился и снова открыл глаза – не снится ли ему? Стирта со своими фиолетовыми пузырьками вдруг исчез, но резкий, пронзительный звук пилы еще острей отдавался в ушах. Только теперь вроде бы доносился с другой стороны. Старый Гиринис глянул туда и снова увидел Юргиса Стирту, опустившегося на одно колено и пилившего ель. Другой конец пилы тянул Андрюс Стронус, колхозный председатель, свежевыбритый, разодетый по-праздничному, с каким-то причудливым, видно, заморским галстуком, в белой сорочке, в новой пиджачной паре, в ботинках на высоком каблуке – они были так начищены, что старый Гиринис отражался в них, как в зеркале. Короче говоря, франт франтом, каким он и впрямь был. Только на лацкане пиджака почему-то чернела сатиновая ленточка – знак траура.
– Пилите? – воскликнул Гиринис.
– Пилим, – спокойно ответили оба и даже не взглянули на него.
– Такие ели!.. Юргис, неужто ты рехнулся? Ведь ты же сам своими руками высаживал их!
– Потому и пилю, что своими руками…
– Да вы же так весь ельник под корень. Без всякой жалости, без зазрения совести? – прошептал Гиринис, чувствуя, как слезы застят ему глаза.
Никто ничего не ответил. Только пила без устали жужжала, разбрызгивая белые снежинки опилок и холодно поблескивая на солнце своими стальными зубьями. Жужжала все более громко и остервенело. Старый Гиринис, как в тумане, видел островерхую крону ели, дрожавшую в предсмертных судорогах, вот-вот упадет набок, отчаянно цепляясь мохнатыми ветками за землю.
«Не вымолил я у господа милости: не меня дерево, а я дерево переживу…» – с тоской подумал старый Гиринис, щупая рукой грудь, – ее словно стиснули железными тисками и не отпускали…
От этого удушья, от этой наползавшей духоты старый Гиринис и проснулся.
Первым, что приметил его сонный взгляд, был колхозный газик, который маневрировал на подворье и никак не мог развернуться. Уставившись на фанерный кузов, выкрашенный в зеленый цвет, старый Гиринис не сразу обратил внимание на человека, ошивавшегося чуть поодаль от машины. В двух-трех шагах от него топтались еще двое: один из них держал наспех скрученную веревку, а другой что-то записывал в какую-то книжицу.
– А теперь обмерьте сад! – бросил тот, кто терся возле машины.
Двое натянули веревку, первый взялся за один конец, его напарник – за другой, и стали обмерять край сада, где когда-то стояла изба Стирты. Между тем третий – колхозный председатель Стропус – уже не во сне, а наяву вышагивал между яблонь и придирчиво оглядывал каждое дерево. Заметив старика Гириниса, Стропус кисло поприветствовал его.
– Что, бывших соседей решил навестить, Гиринис?
– Да вроде бы так, – ответил тот, не скрывая своей неприязни. – Ведь скоро и меня зачислят в «бывшие». Вот я и ищу то, что глаз радует, что душу ласкает… А мест таких немного осталось.
– Странные вы оба. И ты, батя, и сын твой – Унте. – Стропус хотел было примоститься на замшелой скамейке, но, убедившись, что она сломана, передумал. – Будь ваша воля, вы бы все вокруг лесами засадили… весь край. Назад к праотцам, в древность. А ведь когда-то и впрямь здесь пущи шумели. Но люди выжгли их, чтобы землю для пахоты отвоевать. Отсюда, батя, если желаешь знать, и название нашей деревни – Дягимай… Погорелое, значит…
– Ученый ты… – промычал Гиринис.
– Что? – не понял Стропус.
– Говорю, ученый ты, а не знаешь, что человек сыт не хлебом единым.
– Гиринис, с той поры, когда тебя мать на свет родила, население Земли увеличилось почти в три раза.
– Ну и что? Все поместятся. Есть еще такие места, где десять верст пройди и человека не встретишь.
– В пустыне, батя. В тайге. А здесь обжитой край. Цивилизация.
– Пусть в другом месте люди и живут в твоей цивилизации. А нам-то здесь зачем фабрику за фабрикой городить? Человека на человека валить?
Стропус осуждающе замотал головой.
– Ну просто, батя, не верится, как ты мог таких детей воспитать: Даниелюса… Повиласа! Так сказать, маяки нашей жизни… Да и дочери у тебя не лыком шиты, у каждой по ордену. А если честно признаться, то твоей Юстине и до Героя Труда рукой подать… Откуда же ты, батя, такой взялся? Живешь вчерашним днем, не желаешь, как говорится, с жизнью в ногу шагать.
– Что до маяков, то не всем же светить, председатель. – Гиринис усмехнулся, но тут же спохватился: – А насчет Юстины – неужто ее какая-нибудь цацка на груди осчастливит? Жизнь, товарищ Стропус, такая штука: для нее одного ума мало, ей – душу подай!.. А у тебя, если речи твои послушать, не душа, а счетная машина.
Стропус рассмеялся. Слишком громко, неискренне, пытаясь скрыть раздражение. Но взгляд его был непроницаем. В округлых глазах стыли высокомерие и злость, которую нельзя было прикрыть улыбкой, холодным светом озарившей его широкое, чуть припухлое лицо.
Наконец подошли и «землемеры» – председатель ревизионной комиссии колхоза Ромас Ралис, приземистый, плечистый, багроволицый, словно ошпаренный, и руководитель Дягимайского отделения Альвидас Юодвалькис, долговязый, неуклюжий, в узкой, едва налезавшей на него нейлоновой куртке, из коротких рукавов которой торчали длинные жилистые руки.
– Здравствуй, отец, – они по очереди подали старому Гиринису руки.
– Покуда вроде бы еще здравствую, – пробормотал тот.
– Так как? – обратился Стропус к Ралису. – Сходятся концы с концами?
– В саду ровно сорок пять аров, – отозвался Юодвалькис. – Вместе с подворьем и тем местом, где березы и изба стояла, шестьдесят с копейками… Как раз для огорода. В прошлом году оттяпали мы для колхоза тот конец усадьбы… до самого пруда. Как будто в воду глядели…
– Это не совсем так, – поправил его Ралис. – Если оставить Стирте до прошлогодней борозды, то у него будет не шестьдесят, а шестьдесят три ара.
– Я же сказал: с копейками, – напомнил Юодвалькис.
– Три ара!.. Ничего себе копейки! – возмутился Стропус. – Придется колхозу запахать четырехметровую полосу через всю усадьбу!
– Взвешиваем, как сахар, – пробормотал Юодвалькис. – А ведь сюда входят и фундамент избы, и ямы, и прочее.
– Не скули. Техника, брат, причешет землю, как шерстку, – ни камней тебе, ни ямин, – успокоил его Стропус и повернулся к старому Гиринису, стоявшему в сторонке и не очень-то соображавшему, о чем они толкуют. – Отмерили мы, батя, Стиртам землю под огород, – добавил он с удовольствием. – Далековато от дома, но зато душе приятно. Как-никак отцовская усадьба… Как говорится, взаимная выгода: им пары, сад, а колхозной технике не надо будет время тратить, крутиться среди деревьев.
– Вы что, со всеми, кто с хуторов переселился, так?
– Нет. Только с теми, чьи усадьбы твой Унте объявил заповедниками, памятниками природы, – съязвил Стропус. – А что? Не нравится?
– Не знаю. – И он впился взглядом в Стропуса, по-прежнему глядевшего на старика с едва скрываемой усмешкой. – Все зависит от того, с каким ты чувством подходишь ко всему: с чистым сердцем, из желания сделать добро или помышляя только о собственной выгоде.
Стропус нетерпеливо махнул рукой:
– С тобой, батя, не столкуешься. Какая мне выгода от огородов? Зачем мне это, спрашивается? Для денег или для славы? Смех и грех… Неужели не ясно: все, что делаю, делаю только на благо колхозу. На благо всем. В том числе и тебе, Гиринис.
– Мне? Ты и дягимайские хутора хотел с лица земли стереть для моего, значит, блага? И березнячок над Скардуписом для того же вырубил?.. И… И… – Старый Гиринис закашлялся, захлебнулся словами, долго шмыгал носом и вытирал слезящиеся глаза.
– Не надо так близко принимать к сердцу, дядя, – сочувственно посоветовал Юодвалькис, положив старому Гиринису руку на плечо. – Мало ли что в жизни делается не так, как хочется, но стоит ли из-за этого живым в могилу лезть? Ты только глянь, какой нынче денек выдался! Что за воздух, что за птичьи трели! Ну прямо-таки рай земной, а не жизнь…
– Весна… – многозначительно вставил Ралис, с улыбкой глядя на верхушки елей, где перекрикивали друг друга скворцы.
– Самое лучшее время года, не так ли, дядя? – Захваченный ликованием пробуждающейся природы, Юодвалькис широко раскинул свои длинные руки, потянулся, аж суставы затрещали. – Все словно заново нарождается, продирает спросонья глаза, и человек словно другой… какой-то новый… Добрый… и более счастливый, что ли…
– Красотища, ничего не скажешь, – смягчился Гиринис, растроганный его словами. – Из всех времен года и мне весна более всего по душе. Как бы возносит над землей, оживляет… Весело, ладно. И в то же время какая-то печаль, потому что знать не дано: может, последний раз такое чудо зришь? И так каждый год, когда земля ото сна просыпается… Когда с юга первая птаха прилетает… Когда на солнцепеке набухают почки… когда проклюнется зелень озимых на полях, запах их так и щекочет ноздри. Так-то… И подумаешь: такие ли раньше были весны? Таким ли душистым был воздух? Так ли зеленели поля и леса? Так ли заливались пичуги? Как только зажмурюсь, прислушаюсь и всмотрюсь в ту пору – все передо мной как на ладони… Кажется, иду за плугом и пою себе. И пою не один, все поля от песен звенят; куда ни глянешь – пахари в одних рубахах. А там, в вышине, в сверкающем до ряби в глазах небе, тоже поют… Птицы! Так и ведем, тягаясь друг с другом, – небо и земля, и такая на сердце щемящая услада, что и плакать хочется, и смеяться. Счастливыми мы были. Так-то. И с богом не ссорились. Вот чего у нас не было, так спеси пустой, никто из нас и думать не смел, что он могущественней господа. Течет себе река мимо, ну и пусть течет на радость человеку, к удовольствию каждой живой твари, не будем ей мешать. Но разве такие жадюги, как ты, Стропус, стерпят? Вам подавай как можно больше пахотной землицы, вам подавай кусок хлеба потолще, словно вы с голоду мрете. Там, где куст зеленел, словно бритвой прошлись, болото в дренажные трубы загнали. И стала земля что твой блин – без красоты, без любви, словно женщина нелюбимая, годная только для того, чтобы детей плодить. А Скардупис!.. Бедный наш красавец Скардупис! Выпрямили реку, втиснули в каналы! Но и там, где старое русло, не река течет, а струйка, пущенная телком-однолетком. А бывало, разольется Скардупис, выйдет в паводок, ранней весной, из берегов – на версту все поля и луга зальет, даже смотреть страшно. Силища! У моста льды сгрудятся – и на дорогу! Луговица цвенькает, кричит в испуге над бескрайними просторами шуги. Вороны вопят над деревенскими гумнами как ошалелые. А уж петух надрывается, кукарекает без устали, куры кудахчут, греясь на солнышке, ворк, ворк… Гуси на подворье га-га… А мычанье коров, а блеянье овец, застоявшихся за зиму в хлеву! Дягимай с утра до ночи звенит всякими голосами: и птицы, и скотина, ни дать ни взять колокол, который раскачала чья-то невидимая рука и который, кажется, слушай, слушай, и не наслушаешься… Куда там! С прежними веснами нынешние ни за что не сравнишь!..








