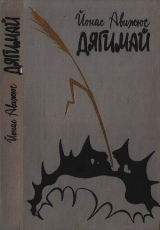
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 36 страниц)
Часть шестая
СОЛНЦЕ СКВОЗЬ ТУМАН
I
На прощанье Унте протянул Юргите новое лукошко, доверху набитое краснощекими яблоками.
– Сам сплел. На память… – похвастался он, потому что уж очень люб ему этот яркий узор, искусно сплетенный из разноцветной лозы. Право слово, удалось!
Юргита подняла подарок над головой, покрутила, повертела, словно искала в этой затейливой вязи какой-то потаенный смысл, который если кто и мог объяснить, то разве что сам мастер. А яблоки падали одно за другим на землю, пока пол-лукошка не опустело. Унте, нагнувшись, собирал их в охапку; старался не смотреть на ноги Юргиты, но те, как нарочно, лезли в глаза, как тогда, во время сбора вишни, когда Юргита стояла на стремянке.
Даниелюс, расцеловавшись со всеми, сидел в машине.
– Возьми у нее это лукошко, – бросил он Люткусу, деланно улыбаясь.
Шофер Даниелюса поставил лукошко с яблоками рядом с собой на сиденье и включил мотор.
– Счастливого пути! Счастливого пути! – замахали руками родичи, столпившиеся во дворе.
Порозовевшая Юргита сидела на заднем сиденье рядом с Даниелюсом, который сделал вид, будто ничего не заметил. Глаза Юргиты были опущены и жарко сверкали под черными ресницами – она отказывалась верить в то, что только что произошло: Унте внезапно обнял ее, когда она, как сестра, чмокнула его в щеку, обнял и горячим поцелуем обжег ее губы, пронзил взглядом, неукротимым, страстным, пугающим и одновременно манящим. Что-то похожее, заставившее ее зябко съежиться, Юргита почувствовала позапрошлой зимой, когда они вдвоем мчались по березняку и вывалились из саней и когда он, Унте, нес ее на руках. Честно говоря, ей и в голову не приходило, что за его привязанностью к ней, за его искренним, неподдельным уважением кроется что-то большее. Но разве у них с Даниелюсом началось иначе? Правда, понравился он ей с первого взгляда, как только они познакомились. Чем-то привлек ее, даже приворожил. Хотя любящей она почувствовала себя намного позже. Не сразу разобралась в том, настоящая ли это любовь. Настоящая, а не та, слепая, с первого взгляда, страстью опустошающая душу. Ей хотелось другой – выстраданной, выношенной, испытанной временем, которая, словно могучая река, вымывает песок и поднимает на поверхность донные камни. Хотя зачем она ей, эта любовь? Затем, чтобы еще раз обмануться?
Всю ночь напролет она, помнится, писала очерк о Доме культуры, а когда закончила его, увидела, что этот Дом культуры почти на задний план оттеснила фигура Даниелюса Гириниса, который произвел на нее такое впечатление, что она несколько дней почти до осязаемости чувствовала его близость. Редактор, пришедший в восторг, сказал, что это лучшее из всего написанного ею, а сотрудники наперебой поздравляли ее, только она, Юргита, с удивлением думала: «Видно, я и вправду к нему неравнодушна…»
На другой день в редакцию позвонил Даниелюс. Он был очень взволнован и никак не мог связать свои мысли.
– Я что-нибудь напутала, погрешила против истины? – спросила Юргита, затаив дыхание.
– Как бы это вам сказать… Факты вроде бы и не искажены, но…
– Но?
– Уж очень вы меня по-геройски изобразили…
– Сами не знаете, какой вы… – пришла в себя Юргита. – И потом, разве на нескольких машинописных листках расскажешь о человеке, да еще о таком, как вы?..
– Вы слишком добры ко мне… – смутился Даниелюс. – Больше не собираетесь к нам? – добавил он, помолчав.
– Не я выписываю командировки – редактор.
– Между прочим, я, наверное, скоро буду в Вильнюсе. Я очень хотел бы вас видеть.
– Может, и встретимся, – сдержанно ответила Юргита, тем не менее Даниелюс почувствовал, что она довольна.
– Юргита…
– Я слушаю.
– Очерк ваш отличный. По-моему, и не могло быть иначе, все, к чему вы прикасаетесь, превращается в чудо… Я вас люблю, Юргита!
Юргита зажмурилась и так стояла с минуту, прижав трубку к пунцовой щеке. Потом почему-то притронулась к ней губами и, мечтательно улыбаясь, положила на рычаг. Весь день был как праздник… Вторник… среда… четверг… Так пробежала неделя, а может, и больше. Этот Гиринис из Епушотаса как-то оттеснил на задний план все, чем Юргита до сих пор жила. Она с благодарностью думала о нем, сумевшем снова пробудить в ней удивительное чувство любви, которое, как ей казалось, она навеки похоронила. Бывали минуты, когда ее захлестывала какая-то смущавшая душу нежность. Хотелось броситься к телефону и позвонить ему, но в равной мере ее томили и тревога, и сомнение. В такие минуты даже Ефимья, которую она в глаза не видела, оказывалась в выигрыше: ведь к ней Даниелюс привык, и вряд ли ему в таком возрасте будет легко приноровиться к другой женщине. А если он и приноровится, то разве ее, Юргиты, достоинства не станут ее же недостатками? А дети? Не отнимает ли она у них отца? Не станет ли между ними черной тенью, ворвавшись в чужую жизнь? Не слишком ли дорого придется ему заплатить за любовь? А неизбывная боль, которую она причинит Ефимье? Юргита глубоко сочувствовала каждой покинутой женщине, понимала, как нелегко им приходится, и потому искренне жалела Ефимью, судьба которой оказалась теперь в ее, Юргиты, руках. В самом деле, какую страшную ответственность берешь на себя, когда тебе представляется неограниченная возможность смять человека или помиловать его. Человека, ни в чем не повинного, не сделавшего тебе зла, человека, единственная вина которого в том, что он не сумел стать любимым. Подумал ли об этом Даниелюс, собираясь оставить Фиму? Конечно, подумал, но кто же не знает, что эгоизм влюбленного сильней, чем милосердие и чувство долга…
Юргите было чертовски трудно выкрутиться, когда в один прекрасный день Даниелюс позвонил и сказал, что послезавтра будет в Вильнюсе. Он, дескать, был бы счастлив, если бы она улучила свободную минутку… Дескать, соскучился. И вообще есть серьезный разговор. Она ответила, что, скорее всего, он не застанет ее в Вильнюсе. А если и застанет, то будет страшно занята, поэтому ничего твердо обещать не может. Гиринис, видно, почувствовал в ее словах неправду, смешался и принялся расспрашивать ее, что случилось. Ровным счетом ничего, что же со мной может случиться, отшучивалась она. Он как будто заразился ее беспечностью, но когда прощался, голос у него был грустный.
«Поди знай, может, я бегу от своего счастья, – размышляла Юргита, бессмысленно глядя на замолкший телефон. – Да, но, кроме него, Даниелюса, есть еще три человека, которые тоже хотят быть счастливыми. Так, уважаемый, лучше нам больше не встречаться».
Когда он приехал в Вильнюс и позвонил, она объяснила ему, что, к сожалению, через десять минут уезжает, мол, в аэропорт и, когда вернется в Литву, точно не знает.
«Вот и все, – печально подумала Юргита. – Любовь еще жива, а ей уже могила вырыта. Остается поставить надгробный камень и в утешение написать: „Из пяти сирот – двое несчастных, а трое – довольных“– и надеяться, что оба несчастных никогда не стали бы счастливыми».
Прошло несколько недель. От Даниелюса не было никаких вестей. Такое его поведение, казалось, должно было ее радовать, но Юргита мучилась. Ах, зачем она с ним так глупо в прятки?.. Он этого не заслуживает. Лучше все сомнения – в глаза, лучше сразу: не надейтесь, расстанемся друзьями.
А в одно прекрасное утро Юргита совсем обомлела, когда услыхала, кто с ней желает встретиться…
Юргита назначила время встречи и при этом добавила, что делает это из профессионального любопытства. «Мне интересно, товарищ…»
«Гиринене… – раздалось на другом конце провода. – Ефимья Гиринене, жена вашего любовника… Вам еще хочется удовлетворить ваше профессиональное любопытство?»
«Вашего… любовника? О, это уже сенсация! Что же, до завтра, Ефимья Гиринене».
И нажала пальцем на рычаг.
На следующий день они встретились в редакции. Литработник, сидевший с Юргитой в одном кабинете, ушел, и лучшего места для откровенного, а может быть, и бурного разговора нельзя было придумать.
– Садитесь, – сказала Юргита и быстро оглядела Фиму, успев заметить все до мельчайших подробностей: добротную, но без особого вкуса сшитую одежду, аляповатые сочетания цветов, кольца на руках, тяжелые серьги. От Гиринене несносно пахло терпкими духами.
«Интересная женщина: чтобы доказать свое превосходство, чуть ли не пол ювелирной лавки напялила на себя». Юргита вдруг почувствовала себя раскованной и уверенной в себе.
Гиринене села и в свою очередь пристально оглядела Юргиту. Губы ее все время кривились в насмешке. Цепкие глаза не сулили ничего доброго, но как она ни старалась, не могла скрыть, что Юргита произвела на нее впечатление.
Обе долго молчали. Юргита подошла к окну, открыла его – духи по-прежнему раздражали ее, – глянула на улицу, на зеленеющий на противоположной стороне парк, где вовсю хозяйничала весна. Она чувствовала, что Гиринене ловит каждое ее движение и от неловкости все время пощелкивает замком сумочки.
– Я вас слушаю, товарищ Гиринене, – наконец не выдержала Юргита. – Чем могу быть полезна?
– Зачем вы так? – выдохнула Фима. – На вид вроде бы порядочная, а лезете в чужую семью. Я хотела вчера вам кое-что по телефону сказать, но вы бросили трубку. Конечно, есть такие любители подслушивать, но раз грязь, то зачем ее от людей скрывать?
– Будьте добры, спокойно объясните, что случилось?
– Не считайте меня дурочкой и не пытайтесь, пожалуйста, отрицать, что у вас и в мыслях не было поймать в силки моего мужа. – Гиринене широким жестом открыла сумочку, извлекла оттуда сложенный лист бумаги и положила на стол. – Вот часть письма, которое мой муж не успел отправить вам, своей… любовнице… Вот копия. А оригинал давно там, где ему положено быть. Ждала, думала – образумится. Напрасно. Мы почти не живем вместе. Вот уже несколько месяцев, как у нас отдельные спальни, отдельная еда, остается только формально разойтись, – сказала Фима и заплакала.
Юргита пробежала глазами конец письма. Только он, Даниелюс, может написать такие слова…
– Да вы успокойтесь, товарищ Гиринене, поверьте, мы с вашим мужем не зашли так далеко, как вам показалось. Правда, я люблю его, а он – меня, но разве любовь – силки?
– Ах, ах, – причитала Гиринене, обхватив руками стол. – Скажите, пожалуйста, разве он вам пара – такой молодой, такой красивой? Гоните его к черту! Оттолкните его! Не пойму, что женщины в нем находят – он же такой увалень.
Юргита была готова поклясться, что ее с Даниелюсом ничего, кроме дружбы, не связывает и ничего связывать не будет, но последние слова Гиринене подействовали на нее, как пощечина.
– Вы зря обижаете своего мужа, никакой он не увалень! Он прекрасный человек! – воскликнула Юргита.
Гиринене подняла голову и посмотрела на Юргиту влажными, покрасневшими глазами.
– Прекрасный! Чужие мужья всегда хороши. А что касается Даниила, то… Эх, ничего вы в жизни не смыслите. Ничего! Мало с мужчиной переспать, чтобы узнать его; надо пожить с ним под одной крышей. Поживешь и вдруг обнаружишь, что он свинья не меньшая, а может, и большая, чем другие. Пока мы им нужны в постели…
– Извините, но меня не интересуют ваши будуарные дела, – перебила ее Юргита. – Ведь и в вашей жизни, надо думать, было время, когда вы вашего мужа считали самым лучшим на свете?
– Наверное, было, не помню.
– Не помните… Значит, вы его просто не любили. Значит, развенчали своего принца еще до коронации.
– Принц… господи! – простонала Фима. – Ну и лексикон! Я была обыкновенная женщина, хотела выйти замуж, а он был обыкновенный мужчина…
– По-моему, он мог быть обыкновенным мужчиной для других, но только не для вас, – не уступила Юргита. – Для вас он должен был быть единственным, тем, о ком мечтаешь и кого ждешь.
– А вы, вы разве долго ждете? Хватаетесь за чужого мужа, а потом читаете его жене нравоучения.
Юргита побледнела, некоторое время молчала, пытаясь совладать с нахлынувшей злостью.
– Да, другого такого нет и никогда не будет. Никогда! Вы можете, если вам так нравится, называть его подлецом, увальнем, недотепой, деспотом, развратником, лить на него помои, а для меня он все равно останется самым лучшим, единственным.
Фима захохотала:
– Ну и загнули! Артистка! Думаете, я так вам и поверила, что вы к нему… из любви? Такая молодая и неустроенная к такому солидному, с положением… Ой, мамочка, можно помереть со смеху! Ну знаете, ну знаете…
– Вы уж, пожалуйста, не умирайте, – сказала Юргита, подождав, пока Фима успокоится. – С вами нельзя быть искренной, с вами надо говорить только на вашем языке. Поэтому вернусь к началу: чем могу быть полезна?
– Я уже говорила: не посягайте на чужой очаг.
– Что вы, никогда в жизни! Поверьте! Только разрешите спросить: он, ваш муж, и впрямь такой… недотепа, как вы говорили?.. Словом, бремя для вас?..
– О, да! – воскликнула Гиринене. – Женщине нужен не такой муж. Бегите от него, товарищ Юргита, как можно дальше и без оглядки.
– Вы это всерьез? – Юргита присела на подоконник. – Но как же я смогу вам помочь, если вы и дальше останетесь со своим недотепой? А не лучше ли сделать так: вы от него бегите, а я его догоню. Этого увальня, этого недотепу, этого деспота. И тем самым спасу вас, товарищ Гиринене, можете не сомневаться.
Фима попятилась вместе со стулом.
– Я никому не позволю над собой издеваться! – закричала она. – Есть кому заступиться за несчастную женщину, не все такие бессердечные. Смотрите, как бы вы не пожалели. Да, да, как бы не пожалели. Стоит мне зайти к редактору и выложить ему все, как вы тут же вылетите из газеты, как… О, вы еще меня не знаете! Я не позволю, чтобы какая-нибудь потаскуха подрывала устои нашей морали… На моей стороне общественность, закон, авторитеты. И вам несдобровать! Обоим!
– Поступайте, как вам совесть велит. – Юргита усмехнулась. – Что верно, то верно, на вашей стороне стена. Крепка, но, увы, только стена. А на моей стороне – любовь. Каким, скажите, видом оружия вы собираетесь ее одолеть?
– Вы… жестоки… – прошептала Фима, уткнувшись лицом в ладони.
– Я всего лишь женщина. В конце концов я, может, и пожертвовала бы собой, если бы видела смысл в такой жертве.
Фима негромко всхлипывала, обхватив спинку стула, но когда она подняла глаза, они были почти сухими. Юргиту поразил ее взгляд – смиренный, почти заклинающий.
– Смысл такой: почти двадцать лет он мой муж. А я его жена, мать его детей. Может, вы и правы – любовь и все прочее… Состарилась, надоела… Мужчину к себе не привяжешь, не телок. Любовь так любовь. Что ж, любите друг друга, что ж. Мало ли таких семей? У мужчины другая женщина, но ему и на законную супругу не наплевать. Живет, как принято в обществе, выполняет свой супружеский и отцовский долг. Никакого шума, никаких разводов. Так вот я и думаю…
– Думаете? – Юргита соскользнула с подоконника. – Что вы думаете? Что удобнее всего делить мужа. На двоих? – Она широко распахнула двери: – Будьте здоровы. – И, гордо повернувшись, вернулась к окну.
– Ладно, ты еще пожалеешь, нашлась… фифа принципиальная!.. – прошипела Фима, шагнув к Юргите. Но в последний момент сдержалась и бросилась к дверям. – Еще пожалеешь… ой, пожалеешь! – неслось из коридора под стук каблуков.
Так вот она какая, жена Даниелюса. И столько лет он с такой женщиной…
В самый разгар лета, Юргита взяла отпуск и вместе с подругой пустилась на байдарке по удивительным рекам Дзукии. Они то и дело останавливались, чтобы полюбоваться на редкостный пейзаж и поплескаться в воде, потому что дни выдались жаркие, солнце пекло нещадно. Подруга фотографировала, а Юргита писала этюды. Всю дорогу ее преследовало странное видение: где-то впереди буйствует водопад, течение подхватывает их байдарку, и пенистые волны швыряют ее вниз. Водопад приснился ей в первый же день их путешествия. Потом ей привиделся во сне обрыв, такой высокий, что росшие на нем сосны снизу казались тонкими спичками. Белая песчаная стежка петляет вверх. Юргита поднимается по ней легко, словно на крыльях, и ей несказанно хорошо. До чего же они удивились с подругой, когда на другой день и вправду увидели точно такой обрыв, как во сне, хотя путешествовали по этим местам впервые. Подруга отправилась с фотоаппаратом по берегу речушки в противоположную сторону, а Юргита вскарабкалась вверх по склону.
Там маячила рассеченная надвое родниковой речушкой деревня. Покинутая, опустевшая, вымершая дзукийская деревня.
У Юргиты сжалось сердце. Она выбрала место поудобнее и открыла папку. Изба без дверей. Изба без окон. Фундамент. И вот там тоже только фундамент. Груды слежавшейся глины. И деревни умирают, как люди. Как любовь. Как цветные сны. Миллиарды смертей на свете. И вот на этом листе будет запечатлена еще одна… Еще одна Трагедия, еще один Миг Исчезновения, еще одна Случайность. Юргите казалось, что вот-вот что-то должно случиться. Что-то неожиданное и роковое. Однако она не подумала, что здесь, в этой деревне-кладбище, случайность взглянет на нее глазами Даниелюса, возьмет за руки и скажет: «Идем!» И на сей раз уже навсегда. Потому что тебя послала мне сама судьба. Так оно и есть, как ты говорила: если Любовь настоящая, такая, которая пишется с большой буквы, то она меня и на краю света найдет. Идем!
II
В восемь часов утра начинает бешено крутиться колесо времени. Душ, завтрак. Несколько минут перед зеркалом. Скромная дань материнской ласки своему мальчику. Поехали! Внизу, у дверей, ждет всегда вежливый, приятно улыбающийся Люткус. Юргита – в редакцию, Даниелюс – в райком. В полдень, если, конечно, повестка дня не изменится, снова повторят тот же маршрут, только в обратную сторону. Скорей ешь, орудуй ножом и вилкой, жуй – кончается обеденный перерыв. Конечно, редактор и слова не скажет, если опоздаешь, как-никак супруга самого хозяина района… Но как раз поэтому и негоже опаздывать.
Даниелюс благодарно улыбается, чутье подсказывает ему, о чем она думает. Он поднимается из-за стола. Она поднимается из-за стола. И оба снова уезжают: груда немытой посуды, неубранный стол, любимое дитя, для которого родители только гости в доме, – все передоверено Алюте. А что делают те, у кого нет никакой Алюте? Те, у кого двое, трое детей… А еще стояние в очередях в магазинах, на комбинате бытового обслуживания… В тех семьях уже с шести, с семи утра начинается бешеная гонка за временем, бегство от своих чад, от очагового тепла…
Да, хорошо, когда есть Алюте и машина, которая тебя увозит и привозит, и вылизанная квартира, и мальчик, соскучившийся по тебе, бросающийся тебе на шею, как только распахнешь дверь. Отлично, о’кей! Но разве в этом настоящее счастье? Не каждый же день они уезжают вместе на работу, а по вечерам возвращаются домой – пленумы, собрания, совещания, частые поездки по району, в Вильнюс… Недели не пройдет, чтобы два-три вечера не ухлопать, а порой и день-два насмарку. Ничего не попишешь… Для руководства времени столько, сколько надо, а для нее, Юргиты, как говорится, остаток. Крохи… И она ему – только крохи. Как и малышу своему. «Все трое довольствуемся крохами…» И только когда они друг от друга далеко, они спохватываются: какое это счастье быть вместе.
Почти всю прошлую неделю Даниелюс провел «на колесах»: три дня в Москве, два в Вильнюсе. А сегодняшний начался с совещания актива. Послезавтра на весь день он отправляется в Гедвайняй на стройку. Даниелюс медленно жует поджаренные, еще теплые, тосты и ласково поглядывает на Юргиту – великолепный вечер: рядом с тобой твоя женщина, ты можешь протянуть через стол шершавую пятерню и погладить ее руку…
– Ты что-то хотел сказать, дорогой?
– Мне очень хорошо с тобой, Юргита. Очень.
Она благодарно улыбается и молчит.
Но через минуту-другую нерешительно говорит:
– Я должна была сказать тебе сразу, но не хотела портить настроение. Знаешь, вчера мне из Вильнюса вернули статью. И с довольно сердитой припиской. Оказывается, проблемы, которые я в ней поднимаю, не заслуживают никакого внимания.
– Этого следовало ожидать…
– Я о своем бывшем редакторе была лучшего мнения.
– Что я тебе говорил? Нечего зря надеяться. – Даниелюс почти доволен, что его пророчество сбылось. – В каждом из нас живут два существа: чинуша и человек – кто сильней, тот и перетягивает. Твой бывший редактор, видать, скорее чинуша. Уж в этом случае – точно.
– А ты? Ты разве поддержал мою статью? – хмурится Юргита.
– И я чинодрал, – неохотно соглашается Даниелюс. – Но пойми, есть вопросы, которые надо решать, руководствуясь здравым смыслом.
– Вы с моим редактором пара – оба в полном здравии, – ехидно замечает Юргита. – Но правы ли вы? Ведь кроме здравого смысла есть еще сердце. Умом и я понимаю, что могу со своей статьей наткнуться на стену. И даже шишку набить. Я ее уже и набила. Но мне очень хотелось тебе помочь и поэтому, не считаясь с последствиями…
– Прости. Я тебе в самом деле благодарен за то, что ты в своей статье указала на некоторые недостатки, которые тормозят строительство фабрики. Тем самым ты отчасти как бы оправдала меня и сняла определенную долю ответственности со всего нашего штаба.
– Что из того, если мои же благие намерения остались в моей же рукописи? Правда, столичный редактор и, может быть, кто-нибудь из его сотрудников познакомились с истинным положением дел. Но о том же самом ты уже не раз докладывал наверху. А результаты?
– Ну, улучшилось снабжение стройматериалами и еще кое-что.
– А рабочая сила? Прислали дополнительно, но разве на таких можно положиться? На перековку…
– Вот это ты и не должна была акцентировать в своей статье. Зачем идти против течения?
– Мне кажется, главное – создать такие условия, чтобы человек не попал в тюрьму. А ты что – веришь, что за решеткой можно перевоспитать того, кто вконец испорчен?
– Кое-кто там, конечно, исправляется.
– Не ты ли говорил, что тюрьма – это как бы курсы усовершенствования преступников, а не учреждение для их перевоспитания?
– М-дааа… Но это не значит, что человека можно списать вместе с приговором, – Даниелюс пытается отстоять свои начальственные бастионы. – Даже если из ста исправится один, все равно… Иногда стоит создать правило ради исключения…
«Иногда стоит…» Еще одна попытка отмежеваться от самого себя…
Она долго смотрит на Даниелюса, разочарованная, несчастная, и он, сообразив, в чем дело, начинает краснеть и бледнеть. Раньше Юргита так болезненно не относилась к его двойственности, заключавшейся в том, что одно его «я» не ограничивалось никакими казенными рамками, а другое – руководителя – порой вынужденно опровергалось тем, что первое «я» только что утверждало. Смириться с этим мирным сосуществованием двух «я» Юргита не могла, хотя и понимала, что такая двойственность неизбежна: личность, призванная выполнять высшую волю, должна подчиниться продиктованным этой волей принципам, которые, к сожалению, не всегда и не во всем совпадают с ее убеждениями. И чем человек сложнее, тем его первое «я» более оторвано от второго «я» – руководителя, исполнителя высшей воли, тем острее конфликт между ними. Даниелюс никогда не снизойдет до того, чтобы каждое слово, продиктованное сверху, принять как совершенство, ибо, признавая авторитеты, он отнюдь не гнет перед ними шею и не теряет своего достоинства. Вместе с тем – даже если придется покривить душой – он сделает все для того, чтобы оправдать их ошибки, потому что признание таковых унизило бы его самого. Правда, иногда, избавившись от этого своего второго «я», он как бы раскрывался полностью. Откровенно возмущался, сомневался, искал выхода из тупика. Беспомощный ребенок, растерявшийся на перепутьях жизни!
– Почему бы тебе всегда не быть таким? – говорит она, глубоко вздыхая.
– Каким?
– Настоящим. Отстаивающим только то, с чем ты сам согласен.
Даниелюс молчит. Пристыженный, огорченный, полный сомнений. Долго ли еще вилять, выкручиваться? «Ясно! Понятно! Хорошо! Очень хорошо!..» М-даа, Юргита права – зачем притворяться? Но и не лучше делать то, во что сам не веришь. Не веришь, а все-таки… Мол, такие указания, постановления, рекомендации… мол, состою… принадлежу… мой долг подчиниться… Дисциплина и тому подобное… Конечно, есть у тебя, Гиринис, и свое мнение, право высказаться «за» или «против». Но только до тех пор, пока оно совпадает с мнением коллектива, выражающего высшую волю. Может быть, у тебя отрицательное мнение, что же, отрицай, не соглашайся с принятым решением, пожалуйста, но свое мнение на свет божий не вытаскивай, храни его, как какую-нибудь древность, которую изредка снимают с запыленной полки, чтобы показать жене, близким и польстить своему самолюбию; мол, вы что думаете – я не понимаю… думаете, не вижу, как надо… Да, да, надо иначе… но увы… И уж совсем недолго превратиться в полное ничтожество, послушного исполнителя чужой воли, если менять свое мнение в любую минуту. Конечно же при наличии его… Так нет! Коли что делаю, говорю: так надо. Только так, а не иначе. И неважно, что порой стопроцентной уверенности нет, что сомневаюсь или вовсе не согласен. Спорю, опровергаю, предлагаю другое решение, до тех пор пока наконец не стану исполнителем. Когда же сделаю первый шаг – капитулирую и мнение большинства принимаю как свое. Нет, Юргита, я не лицемер! Я не раз выражал свое критическое мнение насчет памятника Жгутасу-Жентулису. Поначалу я категорически возражал: я против, таким памятники не ставят. Но когда там не согласились с моим мнением, когда доказали, убедили меня, что я руководствуюсь местническими взглядами в то время, как надо шире… по-государственному… Короче говоря, когда я вынужден был отказаться от своего мнения и принять чужое решение, я поднял знамя руководителя-исполнителя и ополчился против своего первого «я», против Унте и многих других. Жгутас-Жентулис все-таки взойдет на пьедестал напротив старого Дома культуры, там, где по плану талантливого выскочки Петренаса вырастет новое здание. Представляю себе, как нелепо он будет выглядеть через несколько лет, когда оно будет построено… прижимающий гранату к груди, без шапки, с всклокоченными космами, в одной рубашке, бесстрашный, с героическим выражением лица, весь – презрение к неминучей гибели.
На открытии монумента мне, наверняка, придется сказать несколько слов. Я буду смотреть куда-то поверх бронзовой головы на пасмурное весеннее небо. Все время светило солнце, но в тот день, как назло, будет пасмурно… И на лицах людей будет скорее выражение любопытства и удивления, чем торжественности. Назавтра в районной газете напечатают снимок, опишут открытие памятника и приведут выдержки из моей речи. Каждый год сюда будут приходить пионеры с венками, слушать рассказы о легендарных подвигах земляка, потом они разойдутся, полные благородной решимости следовать его примеру. «А может, правы те, кто считает, что самоотверженный поступок искупает все, – взглядом спросит у меня Юргита. – Но каково им, землякам Жгутаса-Жентулиса, которые сегодня, придя домой, расскажут своим детям всю правду, покажут и оборотную сторону Луны? Не унижаем ли мы себя, утаивая от современников пусть и толику того, что было? Не могу больше! Не могу!» Я чувствую прикосновение рук Юргиты, чувствую, как дрожат ее ладони, как она хватает своей крохотной рукой мою пятерню, жмет ее и пальцы ее подрагивают, словно перед нами бездна, и Юргита отчаянно держится за меня, чтобы туда не провалиться. И вдруг меня осеняет: ведь я теряю ее! По частичке, понемногу, после каждого такого падения в бездну, хотя она, быть может, пока этого и не понимает. Не видит, как растет между нами стена, в которую тяжелым, непробиваемым камнем ложится каждое разочарование. Глаза Юргиты гаснут, руки отдаляются, на губах тает улыбка.
Даниелюс подпирает руками голову. Что за страшное видение! Оно наплывает всякий раз, когда между ним и Юргитой возникает леденящая пустота. Даниелюс пялится на экран телевизора и панически старается понять, что там показывают. Слышит тихие шаги Юргиты. Нет, это не она – это Алюте. Юргита сидит рядом, в кресле. Может, чуть дальше, чем обычно, но это действительно она, любимая и любящая. Пока! Еще любящая… Сидит, склонив набок голову, по-детски сложив белые руки на коленях. Белые-пребелые на темном фоне платья. Хрупкая, живая, с головы до пят весенняя. Недаром Аполинарас Малдейкис с нее глаз не сводит, а в позапрошлом году заманил в садовый домик, хотя там и ничего… Но почему она об этом сразу не сказала? Почему?
Даниелюс весь напрягается, протягивает руку. Ее плечи… шелковистые волосы… нежная, теплая шея… Он наклоняется к ней, привлекает к себе. Она послушно приникает к нему; кресло скрипит, кажется, оно само движется по паркету. В комнате никого – ни экрана, ни Алюте, только они. Счастливые. Немножко грустные, но счастливые до самозабвения.








