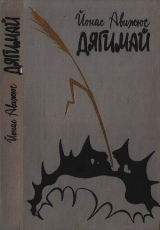
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
– Не тех ли, которых вырезали вы по ночам, когда приходили из лесу? – отвечает Даниелюс, когда Марма замолкает.
– Положим, и тех. А вы что, сидели сложа руки? И потом, я лично ни одного не убил. Разве что в бою, не видя в лицо. А это уже другое дело.
И Марма снова замолкает – он, кажется, выдохся. Слышно, как он шмыгает носом, зло сопит, покрякивает за спиной Даниелюса. Теплый южный ветерок поднимает с обочины облако пыли и засыпает ею глаза. Резким запахом отдает раскаленный на солнце асфальт, заглушая аромат отцветающего жасмина.
– Все? – спрашивает Даниелюс. – Кончил?
– Куда уж там все? – отчаянно машет рукой тот. – Но главное я сказал: на совести таких, как вы, не одна разбитая жизнь. И мне хочется, чтобы вы помнили о них, когда благословляете с трибуны своих счастливчиков.
Даниелюс с горькой усмешкой и жалостью долго смотрит на Марму. И тот смотрит на Даниелюса. Напрягшийся, с горящими, залитыми ненавистью глазами, столько ее накопилось за десятилетия, что, кажется, хватит ее для того, чтобы взорвать весь мир. Наконец человек предстал в своем подлинном обличии. Прятал, таил в сердце – и раскрылся!
С минуту длится противоборство взглядов – унижающее сострадание победителя и ярая ненависть потерпевшего поражение. Марма бледнеет, лицо его становится еще более серым, словно его покрыло дорожной пылью: сперва сереют губы, потом набрякшие мешки под глазами, потом впалые щеки. Еще миг, и он бог весть что натворит, не выдержав нервного напряжения. Но Марма только сплевывает и отворачивается. Проходит шагов десять, резко оборачивается, словно надеется услышать от Даниелюса что-то важное, а может, желая что-то сказать, стоит обмякший, растерянный, удивленный.
– Жалко, Марма, что ты за тридцать лет не образумился. Может, в этом и наша вина – уж слишком мягкосердечными были…
– Как же, как же – вы гуманисты. Хи, хи, хи! Право слово, комедия. – Марма разевает рот до ушей и, хихикая, уходит.
«Это все, что ему осталось…»
Даниелюс глядит банщику вслед («Да, мы гуманны, порой даже чересчур гуманны, и эта гуманность нередко оборачивается против нас самих…»). Но Мармы нет – улетучился, как призрак, рассыпался, ударившись о белизну стены. Белые двери там. Какая-то белая женщина возле дверей. Промелькнула и растаяла, как только что призрак Мармы. «Неужто мне снится? Но с Мармой я действительно встречался. И этот парень, которого подозревают в убийстве отца, умолял, чтобы я заступился за него. И запах асфальта, смешанный с отцветающим жасмином. И лужа крови рядом с опрокинутым шкафом, и мухи, жужжащие над ней… Ведь все это было? Было! В тот же день, когда и меня пырнули, когда попотчевали горькими, так сказать, плодами со сладкого древа нашего гуманизма.
– Кажется, я снова заснул…»
Скрипят отворяемые двери.
«Снова они! Со своими лекарствами, уколами…»
Даниелюс зажмуривается, притворяется спящим.
«К вам гостья…»
Гостья? Но в палате совершенно пусто; это эхо вчерашнего дня – и этот скрип дверей, и эти слова.
…Из оцепенения, сковавшего все существо, его вывел голос сестры, он открыл глаза и увидел у кровати фигурку съежившейся женщины. Но почувствовал ее присутствие раньше, еще до того, как она вошла в палату, до того, как он услышал ее шаги, ее дыхание, до того, как учуял запах ее любимых духов. «Вот как! – мелькнула мысль, но он подумал, что это сон. – Видать, все любящие одарены таким чутьем». Даниелюс громко произнес ее имя и испугался – таким чужим, неживым показалось ему слетевшее с обметанных лихорадкой губ слово.
Юргита опустилась на колени рядом с кроватью. Она смеялась и плакала, уткнувшись ему в грудь, а он дрожащими пальцами гладил ее шелковые черные волосы и бормотал что-то бессвязное и невнятное. Даниелюс ужаснулся при мысли, какой малости не хватило, чтобы он на веки вечные потерял радость видеть ее.
– Я тебя утомила, дорогой, – спохватилась она, заметив у него испарину. – Доктор сказал: не больше десяти минут.
– Ты… давно в Вильнюсе?
– Приехала вместе с тобой на районной «скорой». Но пустили меня к тебе только сегодня. Врачи говорят – главное для тебя покой. Покой, покой, покой…
– Ты… в гостинице?
– Нет, у родителей.
– А… это хорошо, – Даниелюс вздохнул с облегчением.
Юргита снисходительно улыбнулась, поняв причину его беспокойства, и, наклонившись к нему, обеими руками стала гладить его и целовать в щеки, в лоб, в пересохшие губы.
– Не горюй, мой милый, я с тобой. Я ухожу, но с тобой, здесь, в этой палате, мои мысли… мои чувства… Когда проснешься среди ночи, знай, и я не сплю, думаю о тебе.
Даниелюс. Как хорошо, Юргита, что ты снова пришла! Я почти всю ночь не спал, в голову лезли какие-то жуткие мысли. Врачи успокаивают: никаких, дескать, последствий не останется, бывают травмы и потяжелее, а люди все-таки живут и работают. Но врачи для того и существуют, чтобы успокаивать.
Юргита. Что случилось, дорогой? Зачем волноваться? Ты что, хочешь выздороветь за день?
Даниелюс. Что случилось? Представь себе, муж узнает, что жена сутки напролет просидела у дверей его палаты, когда он был без сознания, потом раз десять звонила по телефону врачам, справляясь о его здоровье, и наконец в одну прекрасную среду или пятницу он видит ее у своей кровати. Что для него в эту минуту самое важное? Должно быть, ее переживания, хлопоты, бессонные ночи, во время которых она из-за него глаза выплакала? А я? Я ничего, ничегошеньки не вспомнил… Палатный врач сказал: «У вас прекрасная жена». Все то, что я услышал о тебе, подействовало на меня не хуже, чем лекарства. А ведь поначалу было так: все словно в пропасть провалилось, сгинуло, исчезло… Стоило тебе выйти за дверь, и я снова оказался в бездне…
Юргита. Успокойся. Ты всегда был слишком чувствительным, а теперь, когда… Врачи и вправду гарантируют полное выздоровление. Посмотри мне в глаза и убедишься, правду говорю или вру. Ну, посмотри, посмотри!
Даниелюс. Наклонись. Ближе, ближе… Еще ближе! Дай почувствовать твою правду губами. Вот так. Ох, какая она соленая и горячая! Бедняжка моя, бедняжка, сколько ты из-за меня натерпелась!
Юргита. Завтра после обеда тебя обещал навестить Повилас.
Даниелюс. Скажи ему, что мне будет очень приятно. Сегодня перед обедом у меня тоже был гость – товарищ Клигас. Помнишь, я когда-то не раз рассказывал тебе о Вадиме Фомиче. Оказывается, они с Клигасом были друзьями.
Юргита. Были?
Даниелюс. Да. Вадима Фомича больше нет в живых. А я на него обижался, что не отвечает на мои письма, думал, может, он перебрался куда-нибудь в другое место – широка наша страна, а выходит, умер. Вспоминаю позапрошлую зиму, когда я был в Вильнюсе и на улице увидел человека, которого принял за Вадима Фомича…
Юргита. Ты, видно, тогда о нем думал…
Даниелюс. Да, думал. Но почему именно в тот день, в тот час и минуту? Товарищ Клигас ездил на похороны. Вадим Фомич умер позапрошлой зимой, в тот самый день, когда я гнался за чужим человеком, уверенный, что это Вадим Фомич… Странно, не правда ли? Какое-то мистическое совпадение.
Юргита. Ты устал, дорогой. Пока не поправишься, постарайся как можно меньше думать. Голова часто болит?
Даниелюс. Вот видишь, и тебе кажется, что у меня размягчение мозгов…
Юргита. Даниелюс!
Даниелюс. Ах, прости, я стал таким раздражительным. Столько дел, а я в больнице! Голова разламывается, когда подумаешь, что первую очередь мы собирались через несколько месяцев пустить… Кроме того, осень наступает на пятки, уборка урожая…
Юргита. До осени ты уже будешь прыгать, как ягненок.
Даниелюс. Ты так считаешь?
Юргита. Не сомневаюсь. Между прочим, Стропус от кого-то узнал, что я у родителей, и позвонил. Справлялся о твоем здоровье. Хочет нагрянуть к тебе, но не осмеливается.
Даниелюс. Пусть не боится – он хороший председатель. Конечно, было бы идеально, если бы я мог добавить: и человек. Но увы… Пока что в наше время нередко бывает так: на первом месте производственник, а уж потом человек. Да, человек… человек… Погоди, я начинаю вспоминать… все по порядку. Все! До самого этого проклятого мгновения… как на экране… наплывом… картина за картиной. Утро. Садимся оба в автомобиль. Возле аэропорта вылезаем. Звоню начальнику гедвайняйского строительства: «К обеду буду у вас…»
V
В Гедвайняй Даниелюс уехал очень расстроенный, хотя губы еще чувствовали теплый поцелуй Юргиты. Он никак не мог отделаться от назойливой мысли (а в последнее время она все чаще приходила ему в голову), что почему-то медленно и верно теряет Юргиту – свое счастье, дар судьбы, без которого жизнь не жизнь, а только повинность.
Свернул в Дягимай, хотя до Гедвайняй мог добраться и другой дорогой, но должен был отвезти лекарства отцу, который хворал все чаще и чаще. Здесь Даниелюс и узнал о трагедии, потрясшей всю округу, об убийстве стариков Гайлюсов. Где в ту ночь были их дети? Дочь – давно в Вильнюсе, младшенький спал на сеновале, а Альбертаса не было дома. Мало кто сомневался, что виновник он: уж очень он при жизни поносил отца, угрожал, болтал всякое. Даже Андрюс Стропус, сдержанный, неторопливый в своих решениях, считал, что нечего искать преступника на стороне, преступник – из того же дома. Старик Йонас Гиринис мотал головой, пожимал плечами, не зная, что и подумать, но, хоть убей, не мог представить себе, что сын может поднять руку на тех, кто дал ему жизнь. Унте приструнил отца: не знаете Альбертаса! Однако, когда немного поостыл, изменил свое мнение, почти соглашаясь с Робертасом Мармой, который «тоже порядочная дрянь, плюет на каждого прохожего, но на сей раз, может быть, и прав: уж слишком много всякой дряни проплывает мимо…».
Усадьбу Гайлюсов Даниелюс покинул еще более подавленный. Перед глазами стояли перевернутая вверх дном изба, кровавая лужа на полу, Альбертас со связанными руками, в ушах звучали его вопли и злопыхательские заявления Мармы. Даниелюс хотел было поехать прямо на стройку фабрики, – чего, мол, второй раз к отцу заворачивать, ведь лекарства он отдал, – но вдруг решил хотя бы на минутку остаться наедине с собой, побродить по родной усадьбе, по тропкам, исхоженным в детстве, пожить воспоминаниями тех дней, которые как живительная родниковая вода смыли бы с души муть и горечь.
Дом был пуст – все домочадцы отправились на работу в колхоз. Отец – сильно сдавший, с еще более благородными чертами лица, чем раньше, – хлопотал у частокола, латая дыры. Вокруг него вертелись малыши сестры Бируте, которых она оставляла на попечение отца, пока не управится на ферме. Даниелюс присоединился к ним, надеясь хоть немного рассеяться, но на сердце стало еще тяжелей. Он подавленно посматривал на стрекочущих детей, весело кружившихся, как ласточки, и пытался представить себе, какими они будут лет через двадцать, двадцать пять. Тогда они будут взрослыми мужчинами и женщинами, и дед их, придавленный тяжелым надгробьем, будет лежать на кладбище, а дыры в частоколе придется латать Унте… Смена поколений, ничего не поделаешь. Вечный процесс перевоплощения человечества, как говорит брат Повилас, который еще в гимназии был уверен, что слово «смерть» попало в лексикон людей из-за их невежества – никто не умирает, только обретает иное обличье, переходит из одного экзистенционального состояния в другое. Ладно, пусть будет, как брат говорит. Но слово не меняет сути дела. Так ли уж важно, умер человек или перевоплотился – все равно, потеряв его, мы будем чувствовать в сердце пустоту, особенно если был он нам дорог. Повилас сызмала по-своему видел и объяснял каждое явление. Все на земле казалось ему слишком обычным, будничным, потому и потянуло его к звездам, потому-то и выбрал он науку, ставшую для него чуть ли не религией. Оторвавшись от своей планеты, он и от родного гнезда оторвался – появлялся в Дягимай раз в три года, а то и реже. Даниелюс, бывая в Вильнюсе, не очень-то спешил увидеться с братом, частенько возвращался домой, даже не позвонив ему. По правде говоря, он и не испытывал к Повиласу чувства братского тепла и нежности, как к Унте, хотя и считал себя выше его; Унте раздражал, иногда приводил в ярость, но зла на него он не таил, прощал, как беспомощному, легко ранимому ребенку, которого тем не менее необходимо держать в ежовых рукавицах. А рядом с Повиласом Даниелюс всегда чувствовал себя каким-то мелким, как бы довеском, хотя брат-астрофизик, считая свою науку вершиной всего (ключом к познанию Вселенной, а следовательно, и мира), с уважением относился и к другим отраслям человеческой деятельности. Даниелюс не завидовал его славе, даже гордился успехами брата, хотя не мог, к сожалению, ничего осязаемого им противопоставить. Цифры, проценты выполненных планов – вот и все, чем он мог похвастать, когда речь заходила о результатах его работы. Даниелюсу казалось, что Повилас смотрит на него свысока, преисполненный олимпийского величия (чего доброго, у него было на это право), постоянно подчеркивая, что общественный прогресс держится на трех китах – на науке, производстве и творчестве. «А ты что производишь или создаешь, милый братец? Вороха бумаг для республиканских архивов. Нет, твои штабеля папок даже там не нужны. Заседания, совещания, обсуждения, постановления – эта вот водица крутит колесо твоей мельницы». Повилас никогда ничего подобного не говорил вслух, хоть и снисходительно относился к любому труду, который не дает осязаемых результатов, но при встрече с ним Даниелюс никак не мог отделаться от ощущения, что Повилас может так подумать. Было больно от того, что ты сеешь, а урожай соберут другие, и, скорее всего, только тогда, когда сам ты не сможешь увидеть это своими глазами, порадоваться плодам своего труда. Воздвигаешь здание, но сам пока живешь в пристройке, хотя и та еще не закончена. Все, ради чего трудишься, к чему стремишься, не для тебя – для будущего. Для тех, кто родился в день жаркой твоей страды и кто еще придет за ними. Тебе же достается только человеческая неблагодарность и сомнительная надежда, что и ты когда-нибудь будешь оценен по заслугам и стерпишь все: унижение, незаслуженное равнодушие, недоверие, и будет это словно награда за твердость и убеждение, что ты позарез нужен людям. Твой труд – творчество, хотя ты и не творец; наука, хоть ты и не ученый; производство, хоть ты своими руками не выточил ни одной детали, не проложил ни одной борозды на колхозных полях. Ты только партийный руководитель, коммунист. Но не выше ли это других сфер человеческой деятельности, ибо ты двигаешь все, стимулируешь, стараешься вдохнуть во все душу? Тебя можно сравнить с отцом, а тех, кого доверили тебе, – с детьми; твоя задача направить их но правильному пути в будущее, ни на миг не терять мучительного чувства ответственности за судьбу каждого из них. И совершенно неважно, что сам ты чаще всего остаешься в тени, в то время как твои подопечные хватают звезды, которые никогда не зажглись бы для них без твоей искры. В твоем сердце ни капельки зависти или обиды, только искренняя радость; она, эта радость, и есть как бы скромная награда за твои заслуги, хотя большинство их и не замечает. Тебя не ослепляет сияние чужой славы – ты счастлив! Счастлив, что кого-то в твоем районе отметили, кому-то дали орден или присвоили высокое звание. Счастлив, что человек при встрече радушно улыбнулся тебе, от души пожал руку, уважительно кивнул головой, снял шапку. Счастлив, что в его взгляде ты почувствовал тепло доброго, отзывчивого сердца, и для того, чтобы ты поверил в него, в это тепло, тебе не нужны никакие слова. А если иногда кто-то и произносит их, то скупо, стыдясь своей чувствительности… Да, приятно греться у очага чужого счастья, потому что знаешь: здесь и тебе по праву принадлежит место. Но как страшно, когда этот очаг внезапно рушится и весь дом полыхает в огне. Может, твоей вины и нет в этом пожаре, но на сердце все равно тревога, потому что если отец радуется счастью своих детей, то он не может не печалиться и от их печалей.
Гайлюсы не принадлежали к доверенным тебе детям, о которых, деля наследство, надо помнить в первую очередь. Нет, ты смотрел на них скорее как на подкидышей, слишком поздно пригретых, но питал надежду, что со временем они перекуются. В конце концов, разве их жизнь – это твоя ошибка? Нет, таких, как Юозас Гайлюс или Робертас Марма, обществу не вернешь. Они прожили свой век разрушителями. Другое дело – Альбертас. Что касается Альбертаса, то тут вину на прошлое не свалишь, тут ее надо принять на себя, утешаясь мудрой присказкой наших прадедов, что яблоко от яблони недалеко падает…
Запутавшись в своих мыслях, Даниелюс и не почувствовал, как очутился в саду, оставив у частокола отца с малышами сестры. Он останавливался то у одного, то у другого дерева, оглядывая густые ветки яблонь, усыпанных завязавшимися плодами, которые подрагивали среди листвы в бликах света, суля хороший урожай. Сад был старый, вон те яблони отец посадил еще в юности. Даниелюс с Повиласом советовали их выкорчевать – какой прок в них, захиревших, но Унте на дыбы встал: дерево не злак – его за год не вырастишь, оно должно само умереть, как человек. Поэтому выкорчевали только те, которые начали сохнуть. Отец молчал, не поддерживая ни Даниелюса, ни Унте, но всем ясно было, что душой он на стороне младшего. Да и как же иначе? Ведь эти яблони были его юностью, букетом цветов, увядающих на могиле его счастливых дней, он на месте вырванных с корнем высаживал юные ростки. Порой сам, порой Унте или кто-нибудь из детей. Даниелюс, если приезжал домой осенью, всегда справлялся, не найдется ли свободного местечка, чтобы яблоньку посадить. Чаще всего свободное местечко находили, потому что отец всегда старался сохранить для сына, редкого гостя в доме, лоскуток земли для саженца.
Так мало-помалу и вырос новый сад, как вырастает семья, где ежегодно прибывает по ребенку, а нередко и двойня родится. Однако вместе с новыми яблонями шелестели на ветру и старые, бесплодные, которые старик Гиринис любил по воскресеньям обходить, как надгробья своих родичей и знакомых в день поминовения усопших; подойдет к каждому дереву, постоит в раздумье, прижмется щекой к шершавому стволу, как бы надеясь услышать под корой жаркое биение сердца.
Даниелюс – по обыкновению отца – также обошел каждое высаженное им деревце. Всего их было восемь – шесть яблонь и две груши; столько раз он по осени приезжал сюда в гости. Три деревца он посадил вместе с Фимой и только одно окопал с Юргитой. Будь на каждом из них табличка с именами тех, кто их высаживал, он, наверное, сорвал бы ее и швырнул в сторону, чтобы о прошлом и знака не осталось. Но, как говорится, против фактов не попрешь. Приезжал сюда три осени подряд? Приезжал. И, как нарочно, стояли тогда пригожие солнечные деньки. Под ногами шуршали тронутые изморозью листья. Меланхолия, печаль. Лицо Фимы, странно изменившееся, более красивое и привлекательное, чем прежде. Даниелюс давно питал к ней что-то похожее на неприязнь, бывало, даже ненавидел, а тогда, глядя на ее пальцы, услужливо поддерживавшие воткнутый в лунку саженец, он, как бы возвращая деревцу жизнь, почувствовал к Фиме прилив нежности, вызванный торжественностью минуты. Даниелюс улыбнулся ей так, как давно не улыбался, и сказал что-то ласковое, но тотчас же устыдился своей доброты, устыдился и пожалел о ней, потому что это внезапно нахлынувшее чувство было ненастоящим, похожим на то, которое когда-то обуяло его в юности и в жертву которому он принес свое счастье. Юргита не знала, что эти три яблони высажены вместе с Фимой. Это было его невинной тайной, которой он не придавал никакого значения, но раскрыть которую все же не решался. Как, впрочем, и чувство нежности, охватившее его когда-то к Фиме. Хотя та, наверное, тотчас забыла об этом. Смешные мелочи! – ловил он себя на мысли, дивясь самому себе. Хотя и понимал, что всякий раз, навещая отчий дом и глядя на высаженные вместе с Фимой яблони, он это обязательно вспомнит. Хорошо бы, чтоб они захирели… тогда вместе с Юргитой другие саженцы… – нет-нет, да мелькало у него в голове. Но он тут же горько подтрунивал над собственным простодушием: мыслимо ли собрать все то, что растратил за жизнь с одной женщиной, и отдать другой?
«Мы с Юргитой никогда не будем такими счастливыми, какими могли бы быть, не попадись на моем жизненном пути Фима. Правда, и жизнь Юргиты до встречи со мной не сравнишь с чистым листом бумаги… Как подумаешь, и впрямь столько следов оставили на свежем снегу, пока добрались до того домика, который принято называть сказочным».
Даниелюс остановился возле низкорослой разлапистой яблони. Она была единственной в саду, посаженной Повиласом. Брат привез ее из какого-то питомника под Вильнюсом. Зимняя, говорил он, а уж яблоки такие вкусные – пальчики оближешь. В прошлом году на ней завязалось несколько плодов, но все опали, нынче, наверное, даст первый урожай. Даниелюс наклонил ветку с яблоками и провел по ним, прохладным, благоуханным, ладонью. «Не умру до тех пор, пока не отведаю хваленых Повиласовых яблок», – сказал сегодня отец. В его голосе звучала укоризна: чего, мол, сын не привез саженец раньше. Но спасибо, что хоть привез, мог и не привезти. Повилас редко приезжает осенью, он обычно является тогда, когда посадка закончена и новая яблонька уже стоит в одном ряду со старыми. А если случалось, что до его приезда яблоню не сажали, то Повилас не переживал, смотрел на прихоть отца, ставшую как бы традицией, скептически, потому что не терпел сантиментов. Сад есть сад, его надо разбивать сразу, а не пихать в землю по деревцу в год. Отец мог ответить сыну на его упреки, но молчал, зная, что только Унте понимает его. («Деревья, как люди, должны родиться и умирать по одному. Ведь отсюда и секрет вечной молодости…») Повилас снисходительно улыбался, угадав мысли отца, брал в руки лопату и отправлялся за гумно. Хоть он и редко приезжал, а посадил здесь разных деревьев больше, чем в отцовском саду. Но три года тому назад, навестив отчий дом, Повилас ни одного своего деревца не нашел: вместе со старыми деревенскими тополями их слизала с постоянно меняющегося лица земли мелиорация. «В моих небесах больше порядка, чем на Земле, – горько усмехнулся Повилас. – У каждой звезды свой путь, которого она строго придерживается, а вот на вашей планете поди пойми, что завтра случится за порогом родного дома…»

Из всех деревьев, посаженных Повиласом на родине, осталась только эта низкорослая яблоня, о таинственных плодах которой отец сказал: пока не отведаю – не умру. Сейчас отец сидел на траве, прислонившись спиной к плетню, и спал, склонив голову к плечу. Из приоткрытого рта текла слюна, как бы свидетель того, как сладок сон умаявшегося в трудах человека. А может, ему снилось, что он пробует яблоко с посаженного Повиласом дерева? «Не умру, пока не отведаю с каждой яблони…» Может, потому он и старался ежегодно высаживать по деревцу? Что ж, у каждого, видать, своя мечта…
Даниелюс смотрел на отца, кимарившего у плетня. До чего же он усох, лицо посерело, голова белым-бела, только торчат пожелтевшие мочки ушей. Одна рука отца на бедре, другая на траве – в морщинах, в шишках, с почерневшими пальцами. Руки земледельца!.. У Даниелюса сжалось сердце, возникло жуткое ощущение, будто отец не живой, а мертвый, в гробу. Он больше никогда не поднимет свою шершавую руку, чтобы обнять тебя, не зашевелит губами, не улыбнется, не согреет мудрым и благословляющим взглядом истосковавшееся сердце… Был отец – мост на этот берег. И рухнул. И вот ты стоишь один на этой стороне, теперь уже сам мост, который, увы, дети твои даже не замечают. Печаль сдавила Даниелюсу горло. Он еле сдержался, чтобы не нагнуться и не поцеловать отца в лоб. Хотелось поднять правую, потом левую руку отца и прижать к губам – сердце было полно такой любви, такой доброты к тому, кто подарил ему жизнь и кто вот-вот угаснет. Но было жалко его будить. «Спи, спи, – шептал Даниелюс, полной грудью вдыхая пронзительный запах подзаборной крапивы и лопухов. – И пусть тебе приснится твой вечно обновляющийся сад. Каждый год, как только сыщется здесь место, мы будем высаживать по саженцу. Потом на смену нам придут твои внуки, а после них – дети твоих внуков и внуки твоих внуков… И так из поколения в поколение, чтобы никогда не перестали цвести яблони».
Здесь же, под старой, уже бесплодной яблоней, играли малыши Бируте. Даниелюс, сняв пиджак и накинув его на плечи, – солнце стало припекать сильней – мимо сарайчика направился во двор. Через минуту, сам не понимая почему, вернулся. Дети по-прежнему играли, а старик Гиринис стоял у плетня и смотрел на верхушку старого ясеня, прислушиваясь к щебету неугомонных скворцов. Даниелюс быстро повернул обратно, обрадовавшись, что отец его не заметил: настроение было такое, что ни с кем не хотелось говорить. Не каждый, пожалуй, согласится с тем, что вечные беспокойства, сомнения, муки дают больше пищи для души человека, чем покой, косность и самодовольство. «Разве буря, вырывающая с корнем деревья, лучше, чем теплый солнечный полдень после долгожданного дождя», – отрубил бы мудрый отец. И он, и те, что думают иначе, были бы по-своему правы…
Даниелюс пересек двор, вышел через ворота на улицу и вернулся. Так он ходил минут десять от скотного двора до улицы и обратно, чувствуя странное волнение. Казалось, кто-то сковал его обручем, время от времени отпуская, да и то только для того, чтобы тотчас еще туже стянуть. Такое волнение, подумал Даниелюс, охватывает, наверное, скотину перед грозой – хочется куда-то бежать, спрятаться, чутье подсказывает, что вот-вот произойдет что-то неотвратимое. Но что это он?.. Неужто нельзя думать о чем-нибудь приятном? Хотя бы о палисаднике Юстины, который со всех сторон окружает старую избу. Каких только цветов сестра не насадила! Тут и белые, и голубые лилии, и анютины глазки, и рута, и мята, душистые ярко-желтые настурции, ими весь фундамент увит. А неподалеку, в двух шагах от стены, разноцветные кустики пионов вперемежку с георгинами, которые по осени будут полыхать красными и желтыми шапками, пока не сглотнут их заморозки. По обе стороны крылечка – по божьему деревцу; вдоль забора – сирень, жасмин, шиповник, шесты с хмелем торчат. И вся эта зелень такая буйная, так густо переплелась, что закрывает вид на улицу и двор. Таким палисадник был при матери, таким остался и при дочерях. Каждый второй год отец обрубал кусты под заборами, захиревшие выкорчевывал, а на их место высаживал новые, незлобиво бормоча при этом, что слишком много разных деревьев вокруг дома развелось, от этого только сруб гниет. С наружной стороны бревна и впрямь выглядели неважнецки – почернели, кое-где замшели и потрескались, но внутри они желтели, как старый воск, только задень их молотком или обухом топора – и звенят. Избе было по меньшей мере лет сто – ее еще дед строил, когда был молод, в деревне не было ни одной избы с трубою, но за десятилетия трудолюбивые женские руки соскоблили слой сажи, отполировав дерево до темно-розового блеска. Даниелюс хорошо помнит – он тогда еще ребенком был, – как отец с какими-то мужиками отдирал старую замшелую крышу. Начался ливень, вода струями текла сквозь потолок в избу, и до чего же было приятно плескаться в лужицах на полу. Вскоре после этого избу украсила новая крыша из дранки. Покрашенная в красный цвет, она издали сияла и казалась ничем не хуже крыш дягимайских богатеев, крытых жестью и черепицей. А еще позже и пол настелили. И только после войны перекрыли прохудившуюся крышу, заменив на сей раз дранку жестью. Соседи советовали покрыть шифером – дешевле, мол, но Унте с отцом заартачились: пусть будет жесть, покрашенная, как и прежде, в красный цвет, все-таки не так, как у всех, – на шифер уже смотреть тошно… Тогда и веранду заново застеклили, окрасили в желтый солнечный цвет. Сартокас украсил ее резьбой. И крылечко во двор тоже новое сколотили, потому что доски быстро сгнивали под дождем. Даниелюс улыбнулся, вспомнив долгие зимние вечера, когда отец, бывало, сварит пиво, порой совсем некрепкое, только чтобы жажду утолить, но мужики входят в раж, сядут втроем и весь бочонок за ночь и выдуют. Выдуют и тут же, у забора, отольют.
За последние несколько десятилетий изба не очень-то изменилась, разве что окна вырубили побольше, но тоже каждое с шестью стеклами. Как бы там ни было, дом был самым старым в деревне, которую теперь называли центральным поселком колхоза. На этот дом равнялись еще пять-шесть изб довоенной кладки – две глиняные, одна бревенчатая, а три из жженого кирпича, однако они выросли позже, отец помнит, как их строили. Когда-то эта довольно-таки большая деревня, тянувшаяся по обе стороны большака с добрый километр, поредела, зачахла, от нее осталось бы не больше, чем пять-шесть изб, если бы при новой планировке сюда не перенесли колхозный центр. За три пятилетки в опустевших усадьбах появились новые дома и общественные здания. Даниелюс видел Дягимай с самолета, видел ранней весной, когда удобряли поля. Приютив под сенью изрядно поредевших, но не вырубленных до конца деревьев новые домики и подсобные постройки, деревня шагала по обе стороны асфальтированного шоссе, увитая электропроводами, утыканная телеантеннами на шиферных крышах, как серый солдат в новом мундире, не замечающий, что он давно уже шагает по полям и ступает своей твердой ногой завоевателя туда, где толь-ко-только злаки колосились, жаворонки и чибисы гнезда вили. То там, то сям торчали разбросанные по равнине силосные башни, словно какие-то купола провалившихся в землю храмов, а вдали маячила строительная площадка фабрики, окруженная только что выстроенными многоэтажными домами, где обосновались строители. Когда фабрика начнет работать, в этих домах поселятся рабочие. С каждым годом их будет все больше и больше, потому что производство конечно же возрастет. Появятся магазины, школы, детсады… Дом будет жаться к дому, а железобетонная лавина попрет во все стороны, заливая все новые земельные участки.
Даниелюс глянул на часы и вдруг вспомнил, что его ждет Люткус во дворе колхозной конторы, где он должен встретиться со Стропусом и оттуда поехать с ним на стройку: председатель выложил свои претензии секретарю райкома и по этому поводу хотел поговорить с ним и с начальником строительства.
Вместо того, чтобы серьезно и полезно работать, кое-кто из колхозников уже и самогон гонит, а ведь раньше в здешних краях никто этим не занимался; пиво из сахарной свеклы варят, вино из яблок и морковки делают, а все потому, что до базара, где можно по-купечески деньгу зашибить, рукой подать. Надо бы всех этих фабричных пьянчуг к рукам прибрать – это во-первых, а во-вторых, не заманивать на стройку колхозников.








