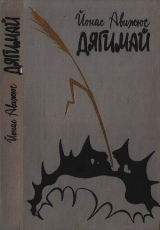
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 36 страниц)
VIII
Веселье в колхозе в самом разгаре. Все началось после долгого перерыва – надо было накрыть для гостей столы. Зал Дома культуры кишмя кишит. Народу набилось уйма, яблоку упасть негде. Хозяйки едва пробираются между столами, тащат одно блюдо за другим, как бы соревнуясь с именитыми деревенскими пивоварами, которые таскают ведра, заботясь только об одном, – чтобы кувшины не пустовали, а их, как в старинной песне, что Унте поет, хоть целых пять выпей, не зашатаешься, – председатель запретил подкладывать туда динамит («Пусть пиво веселит, но с ума не сводит…»).
Столов – пять рядов, от одного конца зала до другого тянутся. Справа места для почетных гостей. Они сидят по одну сторону стола у стены, чтобы все собравшиеся их видели. В самом центре – Багдонас, одесную – Юргита с Даниелюсом, а ошую – Стропус, счастливый отец возрожденной семьи, один, без жены, потому что Габриеле надо кормить ребенка. Далее – председатель Епушотасского горисполкома, знатные люди из соседних колхозов и прочие представители района, издали сверкающие широкими улыбками и орденами. А среди них несколько дряхлых стариков – почетных колхозников, так сказать, ветеранов, прокладывавших первые артельные борозды уже тогда, когда большинство сидящих в зале еще бегало без штанишек. Задирайте носы, дорогие деды, подкручивайте усы, честь вам и хвала!
Второй ряд столов можно назвать столом героев дня – Андрюс Стропус усадил за него тех, кто на собрании был отмечен и награжден премиями. Сидят попарно, с женами. А для пущей важности туда же посажен предсельсовета Ляонас Бутгинас с Рутой, пока что единственным в колхозе Героем Труда. Остальные разместились как попало. Ничем не отличившиеся полеводы, скотницы, доярки и прочие, даже не помышлявшие о пьедестале почета. Многие из них не скрывают своего разочарования, потому что на столе только соки и лимонад, кое-где бутылочки с минеральной водой, но ту, с градусами, не ищи. Только пиво говорливо, и все. Пой, веселись, милейший, обхаживай свою смазливую соседку.
Пранюс Стирта, запоздавший на пир и подсевший к таким же, как он, хлещет стакан за стаканом у дверей, а потом по-бычьи мычит, косясь на пустой кувшин: пусть баба мне рога наставит, если не докажу Стропусу, этому дягимайскому проповеднику трезвости – доморощенному епископу Мотеюсу Валанчюсу, что можно и от воды окосеть.
Явился на торжество и Моте Мушкетник-Кябярдис, немного оправившись от хвори. Сидел в зале, терпеливо ждал, пока кончится собрание, как и подобает честному и сознательному гражданину. А теперь тянет из стакана, как капельки микстуры, распахнув стоячий воротник и поглаживая густые усы («Ох, как хочется еще годок-другой протянуть…»), елозит среди героев дня и не может отделаться от грустной мысли: «Может, уже последний раз, товарищ Кябярдис, ты, ветеран, неустанный радетель за родную власть в деревне, может, последний раз…»
На другом конце того же ряда светится седая голова Сартокаса. Сел было опрометчиво за один стол с Мотей Мушкетником, но вовремя спохватился. Ах, и он здесь, этот поджигатель, чтобы его черти побрали, чтобы гореть ему в пекле!
Унте вроде бы положено вместе с героями, но Саулюс Юркус согласовал с председателем, и всю самодеятельность усадили в отдельный ряд – в третий, в самой середине зала. Отсюда, к всеобщей радости, грянет колхозный хор, а Унте затянет старинные песни. На сцену выйдут только танцоры, и то ненадолго, потанцуют – и назад. Праздник! Да будет он праздником для всех!
У каждого ряда столов свое название, их придумали дружки Стирты, остряки.
Первый – «господский».
Второй – «геройский».
Третий – «художественный».
А два последних – «железного» люда.
– Выпьем, выпьем, «железные», – подхлестывает Пранюс своих приятелей. – Пусть они себе там всякую чепуху болтают, переливают из пустого в порожнее, а мы – по полному. До дна!
Хозяйки посадили было Бируте во второй ряд. Она поклялась, что даже краем глаза не посмотрит на своего пьянчугу, если тот явится. Но, видя, как он все более входит в раж, не выдерживает, бросается к нему и давай стыдить.
– Кыш, курица, кыш, ступай яйца класть, – незлобиво говорит Пранюс и ухмыляется. – А то как рассержусь… Ты думаешь, ежели у Стирты золотое сердце, то он позволит, чтобы баба на нем верхом ездила? Нет, лучше наоборот… Ха, ха, ха!
– Ха, ха, ха! – гогочут в конце стола так, что эхо прокатывается по коридору и вылетает в открытую дверь.
Бируте в слезах возвращается на свое место.
– Говорила тебе, не лезь, – возмущается Рута Бутгинене. – Пусть. Так скорее ноги протянет. Ну и размазня ты, Бируте. С такой дрянью кучу детей… Не понимаю…
Бируте шмыгает носом, вздыхает.
– Да я и сама не понимаю, – искренне признается она. – Хорошо, что куча – есть с кем душу отвести. Без них хоть возьми и удавись.
Ляонас Бутгинас не выносит оговоров, пытается заговорить о другом.
– Хорошая сходка, – говорит он, не зная, куда девать свои длинные ноги под столом. – Давно такой не было. Плечо к плечу, душа в душу.
– А что здесь хорошего? – отзывается Моте Мушкетник-Кябярдис, устроившийся напротив. Не хотел он туда садиться, но сел, пока Бутгинасов не было, а когда те пришли, неудобно было встать и уйти. – Жена Унте, ну та, которая при свиньях, сказала: одних только беконов три пошло на эти столы. Сами видите, какие горы колбас, рулетов-шмулетов со всякими начинками. А еще куры, гуси. Десять баб два дня стряпали, чтоб сегодня тунеядцы могли брюхо набить.
– Почему тунеядцы? – краснеет Ляонас Бутгинас, не на шутку разозлившись. – А кто урожай из воды вытаскивал? Вам бы, дядя, не языком молоть, а шапку снять и многим поклон отвесить.
– Стану я им кланяться, – пунцовеет и Кябярдис. – За что? За то, что свой гражданский долг исполнили? Дудки! – вставляет он по-русски. – А ты, Бутгинас, хоть знаешь, сколько сегодня три бекона стоят? Без малого пять сотен. А ведь еще и весеннюю телку прирезали. И уток, кур, по меньшей мере, несколько дюжин ощипали… На одно пиво пудов тридцать солода ухлопали. Сложи все, Бутгинас, взвесь, подсчитай. В толк не возьму, откуда у этого жмота Стропуса такая щедрость? В мое время за такое разбазаривание народного богатства прокуратура за глотку брала. – Моте Мушкетник ерзает на стуле, и тот подозрительно трещит под ним; совсем недавно человек семь пудов весил, а теперь изрядно отощал – какая-то таинственная хворь его изнутри точит.
– Ты, Моте, хватил церезкрай, – не выдерживает Еронимас Пирсдягис, одним из первых занявший место у стола героев. Правда, на уборке урожая он не надрывался, только корма за Пранаса Стирту возил, но конверт с деньгами шелестит во внутреннем кармане пиджака, и, хочешь не хочешь, сердце склоняется на сторону Стропуса. А тут еще – честь, это, пожалуй, самое главное! – Разве Стропус за цузие деньги столы накрыл? Все насе, насими колхозниками заработано. Эти три бекона, телка, утки, солод… Все свое кусаем!..
Моте Мушкетник с обидой глядит на Пирсдягиса, кривя набрякшие бесцветные губы, и чуть слышно шепчет:
– Таким мужиком был, Пирсдягис! И продался…
– Злым ты стал, Кябярдис, – грустно говорит Бутгинас. – Радоваться надо, ведь это наш общий праздник.
– То-то, – поддакивает Пирсдягис, не в силах простить Моте Мушкетнику, что тот исковеркал его фамилию. – Перед смертью каздая муха злее кусает.
– Укусит и тебя. Смотри, как бы тебя раньше меня на погост не снесли, – отрезает Кябярдис и обиженно поворачивается в другую сторону.
Между тем за столами, где сидят самые почетные люди, судят-рядят о другом. Кое-кто даже на скуку жалуется, особенно женщины – зажаты между мужчинами и должны слушать совсем не то, что им хотелось бы услышать. Заслуженные ветераны, славная троица почетных колхозников, тоже невеселы, виновато посматривают на другие столы, словно оправдываясь перед своими земляками, почему не вместе с ними пиво потягивают.
Зато как рыба в воде чувствует себя за столом Юлюс Багдонас, как никогда щедрый на добрые слова. Нет, он не комплиментщик, ему куда легче выудить какую-нибудь подходящую цитату из сочинений классиков, чем похвалить женщину, но сегодня он уделяет рядом сидящей Юргите много внимания; предлагает одно блюдо, другое и даже отваживается сказать такие слова, какие не часто себе позволяет:
– Вы, товарищ Гиринене, являетесь украшением нашего стола. Королева бала. У вас прекрасная жена, товарищ Даниелюс.
– Не сомневаюсь, – Даниелюс улыбается и с любовью глядит на Юргиту. – Хотя когда-то многие, в том числе и вы, были другого мнения.
– Я? Что вы? Кто мог на меня возвести такую злую и подлую напраслину?
– Не волнуйтесь, товарищ Багдонас, я прощаю вас, – говорит Юргита, обворожительно улыбаясь.
– Но я действительно… – продолжает оправдываться Багдонас. – Если все принять за чистую монету, половину работников надо было бы уволить – столько всяких жалоб на них.
– И на Даниелюса?
– И на него, товарищ Гиринене. Но мы разобрались, тщательно проверили и… Это большое искусство, уважаемая, отделить зерно от плевел. Бывает так, что того, на кого больше всего наветов, мы повышаем. Например… Но нет, это пока что секрет. Ничего конкретного, только наметки, прикидки…
– Вы сегодня загадками говорите, товарищ Багдонас, – хитрит Юргита. – Заинтриговали и молчите. Разве можно не считаться с королевой бала?
Юлюс Багдонас согласен считаться, но пока что с секретом повременит. Это, мол, сюрприз. А сюрпризы женщины любят.
– О, какой вы знаток женщин, товарищ Багдонас!
– Отведайте пивка, – предлагает Андрюс Стропус, наконец вмешиваясь в разговор. – Для женщин у нас припасена бутылка-другая сухого вина. Может, позволите налить, товарищ Гиринене?
– Сделайте одолжение.
– Да, но на других столах таких бутылок я не вижу, – замечает Даниелюс.
Андрюс Стропус разводит руками.
– Там только покажи, мужики сразу же себе в глотки зальют. Мы решили один раз обойтись без крепких напитков. Для поднятия настроения хватит и пива.
– Это что, и на нас, гостей, распространяется? – усмехается Багдонас.
– Нет… Извините… В самом деле, бутылочка коньяка, может, и не помешала бы, – почувствовав себя неловко, объясняет Стропус. – Но видите ли, если поставить ее на стол, это, знаете, как-то…
– Совершенно верно, Стропус, – вставляет Даниелюс. – В этом зале все должны быть равны.
– Кроме женщин, – говорит Юргита, поднимая фужер.
– Кроме некоторых из них, – добавляет Багдонас. – За женщин, товарищи! За нашу очаровательную соседку!
– Ты – сама галантность, товарищ Юлюс, – иронизирует Даниелюс. – Когда ты был председателем колхоза… Словом, влияние большого города чувствуется. И очень…
Багдонас добродушно скалит зубы.
– Мы что-то здесь бормочем себе под нос, – говорит он, не скрывая своего превосходства, – и совсем с залом не общаемся. Тосты нужны! Дай мне, Стропус, как бывшему председателю колхоза, слово.
В зале шумно, голоса Стропуса почти не слышно, приходится хорошенько постучать ножом о тарелку.
Багдонас ждет, пока уляжется шум, застегивает пуговицы пиджака, снова расстегивает, глядит исподлобья на потолок и, потирая медвежьи лапы, рубит сплеча. Прежде всего позвольте сердечно поздравить трудового крестьянина, который пашет, сеет, поливает своим потом землю, чтобы с наименьшими потерями осенью снять урожай. Герой! Особенно нынче, когда природа во что бы то ни стало старалась поставить его на колени. Не сдался! Дягимай победила не только стихию, но и другие колхозы. Епушотасского района, заняв первое место. Веселись народ, у тебя есть на это право! Ура!
Мощное «ура» катится через все столы, сливается с дружными хлопками.
– Но, товарищи, разве могли бы вы похвастаться такими успехами, не будь у вас такого опытного работника, преданного делу партии, как ваш председатель? Нет, товарищи, без товарища Андрюса Стропуса вы не смогли бы добиться таких успехов. Ибо когда не крутится большое колесо, то не двигаются и маленькие колесики.
– За большое колесо! Ураааа!!!
Хлопки. Все поднимают стаканы.
– Погодите, погодите, товарищи, – останавливает всех Багдонас. – Я еще не кончил. Стропус – важное, но не самое большое колесо. Есть колесо побольше, без него весь агрегат района скрипел бы, тарахтел бы, но не двигался бы в нужном направлении. Я имею в виду Гириниса, вашего секретаря…
Последние слова Багдонаса тонут в возгласах и аплодисментах.
– Это уж точно!
– Даниелюс – человек!
– За Гириниса? Хоть всю бочку!
– Ваше здоровье, товарищ секретарь! Живите сто лет всем нам на радость и счастье. Ура!
– …раааа! – катится по коридору, вырывается во двор, в вечерние сумерки и эхом отдается в поселке.
Багдонас, не рассчитывавший на такой отклик зала, долго стучит ножом по тарелке, пока не утихомиривает разбушевавшуюся публику.
– Ваш район, товарищи, сегодня в республике шагает в первых рядах. И в этом большая заслуга товарища Гириниса, – кончает свой тост Багдонас. – Его организаторские способности, чуткость к трудящемуся человеку, принципиальность – вот та основа, на которой зиждутся все ваши успехи. Поэтому, уважаемые, я предлагаю тост за ваших прекрасных руководителей – Даниелюса Гириниса и Андрюса Стропуса.
Багдонас нерешительно садится, вдруг вспоминает, что не все сказал, но все в зале встают, и ему ничего другого не остается, как встать. Звенят стаканы, люди что-то выкрикивают в честь Гириниса, а те, кто поближе и посмелее, чокаются с секретарем, высоко поднимая стаканы. И Стирта протискивается вперед, чтобы чокнуться со своим родичем («Брат моей бабы, вы что, не знаете, ядрена-зелена!»), но Бируте с Рутой Бутгинене оттаскивают его в сторону.
– В каждой деревне свой дурак, а у нас – Стирта, – смеется Бутгинас.
Андрюс Стропус загодя обсудил с членами правления, кому первому и какие тосты говорить. Но Юлюс Багдонас все расстроил. Теперь другого выхода нет, придется самому что-то сказать. Зацепиться за это большое колесо Багдонаса, отдавая дань колесикам поменьше, и склонить на свою сторону сердца всех собравшихся, а главное – властей.
И изо рта Андрюса Стропуса вылетают слова – одно другого краше. Поклон простому труженику-колхознику, без героического, самоотверженного труда которого мы не шагали бы от победы к победе. Поклон уважаемому секретарю райкома Даниелюсу Гиринису, так сказать, руководящей силе и разуму Епушотаса. Поклон нашему гостю Юлюсу Багдонасу, который и есть главное колесо, двигающее весь механизм и дающее сложной машине колхозного производства правильное направление.
– За наших дорогих руководителей, товарищи!
Далее все идет, как и было намечено. То тут, то там кто-то острит, кто-то невинным анекдотцем веселит соседей. У столов, отведенных для самых почетных гостей, вертится все больше развеселившихся – надо думать, не от лимонада.
– Знаете, я не кончил свой тост, – признается Юлюс Багдонас Даниелюсу и хитро щурится. – Я не сказал самого главного.
– Чего же?
– Что тебя решили перевести в аппарат. Будем служить вместе.
Даниелюс с Юргитой переглядываются. Пришибленный новостью Стропус смотрит на них исподлобья.
– Это и есть обещанный вами сюрприз, товарищ Юлюс? – не может поверить Юргита.
– А что? Разве такая женщина, как вы, его не достойна?
– Несколько лет тому назад меня тоже хотели перевести в аппарат, – без особой радости говорит Даниелюс.
– Тогда это тогда, сам знаешь… А теперь строительство фабрики и высокие показатели по району поставили тебя на ноги, – заверяет Багдонас. – Товарищ Гиринене, вы победоносно вернетесь в свой любимый Вильнюс.
– Может, прежде всего следовало бы спросить, обрадовала ли эта новость самого Даниелюса Гириниса. И что думают по этому поводу люди. Обрадуются ли они, расставаясь со своим секретарем?
– Люди?.. – Багдонас зыркает на Юргиту, не уверенный в том, расслышала ли она его, и тут же смекает, что об этом не стоит и говорить. – А что касается товарища Даниелюса… Мне еще не доводилось встречать людей, которые отказывались бы от повышения.
– И я не отказываюсь, – вмешивается Даниелюс, поймав беспокойный взгляд Юргиты. – Куда там! Мне очень приятно оказанное доверие! Но я буду откровенен: голова от этого повышения кругом у меня не пошла. Здесь моя родина, дорогие мне с детства люди – это во-первых, а во-вторых – работа в районе мне больше по душе, чем раскладывание бумаг по папкам. Если бы все зависело только от меня, я бы из Епушотаса и шагу не сделал.
– Ха! – Багдонас недоверчиво улыбается, глядя то на Юргиту, то на Даниелюса. – А ваше мнение, товарищ Гиринене?
– В существенных вопросах наши мнения полностью совпадают, товарищ Багдонас. А что касается общеизвестной формулировки, которую вы наверняка имеете в виду, о том, что установка партии – приказ для каждого коммуниста, то сегодня ее смысл куда шире: выбор зависит от самого человека.
– Да… – отзывается Даниелюс. – Если ради этого выбора не приносятся в жертву интересы самого близкого человека…
– Любить – это и значит жертвовать, – тихо говорит Юргита Даниелюсу. – Если повышение омрачит тебе жизнь, то и мне возвращение в город моего детства не доставит удовольствия.
– Юргита… Юргита… – потупившись, шепчет Даниелюс. – Ты всегда отдаешь больше, Чем получаешь…
Багдонас отворачивается, прячет под белесыми ресницами завистливый взгляд и что-то бормочет под нос.
– Так, может, закончите свой тост, товарищ Багдонас? – осторожно напоминает председатель, обрадовавшись тому, что Гиринисы заняты беседой между собой; после того как Стропус бежал с места происшествия, панически зовя других на помощь, он всегда чувствует себя неловко рядом с секретарем.
– Какой тост? А… Вряд ли стоит сообщать о том, что еще не скреплено печатью, – возражает раздраженный Багдонас.
Андрюс Стропус разочарованно кусает губу – снова придется жить и работать вместе с Гиринисом… Но свое разочарование он удачно прикрывает веселой улыбкой и с самодовольством хлебосольного хозяина окидывает гудящий зал, где за «художественным» столом Саулюс Юркус готовит к выступлению свою певческую армию. Самое время прийти на помощь тем, кто поднимает тосты и кто, похоже, уже выдохся…
– Может, для храбрости, Унте? – толкает Гириниса кулаком в бок сосед, с которым тот не раз шумно выпивал. – Я знал, что будет только пиво, да и то хреновое, поэтому бутылочку прихватил.
– Да нет, пожалуй… – не поддается искушению Унте. – У меня и от пива щеки горят…
– Гореть-то горят. Но пиво есть пиво…
Мужики по двое-трое, а то и целой ватагой встают из-за столов – «коней поить». Частенько попадаются такие, у кого в кармане булькает тепленькая бутылочка водки, у других для подкрепления припрятаны «чернила». Озираясь, не видит ли кто-нибудь из властей, они потягивают по глоточку и возвращаются как будто на крыльях.
– Хотя бы настоящее пиво сварили… – сетуют они.
– Оно вроде бы ничего, но пиво есть пиво.
– А наш-то, наш-то прямо из кожи вон лезет, чтобы секретарю угодить. Знает, что тот пьянства терпеть не может, потому-то на столах один лимонад…
– А уж как тогда осрамился, вспомнить стыдно.
– Конечно, осрамился. Настоящий мужик попер бы на этих хулиганов. Пусть зарежут, но чтоб бежать…
– Да какой он мужик… Думаешь, ребенок его?
– А чей же? Может, ты постарался?
– Не я, но баба у него хват…
– Ну уж, ну! Это уж ты перегнул палку, Йокимас. Хватил через край.
Наконец Саулюс Юркус решает: все готово, на смех не поднимут. Хористы все пунцовые, но не перебрали, выпили столько, сколько для веселой песни требуется. И песня льется, заставляя замолкать столы, озаряя разгоряченные лица восторженными улыбками. Многие стучат в такт ногами о половицы, тихонько подтягивают даже безголосые. Но разве тут голос важен – сердца друг с другом говорят, забыв вражду и ссоры, злость, затаенную печаль… Вот и стекаются все голоса, как речушки, в широко разлившуюся реку, неудержимо стремящуюся вперед, прокладывающую себе путь и отвоевывающую для своего русла все новые и новые пространства. Юркус стоит на стуле между столами и яростными жестами едва сдерживает своих певцов; он и сам пунцовый, как розан, но не от пива – только два-три глотка хлебнул, – а от этого общего веселья, захватывающего каждого, у кого пылкое сердце и горячая до сумасбродства кровь.
Под горою ива,
колодец без дна,
там бродит тоскливо
девчонка одна…
Унте с восхищением смотрит, как летают во все стороны руки Юркуса, как трепыхаются его длинные рыжие волосы, как подпрыгивает на длинной шее в такт музыке голова. Не парень, огонь. Немножко помешан на этом своем светлом будущем, но в своем деле мастак… Вот смеху было бы, если бы он сейчас грохнулся со стула на пол…
Унте улыбается, представляя себе, как бы Юркус выглядел. И у Юркуса на губах играет улыбка («Браво, браво, самодеятельность! Хорошо тянут!»). Все хористы, облепившие столы третьего ряда, в расстегнутых рубахах, в испарине, пахнущие сытными яствами, – одна сплошная, негаснущая улыбка.
Стой, погоди, девица,
Дай скакуну водицы…
Юркус вдруг спрыгивает со стула, делает знак хористам, чтобы дальше пели, и бросается на сцену к пианино. И песня под его страстный аккомпанемент взлетает еще выше.
Холодна роса, а я боса,
отморожу ноги…
Унте кажется, что все взгляды обращены на него – до чего же красиво звучит его голос. Чтоб самому убедиться и другим показать, чего он, его голос, стоит, Унте замолкает, и песня на самом деле угасает. Сквозь толпу он не видит Юргиту, но как бы чувствует ее удивление («Смотри-ка, какой певун!»).
Песня замолкает, и долго еще гремят аплодисменты и одобрительные возгласы. Саулюс Юркус элегантно раскланивается, потом, охваченный вдохновением, машет рукой и просит певцов встать. Однако они не сразу понимают, чего он от них хочет, а когда наконец смекают и недружно встают – торжественность минуты упущена.
– Черепахи! – выговаривает им Юркус, возвращаясь на свое место. – Власти были в восторге, а вы…
– После песенки такой не мешало б по одной! – орет Унтин сосед, колотя его кулаком в бок. – Так, может, теперь не откажешься во двор?..
Унте пожимает плечами, всеми силами противясь искушению. Господи, каким легким он стал! Словно к каждой ляжке по воздушному шару привязали, и шары эти тянут его вверх. Что ни говори, но и пиво силу имеет! А ежели еще веселая песня!.. У Унте в груди не сердце, а пылающий факел…
– Ну, может… На сей раз… Так или иначе, но пузырь – не цистерна бензовоза… – хитро улыбается он, не чувствуя, как встает и перешагивает через скамейку.
Сосед за ним. И еще пара мужиков, смекнув, видно, в чем дело, пробирается к выходу. Чтоб песня лилась позвончей…
– Смотрите у меня, товарищи, – предупреждает Юркус, почуяв что-то неладное. – Это дело нашей чести. Неважно, что за столами сидим.
– Не опростоволосимся, не бойся! – заверяют те.
И на самом деле: возвращаются, и еще звончей льется песня. Унте выводит первым голосом, да так, что стоит ему выдержать паузу, и тишина в ушах аж звенит – все сосредоточенно, затаив дыхание, слушают, как он поет.
Лают гончие – значит,
мимо молодец скачет.
Все гляжу я в оконце —
мимо скачет и скачет, —
органно гудит в зале, и он не сразу взрывается аплодисментами и возгласами «ура», потому что, когда умолкают последние аккорды, у каждого в душе еще звучит пленительная песня, а кое у кого в глазах и слезы стоят.
Ляонас Бутгинас просит слова. Тост его короткий: за колхозных певцов, с которыми и работа спорится и горе – не горе. И, конечно, за своего друга Антанаса Гириниса, за его серебряное горло, как выразился один из телевизионщиков. Успехов тебе, Унте, во всех твоих делах!
Лицо у Унте полыхает как мак, перебрал пива, да и белой добавил. Столы упорно требуют, чтобы он сказал слово. О чем? О том, что самая красивая женщина здесь – Юргита, а у Стропуса рога? За рогатых! Унте тихо хихикает, ничего себе, веселенький тост. Ах, хорошо бы снова выйти во двор – бутылка соседа выпита еще не до дна… Но Стропус, подчиняясь воле гостей, стучит ножом о тарелку: слово имеет Антанас Гиринис…
Унте встает, поправляет галстук, передразнивая Стропуса. В голове пустота. По плану Юркуса еще не время для старинных песен, но чем, черт побери, откупишься от всех?
Стальная коса у меня,
косил клеверок я три дня.
Ура, коса, урааа! —
вдруг выталкивает память, и Унте, долго не раздумывая, затягивает.
Юркуса от ужаса даже пот прошиб. Подобрав полы пиджака, он бросается на сцену к пианино, но Унте, как говорят, неуправляем. Спев второй куплет, возвращается к первому, а закончив его, перескакивает к последнему. Не Юркус ему, как обычно, аккомпанирует, а он за собой Юркуса ведет.
Но успех огромный – всех покорила неукротимая мощь песни, ее завораживающая душевность и простота.
Унте спел одну песню, другую. Юркус сидит у пианино, опустив руки и разинув рот от удивления. И впрямь, на кой его аккомпанемент? Теперь уже все течет плавно, куплет за куплетом, слово за словом, даже самому Унте не верится. Но так оно на самом деле. Иначе зал после каждой песни не кричал бы: бис!
– В консерваторию бы его, – говорит Юргита.
– Да, дягимайский Норейка, – соглашается Стропус.
Даниелюс молчит, загадочно качает головой.
Юркус возвращается со сцены несолоно хлебавши. Врезал бы он Унте по первое число, но тот уже пробирается между столами к выходу.
У дверей стоит Юргита. Интересно, вышла подышать или для того, чтобы улыбнуться ему и пожать руку?
– Ты хорошо пел, Унте.
– Я? Да сначала я все спутал.
– Нет, нет, все очень хорошо получилось. Еще тебя надо с премией поздравить. Молодец!
– Ерунда! Не меня одного наградили.
– Скоро домой поедем. Может, вместе? Отец ждет…
Унте чувствует на себе пристальный, невеселый взгляд Юргиты и все понимает. Опустив глаза, ничего не видя, кроме ее черных лакированных туфелек и островочка пола вокруг них, Унте тихо говорит:
– Вы не бойтесь… Пока я не перебрал… Когда вы рядом, ничего дурного со мной не случится.
– Разве я тебе что-нибудь сказала?
И вдруг он вспоминает недавний сон… будто несет Юргиту на руках.
– Поеду… конечно, вместе поеду… Ведь отец один… И вообще… – растерянно шепчет он.
– Ваш Юркус музыкантов выстраивает. Сейчас выйдут танцоры.
– Выйдут… – не слыша своего голоса, повторяет Унте и смотрит на уходящую Юргиту.
Смотрит, забыв обо всем, пока она не исчезает в толпе. Как хорошо, что этой ночью он будет сидеть с ней в отцовском доме за одним столом. И утром за завтраком…
На плечо Унте опускается тяжелая рука. Сосед, не дождавшийся, когда Гиринис придет допивать бутылочку? Нет, Андрюс Стропус! Протягивает Унте правую руку (хотя сегодня уже и здоровались), кисло хвалит его песни и сетует, что нет Йонаса Гириниса: хотел, видишь ли, ветерана поблагодарить, пожелать ему доброго здоровья. Что ж, придется это сделать завтра или послезавтра, заехав к ним домой. Конечно, впечатление не то что на людях. Но когда такое внимание проявляет сам председатель, то это все-таки для человека уже кое-что…
Унте кивает головой, думая совсем о другом. Даже не замечает, как Стропус уходит.
Соседа с бутылкой и его дружков за углом не видно. Шут с ними! На «коней» посмотреть можно и не глотнув водки. Надо только зайти вон за ту белеющую неподалеку башню.
Унте идет, запрокинув голову к небу. Оно почти чистое, только кое-где дремлет облако. Звезды… На юго-западе в каких-нибудь двух вершках от земли розовеет серп месяца. Через неделю жди полнолуния. Но скоро, наверное, начнется слякоть, и нарадоваться на луну не успеешь. Ах, что за ночи нынче в ноябре!
Унте вдруг спохватывается, что не за башенку зашел, а за постамент Жгутасу-Жентулису, на который тот пока еще не взобрался. Извини, дружище, хоть тебя здесь и нет. Не сердись, утешайся тем, что будешь стоять в хорошем месте, коли черт ногу не подставит, и смотреть на новый Дом культуры, на котором Стропус чуть было крест не поставил. Наконец-то мы расшевелили этого производителя мяса – фундамент заложили. Спасибо за это и Даниелюсу – поддержал. Да, дружище, это будет не Дом, а настоящий храм, глаз не оторвешь. Так что ты уж не сердись, что я тут у тебя под носом…
Унте озирается и, прислушиваясь к музыке, доносящейся из зала, возвращается через площадь назад.








