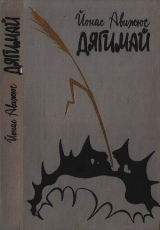
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
– Мне было десять. Нет, вру, двенадцатый шел. Я очень хорошо помню. Случилось это ночью, незадолго перед тем, как семью дяди Теофилюса вывезли. Да ты и сам все прекрасно знаешь, хотя тогда и учился в Вильнюсе.
– Знаю, – упавшим голосом произнес Даниелюс и снова зашагал по кабинету. – Выкладывай, что на душе наболело, авось полегчает.
– Ту ночь я никогда не забуду, – выдохнул Унте, не уловив в словах Даниелюса насмешки. – Ввалился Жгутас-Жентулис со своими дружками и давай все переворачивать вверх дном. «Где бандиты?» Обыскал все кровати, сундук с маминым приданым, содрал со стен картинки со святыми. Когда кончился обыск, в избе все было разворошено, сдвинуто, раскидано, не поймешь, где окна, где двери. А тут еще отец возьми да ляпни: обыщите, мол, мой бумажник, может, какой-нибудь бандит туда залез. Жгутас-Жентулис долбанул его прикладом по голове. Потом гнев героя обрушился и на нас, на «кулацких выкормышей», как нас тогда величали. Вызывали по-одному в светелку, допрашивали, допытывались, как часто к нам бандиты заходят, кого из них знаем. Сестра Юстина после такого допроса вернулась сама не своя, жалуется, захлебываясь от слез, кто-то из людей Жгутаса-Жентулиса поволок ее в чулан, но Жентулис заступился за нее. Да, твоя правда – он не был законченным негодяем. Однако как бесчеловечно пытался вырвать он из нас признания в том, в чем подозревал без малейшего основания. Вот он какой, братец, этот человек, которого ты возносишь.
Даниелюс в растерянности переминался с ноги на ногу, хрустел, заложив руки за спину, пальцами и наконец произнес:
– Тебе трудно понять, какое тогда было время. Не человек против человека шел, а класс против класса. И ради более важных ценностей, чем исчезнувшая во время обыска вещичка.
– Или невинный человек, убитый наповал…
– Да. Когда полыхает огонь классовой борьбы, люди частенько оказываются не на той стороне баррикад, на которой им надлежит быть, и повинна в этом только логика событий.
– Не понимаю, – пробормотал Унте. – Уж очень все мудрено.
– Ты должен понять: власть в свои руки взяли люди, которых долгие годы угнетали богатеи. Из поколения в поколение передавали они свою обиду, обида рождала в сердцах угнетенных ненависть, жажду мести. Ты требуешь, чтобы все они вели себя порядочно, а подумал ли ты, что детство у большинства из них прошло под батрацкой крышей, где вместо ласкового материнского слова свистел хлыст работодателя? Тот же Жгутас-Жентулис ведь и двух классов не кончил, с шести лет пас у кулаков скот. А сколько к народным защитникам примазалось таких, кого в их ряды привело не классовое сознание, а грязный расчет. Когда река по весне выходит из берегов, в ее поток попадает и немало дряни. Почему ты видишь только дрянь? А ты постарайся подняться выше личной обиды. Не как человек, а как гражданин. Над своим отчим гнездом, над своими личными интересами, чтобы взглянуть на все с высоты птичьего полета – широко, по-государственному.
– Чтобы с твоей птичьей высоты не было видно Жгутаса-Жентулиса? Так, может, лучше зажмуриться! Зажмуришься – и никаких крыльев не надо, – усмехнулся Унте. Унте хотел встать, но поскользнулся, снова рухнул в кресло и, когда надал, заметил, что Даниелюс добродушно смеется над его неуклюжестью. Это еще больше разозлило Унте. – Зря тебе, братец, голову морочу, дурачка из себя строю, – возвысил он голос, поднялся наконец из мягкого кресла. – Что до хуторских деревьев, ты помог нам, это правда. Не все Стропус вырубил. Парочку дубков в поле оставил и стайку берез над Скардуписом пожалел, чему мы душевно рады. Надеемся, и со строительством Дома культуры поможешь. Хоть столько пользы с помощью райкома и господа бога… А вот памятник недостойному человеку поставите. И фабрику небось тоже построите. Все наши подписи, все мольбы, все твои обещания – все псу под хвост. Немногое ты можешь, Даниелюс.
– Я сдержал свое слово: сделал все от меня зависящее, чтобы фабрику построили в другом месте.
– Вот я и говорю: немногое, брат, можешь.
– Я не привык взваливать ношу на чужие плечи. Так поступают только из корысти. Черт знает что творится: люди боятся строек, как чудищ каких-то, словно кто-то хочет всех впихнуть в пасть девятиглавого дракона. А ведь вы как работали в колхозе, так и будете работать. Фабрика и без вас рабочих найдет.
– В том-то и дело, что найдет. Понаедут, нагрянут отовсюду! Ведерко на ночь не оставишь – стащут. Расплодились!
– Чудной ты! Порой так рассуждаешь, аж завидки берут, а порой такое скажешь – ну, мракобес мракобесом. Стыдно! Послушать тебя – самый лучший выход: закрыть фабрики и, скопом взявшись за деревянную соху, землицу пахать. Да, да, за деревянную, потому что где же ты железо добудешь, если всю промышленность к черту!.. Заживешь, стало быть, как в каменном веке: воздух чист, в реках рыбы, а в пущах зверей и птиц прорва, ни тебе автомобилей, ни медобслуживания – попробуй без промышленности обыкновенный шприц сделать. Словом, назад, к тем временам, когда человечество в пеленках лежало.
– Не передергивай, ничего подобного я не говорил. – Унте повернулся к Даниелюсу спиной, собираясь уйти. – Мы с тобой толкуем о строительстве фабрики в Гедвайняй, а ты меня всей промышленностью кроешь.
Даниелюс нетерпеливо развел руками.
– Слышал про обвалы в горах? Обломится, скажем, кусок утеса – и вниз. Катится, катится и увлекает на своем пути другие. Строительство фабрики в Гедвайняй – такой камень, он летит с грохотом вниз, и не один, братец, а с целой грудой. Может, сравнение мое не годится, но я хочу, чтобы ты понял, как смешны те, кто пытается остановить процесс индустриализации. Человечество с самого младенчества двигалось вперед, к более прогрессивным цивилизациям, хотя такие пессимисты, как ты, причитали, что прогресс роет человеку могилу. Впрочем, остановись, застынь он на месте, глядишь, мир и впрямь рухнул бы. Таков закон природы, и мы бессильны что-либо изменить. Есть только два пути – либо в ногу со временем, либо, выпятив грудь, тщетно пытаться задержать его и, следовательно, потерпеть фиаско. Самое большее, что мы можем, это направить поток камней так, чтобы они не летели нам на голову. Не очень-то ты дальновиден, брат мой.
– Сами на себе петлю затягиваем, сами вопим о спасении. Не понимаю… – пожал плечами Унте.
– Так, может, ты возьмешь в толк хоть то, что строительство фабрики в Гедвайняй и вам, дягимайцам, принесет пользу? Я уже не говорю обо всем районе, боюсь, снова не поймешь.
– В прошлый раз ты уверял: получите, мол, горячую воду и кое-что в придачу… Это дело хорошее, но не слишком ли дорого мы за нее заплатим? Как ты понимаешь, не о деньгах речь…
Даниелюс беспомощно покачал головой: дальше вести разговор не имело смысла.
Унте подумал, соглашаясь с братом: «И впрямь не столкуемся. Ни насчет Жгутаса-Жентулиса, ни насчет фабрики. Может, летом в Дягимай приедет Повилас или я к нему на денек выберусь – Повилас меня поймет».
Он холодно поклонился Даниелюсу и затопал к выходу. Но тут двери отворились, и в кабинет вошла Юргита, жена Даниелюса. На ней была черная каракулевая шубка с белой норковой горжеткой, на ногах – элегантные черные сапожки. Из-под белой меховой шапочки выбивались гладкие черные волосы, и на длинных темных ресницах мерцали мелкие капельки растаявшего снега.
– Кого я вижу! Унте! – искренне обрадовалась она, игриво протягивая деверю свою красивую руку. – Шла из редакции, думаю, забегу ненадолго к мужу. Но что у мужа тебя встречу – ей-богу, не ожидала. Мы так редко встречаемся, ну просто стыдно! Теперь уж ты, косолапый, от меня не уйдешь – пойдешь к нам обедать, и все.
Поеживаясь и краснея от застенчивости, Унте несмело улыбнулся, отвечая на бурные приветствия Юргиты. Он испытывал какое-то чувство стыда и неловкости, словно в чем-то провинился перед братом, но ему было до легкого головокружения приятно от прикосновения теплых ласковых пальцев своей невестки.
Да, они и впрямь редко встречаются, смиренно соглашался он с Юргитой. Что правда, то правда. Да, родственникам так не подобает. Но что поделаешь, если все так сложилось: они, дягимайские Гиринисы, тут, в своей деревне, а Даниелюс долгое время вдали от родного дома жил. Теперь, когда его из Дзукии перевели в Епушотас, они, конечно, будут встречаться чаще. В том никаких сомнений нет. Ведь Гиринисы Гиринисам – не чужие люди. Только вот что до сегодняшнего обеда, то… нет, нет, он не может. Было бы очень даже приятно, но, к сожалению, дома дел невпроворот…
– Врунишка! – Юргита кокетливо пригрозила ему пальчиком. – А ну, посмотри мне в глаза. Неправду говоришь. Какие срочные дела в деревне в середине зимы?
– Не упрямься, Унте, – пришел на помощь жене Даниелюс. Пока брат разговаривал с Юргитой, он молча стоял у письменного стола. – Посидим, потолкуем. Наша Алюте замечательные голубцы готовит. Невежливо отказывать даме.
– Нет, не могу. В другой раз. Сынишка хворает, – не сдавался Унте. – Надо помочь Салюте скотину накормить, загон отгородить – скоро свинья опоросится. Прости, брат, прости, невестушка, но как-нибудь в другой раз.
– Что ж, в другой, так в другой, – неохотно уступил Даниелюс и, повернувшись к Юргите, добавил: – Через год нашему отцу семьдесят пять стукнет. Пора подумать, как его получше поздравить.
– Подумаем. В другой раз встретимся и подумаем, – Унте протянул на прощанье руку и, глядя в упор на Даниелюса, почувствовал, как жаркая волна захлестывает его щеки, багрит затылок и уши.
«В жизни, должно быть, нигде нельзя обойтись без обмана…»
Мог же он в конце концов отведать эти Алютины голубцы. Мог посидеть, потолковать. Поставили бы, наверное, на стол бутылку с каким-нибудь редким напитком. Разговорились бы, вникли бы в суть дела, глядишь, и на сооружение памятника Даниелюс посмотрел бы совсем по-другому. А теперь только обидел родичей, особенно Юргиту. Да, ее, потому что Даниелюсу конечно же меньше всего хотелось, чтобы он, Унте, сидел с ним за одним столом и изгалялся над его добродушными братскими назиданиями. Юргита, ах, эта Юргита!.. Если он одним махом перечислил столько неотложных дел: и то, что сынишка хворает, и то, что свинья скоро опоросится, так в этом только Юргита виновата, хотя сама об этом и не догадывается.
Унте теперь уже не помнит, когда первый раз увидел ее. Правда, в одном он уверен, было это раньше, чем брат разошелся с Ефимьей, первой своей женой, и без всяких обиняков написал родителям о том, что наконец нашел свою женщину, с которой-де сможет счастливо прожить остаток жизни, ибо обоих связывает духовное родство, настоящая любовь.
Старый Гиринис резко ответил, омрачив его счастье: к чему, мол, такие фокусы на исходе пятого десятка – одну бросать, с другой – под венец, словно какой-нибудь птенец желторотый.
Даниелюс пытался переубедить старика, объяснить ему, какие они с Ефимьей чужие, но Йонас Гиринис стоял на своем: нет, не подобает такое серьезному человеку, так поступают ветрогоны; во всяком случае в роду Гиринисов никто себя на посмешище не выставлял.
Сын, обиженный отказом отца, целый год в родной деревне не появлялся, напоминал о своем существовании только скупыми письмами, где словно в отместку всегда приписывал: «самые горячие приветы от меня и от моей Юргиты».
Унте незлобиво посмеивался над пофыркиваниями отца, не забывал при каждом удобном случае вставить, что когда-то и первую супругу Даниелюса, Ефимью, тот встретил не очень-то дружелюбно («И надо же было черт знает откуда привезти ее, словно на родине своих девчат нет…»). Но Йонас Гиринис насмешки сына пропускал мимо ушей, ибо свято верил, что жены – не перчатки, и негоже их менять когда заблагорассудится, только господь бог дает и забирает женщину, на все его воля. Не смягчилось сердце старика и тогда, когда Даниелюс со своей новой женой приехал в Дягимай и Юргита сразу же расположила к себе всех. Свойская, веселая, услужливая, остроумная, покладистого нрава, она за короткий срок успела растопить ледяную стену, отделявшую одну семью от другой, поэтому и холодная сдержанность отца казалась не столько естественной, сколько притворной. Старик и сам не мог устоять перед чарами своей невестки.
Унте никогда такой женщины, как Юргита, не видел. Женщины, которая умеет так заразительно смеяться, так стрелять глазками, вовремя найти подходящее слово, от которого на душе становилось тепло-тепло.
В тот давний вечер, когда все улеглись, а Даниелюс со своей женой, впервые приехавшей в деревню, отправились в светелку спать, осоловелый Унте долго бродил по усадьбе, кружил вокруг построек, заросших старыми деревьями, на их блестящей листве причудливо переливались лунные блики. Унте хотелось, чтобы брат скорее убрался, а в другой раз приехал без жены. Но в ту осень он снова появился с Юргитой и двухлетним сыном: отец пригласил их на яблоки. Юргита, разгоряченная, сновала, как девочка, между кухней и уставленным яствами столом, помогая умаявшейся Юстине. И Унте уже не хотелось, чтобы брат с семьей скорее уехал, было приятно, чертовски приятно чувствовать близость Юргиты, слышать ее раскатистый ласковый смех и печальной улыбкой отвечать на ее дружеские взгляды.
– Теперь, когда мы перебрались в ваш район, держись, Унте: прокутим мы все твое хозяйство, – пошутила она.
– Не бойтесь, хватит на всех. Только приезжайте почаще, – ответил Унте и весь покраснел, устыдившись своего горячего приглашения.
– Обязательно приеду. Ведь у вас так хорошо, словно выросла здесь.
В ту ночь, после того как Даниелюс с Юргитой устроились на ночлег в светелке, Унте не потянуло во двор. Он не отправился бродить по усадьбе, а нахохлившись сидел в углу избы и не сводил глаз с Салюте, стелившей постель. Коробили ее полнота, ее толстые икры, угловатые, почти мужские движения. Но когда она повернулась к нему и улыбнулась доброй, застенчивой улыбкой, выявившей едва заметную ямочку на заплывшем подбородке, Унте стало тоскливо и стыдно.
А ведь был же жаркий летний день и благословенный ливень с молниями во все небо. Была же поездка вдвоем на мотоцикле – мчались из Альгирдишкской пущи, и шумели над их непокрытыми головами дубовые ветки, встревоженные дождем… Да, все это было. Тогда он, Унте, не видел ничего, кроме нее, Салюте, насквозь промокшей девчонки в прилипшем к телу цветастом ситцевом платьице.
– Послушай, – прошептал он, когда они оба легли, – я вспомнил, как мы с тобой познакомились. То есть знать-то я тебя знал давно, но в тот день меня как бы осенило: вот какая мне женушка нужна.
Салюте тихо рассмеялась.
– Куда лезешь? Пьяный ты. Спи. – И ласково шлепнула его по руке.
– Выпить, что ли, нельзя? Ведь родной брат приехал. И потом совсем я не пьяный. Неужто только пьяный может признаться в любви своей женщине? А я тебя… да ты и сама, Салюте, знаешь… Ты для меня самая красивая из всех, кого я только видывал.
Унте казалось, будто из светелки доносятся шепот, шорохи, и, распаленный подозрительными звуками, он шептал жене нежные словечки, страстно ласкал ее, стараясь заглушить то, что будоражило душу.
III
Унте зажмуривается, горестно качает головой, тихонько ругается. Злополучный потолок! Может, только Ляонас Бутгинас не поднял бы его на смех, расскажи ему Унте, какая чертовщина мерещится в собственной спальне. Ну не спятил ли он? В самом деле, чего вчера не остался обедать у брата, чего потом наклюкался, чтобы погасить пожар, пылающий в его душе?
Унте дотягивается до брошенной на подоконник книги – четвертый раз сегодня принимается читать, но даже страницу не одолел.
– Все дрыхнешь? – спрашивает Салюте, просунув голову в дверь кухни. – Уже за полдень. Пора мне на ферму свиней кормить.
«Мог бы помочь, но она обязательно отрубит: не надо».
– А свою скотину не забыла?
– Неужто, думаешь, я ждать буду, пока книгу прочтешь?
– Старики все еще сидят…
– Не бойся, не налакаются. Это не ты, – жестко бросает Салюте, стоя уже на пороге.
– Что за чушь порешь? Я тебе что – Стирта, который каждый день под градусом? – злится Унте.
– И ты голову теряешь. Порой не поймешь, какой бес в тебе сидит. И вчера думала – вернешься из Епушотаса и будешь носом землю рыть.
– Мог бы. Повстречался мне один дружок. Пристал: «Пошли в ресторан!»
– Ну и слава богу, что не поддался… Может, говорю, образумишься…
Унте минуту-другую молчит, уткнув нос в книгу. «Ах, скорей бы она отправилась свиней своих кормить…»
Не дождавшись, пока за Салюте закроются двери, Унте выдыхает:
– А все-таки я добьюсь своего. Дом культуры будет светить на весь Епушотасский район, как храм божий, а Жгутас-Жентулис не дождется памятника.
– Дай-то бог, – усмехается Салюте. – А не повторится ли история с фабрикой: бегал, носился как угорелый, орал на весь свет, баламутил воду, а что вышло – пшик?
– Вперед не забегай, фабрику еще не построили, – сердится Унте: кому приятно, когда о неудачах напоминают.
– Не построили, так построят.
– Поживем – увидим…
– Может, взорвешь ее? – не унимается Салюте. Ей доставляет большое удовольствие дразнить мужа.
– Чего язык распустила! Марш скорей к своим свиньям – мне пора штаны надевать!
Салюте обиженно хлопает дверьми кухни, а Унте все еще валяется в постели, пытаясь заглушить нахлынувшую обиду. Вот тебе и баба! Вот тебе жена! Послушаешь ее и невольно к рюмке потянешься…
– Сегодня у Мармы горячий денек, – доносится голос отца. – Суббота. Почитай, половина Дягимай в баню нагрянет.
– Банщик, видать, тертый калач, – бормочет Григас.

Унте смотрит в книгу, ничего не соображая, потом швыряет ее на подоконник и вдруг сбрасывает с себя одеяло. Наспех натягивает штаны, влетает в одной сорочке на кухню, а оттуда, умывшись холодной водой, чешет назад в спальню – одеться как следует. И снова возникают видения детства: расписанное морозными узорами окно, летчики Дарюс и Гиренас возле своей «Литуаники» на фотографии, заливистое пение кочета и ленивый лай собак.
Старики все еще белят усы пивной пеной. На щеках – багрянец, на душе хорошо, и хмель нисколечко не берет.
– Спишь до обеда, как граф какой, – незлобиво язвит отец. – Может, кофейку с банкухеном?
– На кой такому мужику твой кофеек, – возражает Григас. – Ты пивка ему налей, сыру, копченого окорока отрежь. Посидишь с нами, Унте?
– Сесть-то сядет, вот только встанет ли, – говорит Гиринис, опасливо косясь на сына.
– Раз так, то и впрямь присяду!
– Тебе бы только наперекор… – Гиринис разочарованно и печально качает головой. – Возразить бы только…
– Слышал, тебе у брата вчера не шибко повезло, – говорит Григас, подвинув бокал к Унте. – Даниелюс умный мужик, но, видать, не вник в дело.
– Ум у таких знаете где? В заднице, – ухмыляется Унте. – Всё заседают. – И уже почти жалеет: зачем так о брате при чужом человеке?
– Работа такая, – заступается за Даниелюса Григас. – Без совещаний, без постановлений шагу не шагнешь. А ты, Унте, молодец, что за культуру взялся. И насчет этого памятника голос поднял. Коли уж делать из человека святого, то пусть он и вправду будет святым.
– Вам обоим только и делать, что гадать, кто святой, а кто так себе – блаженный, – перебивает гостя Гиринис. – Ты сына моего не подзуживай, Антанас, он и так, надо или не надо, пускается во все тяжкие.
– Будь у нас Дом культуры – мы бы ого! Город позавидовал бы, – продолжает Григас, не боясь прогневить хозяина. – У кого голова на плечах, тот понимает, что колхозу надо. А то, что Стропус хвостом вертит, не беда, мы его прижмем. Нагрянем скопом и прижмем.
– Хоть один человек нашелся, – Унте поднимает бокал. – За твое здоровье, дядя. – Выпивает до дна, тут же наливает себе снова и под глухое бормотание отца «наперекор, все наперекор» опрокидывает. – А теперь дуйте без меня. Спасибо тебе, дядя, на добром слове. – Встает не спеша и, нарочно шатаясь как пьяный, топает к дверям, криво усмехаясь.
Бог ты мой, сколько раз он это видел: увязшие в сугробах плетни, кривой колодезный журавель с дубовой колодой-гирей на конце. Чуть поодаль – затейливая вязь голых яблоневых веток, хлев, а за хлевом – верхушки осин, справа – серое обледенелое шоссе. По ту его сторону – снова усадьбы. Всюду, куда ни глянешь, усадьбы. Деревня. Старые, построенные десятки лет тому назад хаты, только хозяйственные постройки и летние кухоньки, сложенные из силикатных плит, новые.
Унте сладко потягивается, стоя на обледенелых деревянных мостках. В груди разливается приятная пивная теплынь, хочется куда-то идти, что-то делать, только не растерять бы эту негаданную радость. Эх, кабы еще бокальчик… Но не возвращаться же обратно. Вот и слоняйся из самолюбия по задворкам один до вечера. А вечером что? Та же спаленка, та же кровать, та же Салюте под боком… Правда, как водится, спросит у детишек, сделали ли уроки, пожурит их, ежели начнут шалить. Как ни крути, все-таки кое-какое развлечение. Да, ежели бы не детишки, можно было бы со скуки подохнуть. Завтрак, обед, ужин. Ночь проваляешься в постели, и снова завтракай, снова тащи корм для коровы, снова толки картошку для свиней, снова коли дрова, неси в избу воду. Стежку расчисть, ежели за ночь замело. Каждый божий день та же песня, хоть волком вой. Потом придет весна, все вокруг зазеленеет, запестреет от цветов, солнце и то взойдет в небе по-другому, вот только дни будут схожи, как горошины в стручке: с утра до вечера на тракторе (осенью на комбайне), уход за огородом, три раза на дню кормежка, и так – до самой зимы. День за днем, год за годом, до гробовой доски. За все это время в деревне отпразднуют сотни именин и дней рождения, спляшут на сотнях крестин и свадеб, зароют в землю десятки близких, с которыми без водки (раньше, если верить отцу, и пива хватало) никак не распростишься. Но и эти развлечения как бы заранее запланированы. Неведомо, какое из них когда состоится, только одно знаешь – состоится, обязательно состоится, зачерпнешь ты свое из наполненной доверху цистерны, уготованной тебе судьбой… Может, этот банщик прав, когда уверяет, что жизнь стоит ровно столько, сколько удается урвать удовольствий до смерти. Но чем тогда человек отличается от скотины?
Унте сам не свой. Добредет до шоссе и – обратно. Пнет сапогом сруб колодца, сунет нос в летнюю кухоньку. Отовсюду на него пялится скука. Даже Маргис, привязанный к дверям хлева, лает от скуки, занудливо постукивая цепью о наскучившую конуру. Пес скалит зубы, словно улыбается хозяину, виляет хвостом. Подхалим! Ты хороший пес, преданный, дай я поглажу твою умную голову.
Унте опускается перед Маргисом на корточки, зажмуривается и, чуть заметно улыбаясь, застывает в такой позе, пока пес лижет ему лицо. И вдруг ни с того ни с сего вспоминает: сын сестры Бируте – Кястутис – просил поговорить с Бутгинасами, чтобы те его в свою семейную капеллу приняли. Давеча Унте напомнил об этом Ляонасу, и тот согласился. Приведи, говорит, мальчишку – и все. Почему бы его сегодня не привести? К Бутгинасам не всякий захаживает (Руты побаиваются), поэтому пиво у него не переводится. Но он, Унте, не за пивом же… Да шут с ним, с пивом! Унте посидит, музыку послушает, а потом… Потом, ясное дело, домой. У Бутгинасов всегда приятно, уходишь от них, будто заново народился. Как же, старый друг… Настоящий!








