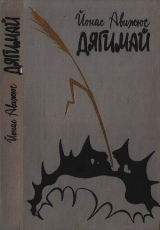
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 36 страниц)
Йонас Авижюс
ДЯГИМАЙ
Любимой жене Ирене
посвящаю

Часть первая
УНТЕ
I
– Сколько лет, сколько зим!
– Ну уж, ну уж, ни лет, ни зим, Гиринис. Мимо редко прохожу, когда бываю в деревне.
– Давненько не видались, Антанас, давненько, не оправдывайся.
– Из-за зимы задержка вышла. Снегу как в добрые старые времена навалило, без грейдера не выберешься. А тут еще хворь, будь она неладна, прицепилась. Семьдесят годочков – дело нешуточное, Йонас.
– Салюте, детка, помоги человеку раздеться, – бросает невестке Гиринис, радуясь от всей души гостю. – Сымай шубу, Григас, – и за стол: у меня кое-что в заначке есть.
– Сбегаю в чулан, нацежу, – говорит Салюте, обхаживая Григаса.
– Ладно, ладно, невестушка, сбегай. А ты, Антанас, садись, гостем будешь, – Йонас Гиринис хватает Григаса за руку, подталкивает к столу – садись, мол, на самое почетное место в доме. – Так ты говоришь, снегу навалило? Ну, ну… Хоть раз за десять лет зима как зима. А бывало, как развезет в октябре, так до середины зимы по уши и вязнешь. Ни стужи настоящей, ни снега. Спутники там всякие, корабли космические испортили наш климат.
– Ничего, все образуется, – не теряет надежды Антанас Григас. – Писали же в газетах, что и в старину бывали зимы без снега, а ведь тогда люди в космос не летали – в телегах тряслись…
– Писали, это верно… А как на самом деле было?
– Так оно и было. Ты что, ученым не веришь? – Антанас Григас усмехнулся в свои пышные усы и думает: принюхаться не успели, а уже друг друга по обыкновению за грудки берем.
– Без ученых сейчас и шагу не шагнешь, Антанас. Как же им не верить? Только вот беда – наука их не всегда на пользу.
– Как так не всегда? Разве раньше люди так легко работали, сытно ели и красиво одевались? Да ни за что, Йонас, не сравнишь! А почему, спрашивается? А потому, что человеку машины служат. Как ни говори, а нынче без науки мир – ни туда ни сюда…
– Тебе, Антанас, только бы кусок послаще и одежда покрасивей. Как подумаешь, ты и Стропус – два сапога пара. Что из того, что машины твои человеку служат, ежели они ему, человеку твоему, яму роют? Фабрика на фабрике, да еще новые все строят и строят. На земле и на небе машин всяких видимо-невидимо, смотреть страшно. Уж теперь дышать нечем, а что будет дальше?
Йонас Гиринис замолкает, глушит свои опасения, поворачивается к окну, прячась от взгляда Григаса, – от него поддержки не жди. Отсюда как на ладони вся деревня видна: стайка берез качается на ветру у пруда; возле скособочившейся баньки двустволый ясень с кустом ракиты соседствует, а дальше, насколько хватает глаз, простираются белые равнины, усыпанные серыми коробками изб. А ведь совсем недавно всю деревню опоясывали густо разросшиеся столетние тополя, к которым льнули сараи и риги. Шло время, селяне пустили на растопку хиреющие постройки, уцелели только глинобитные столбы и каменные основания. Но и их вместе со старыми тополями смели мелиораторы, отвоевав для колхоза большой лоскут урожайной земли.
– Никак ветер поднимается, темно-то как стало. К вечеру, глядишь, и завьюжит, – говорит Антанас Григас, тоже косясь в окно. – Зря Стропус эти деревья срубил… Они деревню от вьюг укрывали. И вообще глаз радовали. Наша Дягимай зеленела издали, как грядка с рутой.
Вошла Салюте с ведерком пива.
– Разве ему, Стропусу, дорога Дягимай? Он не тут родился, не тут рос. Приехал – уехал. Ему все одно, где землю гадить. Жмот!
– Ты о нем что угодно говори, а колхоз-то наш он поднял. – Антанас Григас прищуривается, смотрит, как Салюте наливает в кувшин желтое пенящееся пиво, источающее кисло-сладкий запах. – А ведь и здесь было такое же болото, как в нашей Лиепгиряй, пока Толейкис председателем не пришел. Как сейчас помню, вызвал меня в райком Юренас – а Вешвиле тогда только что объединилось с Епушотасом – и без обиняков сказал: председателем пойдешь в Дягимай. У меня волосы дыбом. Ну, думаю, Григас, пропал ты, как пить дать пропал. С Толейкисом, думаю, как парторг, ты воз хорошо тянул, а вот теперь, когда один будешь, хвост, пожалуй, так к проруби примерзнет, что и не отдерешь. Пока не поздно, перекрестись и откажись! Шутки шутками, но я и впрямь чуть не перекрестился. Под носом у самого Юренаса.
– Юренас человеком был.
– Потому его и на повышение…
– Кто там разберет, за что повышают, за что понижают. – Гиринис дрожащей рукой наливает бокалы, торжественно поднимает свой. – Выпьем, Антанас, за наше стариковское здоровье.
– Так вот, перебрался я в эту вашу Дягимай… – снова погружается в воспоминания Григас, смахнув ладонью с усов белую пленку пены. – Ужас! Воровство, пьянство, лодырь на лодыре… В колхозной казне – шаром покати. Голова кругом идет. За что взяться, с чего начать? Прокорпел эдак год, другой, а все как было, так и есть, с места не сдвинулось. Может, только на трудодень чуток прибавили. Думал, думал и решил: начну-ка я с культуры. Привлеку людей поближе к книге, к театру, к самодеятельности. Так и только так долбану по пьянству. И начали мы, значит, Дом культуры строить. А через год, пока я, значит, уговаривал своего сына Тадаса перебраться в Дягимай, к нам агронома нового назначили – Стропуса Андрюса.
– Давай еще по глоточку, Антанас.
– Да у меня уже и щеки горят.
– Для того оно и сделано.
– С первого дня смекнул: трудно мне с новым агрономом будет. Оба мы вроде бы к одному шли, только дороги у нас разные были. Что ни придумаю, он сразу: не годится, ерунда! Как говорится, сразу видно – в председатели метит. А мне что – пусть себе метит! Мужик способный, энергии не занимать, работа у него спорится, а я, честно признаться, не оправдал доверия секретаря райкома. Черкнул я заявление и – в отставку. А Стропус, к счастью всего колхоза, – в мое кресло.
– Не вижу в этом большого счастья, – говорит Йонас Гиринис и вертит початый бокал; нервно вздрагивают небольшие, ладно закрученные усы. – Колхоз он, правда, вывел на первое место в районе. Все мы, слава богу, сыты, одеты, в сберкассах денег – куры не клюют. Воры перевелись, лодыри: какой же прок красть и лодырничать? Ты спросишь, с пьянством как? С пьянством, которое ты хотел Домом культуры одолеть? Думаешь, сегодня люди меньше заливают, глотки у них сузились? Нет, Антанас, когда ты председательствовал, ты мне душевно ближе был, чем этот хваленый Стропус. Эх, давай лучше еще по глоточку. Не мы с тобой председателей назначаем, не мы с тобой их взашей гоним.
Антанас Григас подносит к губам бокал и ставит на стол, не отпив даже половины.
– Крепкое! Мастак ты, Йонас, умеешь варить.
– Чистое, ячменное. Солода вдвое больше уходит, но сахара ни крупинки не кладу. Так что не бойся, не отравишься, мое пиво – не яд какой, а само здоровье и веселье. Мне и самому приятно после сытной еды отведать и гостя любезного попотчевать, – простодушно хвастается Гиринис, не скрывая своей гордости.
Григас, согретый легким хмелем, одобрительно кивает. Как хорошо, как приятно под этой кровлей! Кажется, здесь ты родился и вырос, здесь, в этой старой избе, где каждый почернелый сруб дышит воспоминаниями о твоем безвозвратном детстве. Только зажмурься и услышишь, как за печкой сверчок стрекочет, а в распахнутые двери кухни с фонарем в руке входит мать в длинной домотканой сорочке. Зажмурься и обдаст тебя вдруг запахом вареной капусты, картофельного пойла для свиней, а из сеней вместе с клубами пара ввалится отец с ведрами ледяной воды…
– Тепло у тебя, Йонас, – говорит Григас и пытается скрыть свое смятение.
– Старые мастера знали толк. Помню, я еще ребенком был, когда эту избу ставили, а вот надо же, стоит по сей день, и попробуй хоть щелочку в стенах найди. Стоит как новая – и еще сто лет простоит.
– Сруб что надо, и мха не пожалели. В Лиепгиряй и у меня изба была. Ее еще отец мой срубил. Только разве с твоей сравнишь! Твоя, что хоромы с крыльцом, о двух концах, а моя – карман, продуваемый ветрами. Когда назначили меня в Дягимай, думал: и ее перевезу. Но пока снимал с основы, половина рассыпалась. Хорошо тебе – сидишь на одном месте и не двигаешься.
– А я и в случае надобности не сдвинусь. Как же так – дом свой оставить, вотчину, где ты с каждой пядью земли сросся? Да ни за какие коврижки! Пусть в гробу увозят.
Антанас Григас щупает плешь: это значит, что не согласен он со словами Гириниса. Но вслух ничего не говорит, старается отвлечь хозяина. Так или иначе, он, Йонас Гиринис, может считать себя счастливым. Уж только потому, что таких детей вырастил. Не каждый отец может с гордостью сказать: «Доброе имя моего рода, его честь в надежных руках». А он, Йонас Гиринис, может. Правда, Юстина еще девка, видно, опоздала она с замужеством, как-никак ей все-таки за сорок, но зато какая работница! И дома, и на ферме. Даже орден дали. Ей и Герой Труда светит, она доярка не хуже Руты Бутгинене. А другая дочь – Бируте Стиртене? Ее и люди, и власти уважают. Кабы не дети, а их у нее, слава богу, целая куча, никакая свинарка ее не обогнала бы. А сыновья? Выросли три сына, три исполина, прославили род Гириниса не только на родине, в Дягимай, но и в городах: в Вильнюсе, Епушотасе… Механизатор, ученый, секретарь райкома… Право слово, Гиринис, другой на твоем месте от радости прыгал бы, а ты пожимаешь плечами, качаешь головой, вечно чем-то недоволен.
– Да нынче ученых и секретарей райкомов хоть пруд пруди. А они, по-твоему, кто? Дети таких же родителей, как я, – подытоживает вслух Гиринис. – Вырастить хороших детей – долг хорошего отца. А долг остается долгом, и нечего, исполнив его, прыгать до потолка от радости. Ведь и твой сын достоин тебя.
– Как же, как же. Мой агроном, я, как говорится, горжусь! – оживляется Григас и от волнения подносит к губам бокал пива.
– И я своих детей не стыжусь. Только порой диву даюсь, это правда. Взять Повиласа, самого старшего. Ученый, о звездах пишет. И о нем пишут. В газетах, может, видал его фотографию? Просто не верится, что это мой сын. Уж слишком он умный, уж слишком для нас, для Гиринисов, знаменит… И скажи, откуда он такой? Ведь и я, и моя жена, царство ей небесное, его мать, простые люди, ничего в науках не кумекали. Или другой сын, Даниелюс? На весь район главный, сколько у него людей в подчинении, не счесть. К тому же всяких специальностей, кто ученый, кто неученый. Просто уму непостижимо, как только справляется! Ведь он и в Москву ездит, с высшими властями там на сессиях заседает, государственные дела решает. Хоть убей, не пойму, как же они, дети наши, своих отцов обогнали. Унте, тот от меня недалеко ушел, как говорится, яблоко от яблони… Только ума у меня, почитай, больше, чем у него, было. Я знал, когда грустить, когда радоваться, не стоял как баран перед новыми воротами, мол, мочи нет, отпирайте. Семь раз отмеривал, а уж только потом отрезал. А Унте – истый вертопрах! Порой до того распустится – хоть на лавку укладывай и секи. Но ведь это мое дитя, не чужое. В малолетстве ему не раз от меня за проделки влетало. Березовой каши отведали и ученый, и секретарь райкома, но Унте доставалось чаще, хотя душа у меня за него и больше болела. И нынче, когда с ним что-нибудь случается, больше, чем других, его жалею. И с Бируте я тоже не такой строгий – не повезло ей: вышла за этого пьяницу Стирту, пошли дети… Не жалуется, но по всему видно – не сладко ей. А Юстина не пропадет – умеет жить, в жилах у нее кровь моей жены, царство ей небесное. И у Даниелюса, и у Повиласа той кровушки хватает. Смело прут, но и под ноги глядят – как бы не оступиться… Говорят, для родителей все дети равны. Может, оно и так, но я душой прикипаю к тому, кто, как говорится, чаще других в соплях ходит. Ну и к тому, конечно, кто в душу меньше наплевал. Я говорю не о каких-нибудь пустяках, я – о серьезной обиде. Не спорю, можно и должно ребенка простить, на то ты и отец, но обидчика – никогда!
– Наши дети не причинили нам такой обиды, – вмешивается Антанас Григас, гордый собой и Гиринисом, щеки которого слегка порозовели от пива, а язык развязался.
– Причинили, Антанас, ей-богу, причинили, – возражает хозяин, косясь потемневшим зрачком на половицы. – Твой Тадас, может, и не причинил, а мой Даниелюс…
– Даниелюс?! – Григас откидывается на спинку стула, словно кто-то невидимый потянул его за воротник. Зашатался стол, зазвенели, стукаясь друг о друга, бокалы.
– Кто прошлое помянет – тому глаз вон. Но все равно застряло в сердце, как заноза, и ноет… – Йонас Гиринис с минуту сидит в задумчивости, покусывая ус, словно жалеет о своей откровенности. Не раз откровенность выходила ему боком. – Эх, да стоит ли сейчас старье ворошить? Может, в другой раз. Своему родному брату Теофилюсу и тому, хоть и полагалось, ничего не говорил. А ведь его самого Даниелюс… – Старик раздраженно машет рукой, шарит в карманах, находит сигарету, делит ее бритвочкой на три равные части, вставляет одну часть в длинный, сделанный из крушины мундштук. – Не могу от дымка отказаться. Шутка ли, такого курильщика, как я, во всей округе не было. Лучше всего, конечно, бросить. Да много ли от того в конце жизни выгадаешь? Вот и обманываю себя.
– Одно время и я к этой дряни пристрастился, но вовремя опомнился, вот уже, почитай, сколько годков – ни одной затяжки.
Йонас Гиринис хвалит твердость Григаса и предлагает выпить за нее еще пивка.
Оба выпивают. Хоть Антанас Григас человек нелюбопытный, намек Йонаса Гириниса на Даниелюса не выходит у него из головы.
– Зря он тогда со своей женитьбой поспешил, – осторожно начинает гость, желая вылущить неподатливый орешек.
– Кто? – озадаченно спрашивает Гиринис.
– Даниелюс, кто же еще. Да ты же сам мне рассказывал, как он в Москву ездил, на курсы, а оттуда с женой вернулся с ребеночком на руках.
– Не выдумывай, никакого ребеночка не было. Говорила только, будто ждет. Но и не ждала вовсе: соврала, хотела моего растяпу скорее заарканить, – возмущается Гиринис, словно заново переживая козни своей бывшей невестки. – Первый ребенок года через три-четыре родился. Не родись он, глядишь, они бы раньше развелись. Но женщина – хитрое создание.
– Я знал ее. Познакомился, когда на лето приезжала. Вроде бы ничего себе.
– Да и я о ней дурного слова не скажу. Думаешь, большое счастье мужчине на шею вешаться, а прожив вместе столько лет, в одно прекрасное утро разойтись? Невелика радость, Антанас. Жалко их обоих: и ее, Ефимью, и Даниелюса. Но уж, видать, так бог судил.
– Ничего, старые раны заживают, Йонас. Вот только развод – дело горькое и противное. Но я всегда и всем говорил и буду говорить до гроба: чем жить друг с другом в ненависти, в сто раз лучше разойтись.
– И без твоего совета каждый второй так и поступает.
– Что поделаешь, если человек не сразу свое счастье находит, – обрывает его Григас и снова пытается построить разговор так, чтобы Гиринис открыл ему свою тайну.
– Счастье?.. Эх, Григас, коли уж с одной серьезно жизнь начал, то и держись за нее, не поглядывай по сторонам, – не сдается Гиринис, не обращая внимания на хитрости гостя. – Жену выбрать – не кобылу купить. Здесь, брат, со всех сторон осмотрись, чтобы потом людей не смешить и самому не плакать.
– Твоего Даниелюса люди уважают…
– И я его не хулю.
– Хулить-то не хулишь, но и строг уж слишком.
Йонас Гиринис нетерпеливо машет рукой, словно призывает Григаса к порядку: заткнись, мол, друг любезный, отцу лучше знать, чего стоит его чадо, и вдруг вспоминает, что в прошлом году в Дягимай умерли четверо их знакомых. Антанас Григас просто ошеломлен таким поворотом разговора и в свою очередь перечисляет столько же свадеб, причем две совпали с крестинами. Кроме того, у тех родились сыновья, а этим бог послал дочерей, так что урон, причиненный смертью, с лихвой покрыт. Возможно, и покрыт, соглашается Гиринис, ежели не считать тех, кого прошлой осенью призвали в армию (половина из них в деревню не вернется), и тех, кого забирают по весне! А эти, что к детям в город перебираются?.. Остаются пустые усадьбы – каждая как холодная яма на месте вырванного с корнем зеленого дерева. А теперь, когда под боком, в Гедвайняй, фабрику соорудят, то и сюда город придет. Нет, нет, Григас, на селе только машин становится больше, а не людей.
– Ну какой, скажи, в стариках прок, – сетует Антанас Григас. – Ежели кому наше кладбище не по душе, пусть едет и умирает на городских камнях. Только тех жалко, в ком силушка играет, а они-то на фабричные трубы и заглядываются.
– Умному заглядываться нечего, Антанас. Ты небось Юозаса Гайлюса из Дягимай знаешь?
– Знаю.
– Так вот, старшая дочь с зятем уже пятый год их к себе заманивают: продайте, батя, усадьбу и перебирайтесь с мамой к нам в город. Но Гайлюс – ни за какие коврижки. И правильно делает. В деревне он сам себе хозяин, а в городе кто – захребетник-горемыка.
– Конечно, Йонас, конечно. Последнему дураку ясно: лучше принимать детей у себя, потчевать их, как гостей, чем жить у них нахлебниками. А уж о Гайлюсе и говорить нечего – хитер, как бес.
– Да, Гайлюс стреляный воробей, на мякине его не проведешь, – соглашается Йонас Гиринис. – Все у него под каблуком. Держит их в ежовых рукавицах, как крепостных. Он на все готов, только бы урвать побольше. Ему уж давно шесть десятков стукнуло, а он хватает, грабастает где может, смотреть противно, в могилу, что ли, унесет?
– Ну что такому в городе делать? – поддакивает Григас. – Здесь он начальник. Над женой, над детьми. Командует, указывает, мошну набивает. А там дочь командовать будет. Люди говорят: вся в отца…
– Ясное дело, будет, – не сомневается Йонас Гиринис. – До замужества вдоволь от него натерпелась. Что правда, то правда: в ученье отдал, но когда приезжала на каникулы, роздыху ей не давал – с утра до вечера то на помидоры, то на огурцы гонял…
– Когда-нибудь дети отплатят ему.
– Кто знает, а может, будут такими же сквалыгами, как и он.
– Может, и будут, но только добра от них не жди. Младшенький уже теперь над ним исподтишка посмеивается. А Альбертас не раз говаривал: плюну я на эти папашины плантации и подамся в город. И подался бы, кабы на папашины тысчонки не зарился: уедет из дому и не видать ему денежек как своих ушей. Вот он и честит старика, и терпит.
– Не приведи господь дожить до того дня, когда родные дети врагами становятся, – ужасается Гиринис. – Отец Юозаса вроде бы таким шкуродером не был. Неужто Сибирь так людей портит?
– Сибирь здесь ни при чем. Каким мироедом был, таким и остался. Если ты с малолетства не испорчен, то сам черт тебя в свои силки не заманит.
Йонас Гиринис согласно кивает головой, наливает бокалы: что же, еще по глоточку, чтоб на сердце потеплело и в глазах посветлело…
II
Ишь ты, разошлись стариканы, усмехается Унте, лежа в светелке, отделенной от кухни неплотной дощатой стеной; через нее, как через сито, из избы звуки сыплются. А как манит звон бокалов за столом… Кажись, ничего острого за завтраком не ел, жажда вроде не мучит, но только подумает о пиве, слюна так и брызжет. Ох, если бы ему чарочку поднесли!.. Но за первой чарочкой вторая последует, потом третья и четвертая, а потом вся бутылка, а уж коли бутылку опорожнишь, то не остановишься, пока не обалдеешь. Проклятье! Не знает меры – и все тут. Вчера, правда, взял себя в руки, как и подобает мужчине. Да! Главное – не зацепиться. Первая капля словно искра в бочке бензина. Вспыхнула – и взрыв. Вчера искру не высек, хоть и был повод, потому и голова не трещит и совесть чиста. И от стыда не надо краснеть, чувствуешь себя невинным, как новорожденный ребенок. Да, да! Коли не умеешь веселиться по-людски, пей воду вместе с лошадьми.
Унте переворачивается на спину, и широкая улыбка скользит по худому и бледному лицу, оттеняя крупный нос с горбинкой и мохнатые черные брови, слегка изогнутую линию тонких губ и тяжелый, крупный подбородок. Эх, пусть они, старички, веселятся, ему, Унте, хорошо и одному. Хорошо без полупьяных разговорчиков, без дурмана… А потом, разве он один? Эта комнатка – целый мир, куда он вступил вместе с детством и где по сей день частенько чувствует себя ребенком. Когда-то здесь и его старшие братья жили: Даниелюс и Повилас. Но они один за другим уехали в город учиться. И только в каникулы в светелке звенели их голоса. Ни Даниелюсу, ни Повиласу теперь эта комнатка не нужна, в ней хозяйничает Унте, которому и в голову не приходит, что кто-то другой, кроме него, может занять этот угол. Зимой здесь бывало холодно, потому что сквозь дощатую загородку из кухни едва проникало скупое тепло. Ах, как любил он, бывало, понежиться под теплой горой одеял и подушек, потом наконец вскакивал с кровати и сломя голову бросался в избу, схватив в охапку свою одежку! Бывало, спрячет под одеялом влажный, закоченевший нос и слушает, как из кухни доносятся шум и шорохи утренней стряпни, как к ним примешивается говор домочадцев, слушает и смотрит, как занимается день, как заливает он своим веселым светом комнатку, некрашеный потолок, испещренный живым рисунком древесины.
И чего только не отыскивало буйное воображение Унте в затейливом переплетении годовых колец, в росписи несметного множества веток! Он таращил свои голубые глазки, и перед ним мелькали причудливые видения, всякий раз другие. Всякий раз он слышал новую, дотоле не слыханную сказку о девятиглавых драконах и других чудищах. Непроходимые, дремучие леса кишмя кишели хищниками, птицами, страшилищами; сверкали необъятные озера, в которые с чудовищным грохотом впадали огромные реки, не обозначенные ни на одной карте мира. В свете керосиновой лампы этот дивный мир казался еще загадочнее и страшнее. Унте дрожал от страха и, чтобы умерить его, скликал на помощь героев прочитанных книг, своих знакомых и близких, которых храбро защищал от опасностей в этих непроходимых, дремучих лесах или отдавал на растерзание какому-нибудь хищному зверю. А потом спокойно засыпал, уверенный в том, что все эти чудища ему послушны.
Только много лет спустя все эти сказки и видения обернулись простым, почерневшим от времени деревом. Но и нынче оно, согретое воспоминаниями детства, нет-нет да и оживает. И сейчас вот эта большая ветка над головой, на самом конце доски, во что только не превращается: и в царевича-дурачка, и в грозного льва, и в парящего над вершинами орла, и еще бог весть во что…
Брат Даниелюс?! Его рабочий кабинет в райкоме… Письменный стол, стул, два кресла возле маленького столика у самых дверей… Слишком просторно и аккуратно, но не очень уютно. «Занесла же меня сюда нелегкая, мог ведь дождаться, когда братец с Юргитой в деревню пожалует…»
Но с Унте часто так бывает: знает, что потом пожалеет, а все равно по-своему делает, словно бес его толкает.
Даниелюс расхаживает по кабинету, засунув руки в карманы брюк. Не очень-то он похож на Унте: высокий лоб, серые спокойные глаза, прямой крупный нос, массивный подбородок, розовые мочки ушей, торчащие из-под седых волос, прикрывающих сильную шею и придающих его лицу выражение осознанного достоинства. Роста Даниелюс среднего, но ниже обоих братьев, хотя Унте всегда казалось, что Даниелюс – высокий мужчина.
Господи, до чего же неприятно ерзать в кресле возле вычурного столика, пока хозяин расхаживает из угла в угол… Унте встает, но властный жест брата усаживает его на прежнее место.
Так было и прошлой осенью, в конце страды, когда Унте привез проект Дома культуры: Даниелюс так же расхаживал по кабинету, уча младшего брата уму-разуму, а младший брат так же сидел в мягком, обитом искусственной кожей кресле. Нет, он не отрицает, у архитектора Петренаса богатое воображение. Проект хорош, по нему и впрямь можно отгрохать великолепное здание, оригинальное, вписывающееся в окружающую среду. Важно и то, что в нем использованы традиции народной архитектуры. Хотя если копнуть поглубже… Нет, нет, не все то золото, что блестит. Взять, скажем, библиотеку-читальню. Какой простор, какая роскошь, да и интерьер замысловат. То же самое можно сказать и о фронтоне: стародеревенские окна, всякие там барельефы, резьба, башенки… Короче говоря, два с половиной этажа какого-то винегрета. Кирпич вперемешку с камнем, дерево – с железом, стекло, пластмасса… Есть о чем подумать, есть. А вообще проект стоящий, и он, Даниелюс, за то, чтобы правление колхоза серьезно его обсудило.
Унте терпеливо объяснил Даниелюсу: перед тобой копия, а оригинал вот уже третий месяц Андрюс Стропус мусолит.
Даниелюс успокоил брата, пообещал поговорить со Стропусом.
И впрямь поговорил: созвали правление колхоза, обсудили проект и решили представить его на рассмотрение специалистам.
– Вот, видишь, – сказал Даниелюс, – дело сдвинулось с мертвой точки. Если проект не завалят – а я в этом нисколько не сомневаюсь, – через год-полтора с божьей помощью и начнете.
– Навряд ли… – замотал головой Унте. – Пустили на правлении пыль в глаза, а проект снова под сукно… Не по душе Дом культуры Стропусу.
Даниелюс не согласился с братом, отмахнулся от него. Нетерпимость Унте его раздражала, лезет не в свое дело. «Человеку четвертый десяток пошел, а он все еще, как ребенок, воздушные замки строит» – можно было прочесть в добродушном взгляде Даниелюса. Вообще же донкихотство и беспокойный нрав брата ему нравились.
– Слушаю тебя, Унте, и вспоминаю рассказы старожилов о нашем деде Доминикасе, – сказал Даниелюс, примостившись на подлокотнике кресла. – Добрейшей души человек, трудяга, но горячая голова, его все чудаком считали. Дед Доминикас сани мастерил, возки, ульи, коньками кровли украшал. Бывало, вырежет из дерева какого-нибудь святого, люди просто диву даются: деревянный, а как живой. В Епушотасском костеле по сей день его распятие висит. А в нашей усадьбе, при дороге, дубовый крест стоит с изображениями спасителя, вырезанными по какому-то торжественному случаю. Золотые у него были руки. Но и нрава он был беспокойного. Отец о нем не все рассказывал – стеснялся, разве расскажешь внукам о всех проделках деда. Но от людей правду не скроешь. Весной, говорят, в самую страду, уходил на целый месяц из дому, взвалив все работы на плечи жены. Никто и знать не знал и ведать не ведал, где его черти носят и что он там делает. А уж возвращался вконец измочаленный, на человека непохожий – только глаза горят да борода чернеет. Слухи потом всякие доходили, от них у домочадцев уши вяли. Притворился якобы дед погорельцем и давай гулять, кутить со всякими проходимцами, и без женщин, ясное дело, не обходилось… Что и говорить, наслушалась о нем наша бедная бабка уйму всякого, но любила она своего сорвиголову так крепко, что стоило ему порог переступить, как она от радости слезами обливалась. И как тут не заплачешь, если дед Доминикас от калитки до крыльца на коленях к бабке ползет, руки-ноги ей целует, себя последними словами поносит. А потом, бывало, отправится в баню и назавтра, чистенький, разнаряженный, появляется в исповедальне Епушотасского костела. Через весь храм от входа до божьего престола – тоже на коленях, и слезы, настоящие слезы катятся у него по щекам, даже самые заядлые богомольцы диву даются. Ты, Унте, чем-то чертовски похож на нашего деда.
– Чем же? Может, скажешь, божков вырезаю и в костел хожу? – удивился разочарованный Унте. – За юбками вроде бы не бегаю, бабником не слыву. А ежели порой черт бутылку в руки сунет, так разве я один такой?
– Да я совсем не о том. Я про твой характер. Уж слишком он у тебя заковыристый, необузданный. Все в тебе, как в котле, кипит, а разум не всегда за чувством поспевает.
– А я и не выхваляюсь разумом, – ответил уязвленный Унте. – Будь у меня побольше мозгов, глядишь, как ты, какой-нибудь вуз закончил бы. А тут даже сельхозтехникума не одолел.
– Одолел бы, но воли у тебя маловато. И собственного достоинства, и крепости душевной. Протирал в сельхозтехникуме полтора года штаны, а потом стрекача дал, а ведь это государству в копеечку влетело. Серьезные, исполнительные люди что делают – институты кончают, в аспирантуру идут, диссертации пишут и не считают себя умнее всех на свете. А ты только подтруниваешь над такими. Слишком ты о себе хорошего мнения, и чванства у тебя хоть отбавляй.
Пока Даниелюс говорил, Унте вертелся в кресле, обхватив руками тяжелую, заросшую черными густыми космами голову, а на продолговатом, тщательно выбритом лице застыло какое-то нелепое, ни о чем не говорящее выражение. Только в голубых глазах сквозила насмешливая улыбка, словно они принадлежали не Унте, а совсем другому человеку. «Жгутас-Жентулис даже по сравнению со мной был безграмотным, а вы ему памятник… Случись со мной то, что с ним стряслось, разве я не защищался бы из последних сил? Неужто достойной смертью можно подлость искупить?»
– Не хочется мне тебя обижать, брат, – ласково, как бы сожалея о сказанном, продолжал Даниелюс. – Знаю, ты любишь на досуге книжки читать, стараешься подтянуться. Это похвально. Никто не должен ограничивать себя интересами своей семьи и своей специальности. Полноценный человек – это и активный общественник, и отличный работник. Но есть проблемы, которые не каждому по плечу. Я хочу сказать, – уточнил свою мысль Даниелюс, поймав вопросительный взгляд Унте, – что дело, которое привело тебя сюда, не такое уж простое, как это тебе кажется.
– Таким оно кажется каждому в Дягимай. И не только в Дягимай. Кто знавал Жгутаса-Жентулиса или слышал о нем, все диву даются – кому, мол, памятник надумали…
– Ого, все, видите ли!
– Да, все. Если на такой памятник деньги собирали бы, то никто, уверяю тебя, никто и копейки бы из кармана не выгреб.
– Ладно, проверю.
– Ничего у тебя не выйдет. Кто отважится поднять голос против того, кто уже объявлен святым?
– Жгутас-Жентулис – не святой, он такой же смертный, как и мы с тобой. Были у него свои изъяны и слабости… А если он порой и зарывался, так кто же, скажи, не грешен? Иные канули в Лету, не сделав ничего доброго, не отплатив за обиды, а Жгутас-Жентулис сложил голову за светлое будущее, за нас. Не спорю, есть в его жизни и темные пятна, но есть, как говорится, и белая сторона. Почему же мы должны учитывать только пятна?
– Человек должен быть чист со всех сторон, Даниелюс! – воскликнул Унте, все более распаляясь. – Кто был всю жизнь мелюзгой, того никакая смерть не возвеличит. Никакой подвиг! Прожить всю жизнь по-людски куда трудней, чем денек блеснуть.
– Возможно. Эти слова и тебе подходят, Унте, – отрезал Даниелюс и встал.
– Меня никто не возносит, брат, – обиженный Унте снова заерзал в кресле. – И вообще нашел что сравнивать. Я грабил, что ли, избивал, убивал невинных?
– А не слишком ли сурово судишь, мой милый? В народе давно и справедливо говорят: тот, кто сам в тени, норовит бросить тень на другого. Что ты знаешь о Жгутасе-Жентулисе, если тогда еще под стол пешком ходил?








