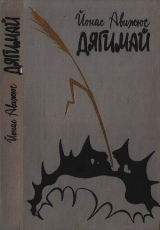
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 36 страниц)
Малдейкис что-то говорит. А, хвалит ее (вы прекрасно танцуете), под руку ведет к столу, приглашает на следующий танец.
Она кивает, но мысли ее сейчас далеко. Оставив канувший в небытие островок прошлого, они, эти мысли, перескакивают на другое. Юргита в Вильнюсе, идет по знакомым улицам, озирается, ищет знакомое лицо. Нашла. Пустилась следом. Представляет себе, как Даниелюс отворяет тяжелую гостиничную дверь, поднимается вверх по лестнице, неспешно и рассеянно ищет в кармане ключ. Даже представляет себе, как выглядит его номер. Но нет, сейчас Даниелюс, наверное, не в гостинице, а у Фиминого брата. Со своими детьми. Может, и сама Фима там… И от этой догадки съеживается. Господи, боже мой, каким чужим в эту минуту кажется ей Даниелюс! Со своей бывшей женой, со своими детьми, со всей своей прожитой жизнью… Юргита пытается отделаться от этого наваждения, наплывающего на нее, словно океанский корабль с призраками на борту и исчезающий в тумане, чтобы спустя какое-то время снова напомнить о себе и просквозить душу страхом.
Один танец, другой, третий… Юргита вдруг приходит в себя и чувствует странную усталость, но бесенок в сердце еще не унялся.
– Уже домой? – почти с радостью спрашивает Малдейкис.
– Да, пора. Водитель Юркшайтиса давно, должно быть, ждет.
– Нет уж, доставьте это удовольствие мне, – смиренно просит Малдейкис, улыбается и, не дожидаясь ее согласия, объявляет всему застолью, что ему и товарищ Гиринене, к сожалению, пора домой.
Донатас Юркшайтис как безумный начинает стучать ножом о тарелку, пытаясь утихомирить развеселившихся гостей.
– Внимание! Внимание! Товарищ секретарь просит слова!
Совсем спятил, спокойно уйти людям не дает…
Аполинарас Малдейкис незлобиво грозит Юркшайтису указательным пальцем. Но Юркшайтиса попробуй удержи, бросился к другому концу стола, налил секретарю полную рюмку.
– Могли бы еще посидеть, товарищ Аполинарас…
– Пора, пора. И товарищ Гиринене спешит домой… – Малдейкис поднимает рюмку и как бы крестит ею все застолье. За славных красавиц хозяек, приготовивших такое чудное угощение! За хозяев и дорогих гостей, с которыми было так приятно! За простых тружеников села, за их золотые руки и соленый пот, которым полита каждая пядь земли, на которой растет обильный урожай для строителей коммунизма!
– Ура! – пробились чьи-то голоса сквозь нестройные хлопки.
IV
Поначалу ему пришла в голову мысль остановиться у брата Повиласа. Но, подумав, что такое неожиданное появление обременит их обоих, устроился в гостинице. Лучше зайти просто так, без всякого повода, как и подобает родне, не досаждающей своими частыми приездами. Потом он навестит родителей Юргиты и конечно же завернет к Фиминым родственникам, чтобы побыть часок-другой с детьми. А пока можно побродить по городу и подумать о завтрашнем неприятном визите. Конечно, голову с плеч не снимут, но, судя по вчерашнему разговору по телефону, чувствуется, что и по шерстке не погладят. И не без причины. Можно было, конечно, посоветоваться с кем-нибудь из вышестоящих товарищей, позондировать почву… Но Даниелюс усомнился, поддержат ли его, и потому всю ответственность взял на себя. В конце концов, почему бы не взять, ведь не какую-нибудь авантюру затеял, а серьезное организационное мероприятие, осуществление которого совершит переворот в экономике района. Ну не шут ли он? Как будто без него никто никогда не задумывался над тем, как надо решать задачи государственной важности! Поднимут на смех, ясное дело. И тот, кто вызвал его для завтрашней беседы, будет тысячу раз прав, сказав: «Тебе доверили район, и ты должен смотреть на него прежде всего как на производственный полигон, а не как на лабораторию для проведения экспериментов». Да, да, виноват. Но разве я сам этого не понимаю? Надо помаленьку, потихоньку, негоже сразу брать быка за рога…
В первые месяцы так и было: алкогольные напитки в районе продавали только четыре дня в неделю, причем не только в магазинах, но и в ресторанах. Но одно на первый взгляд пустячное событие заставило Даниелюса прибегнуть к крайности. И это было следствием не сухих умозаключений, а всплеска чувств. Принимая решение, он чувствовал, что потерпит поражение, хотя четко не представлял себе все его последствия. Случилось примерно то же самое, что и с первым браком: знал, что совершает поступок, о котором вскоре пожалеет, однако в тот момент поступить иначе не мог. Он всячески осуждал Унте, но, увы, хорошенько разобравшись в себе, увидел, что и он, Даниелюс, недалеко ушел от брата: в критических ситуациях теряет самообладание, слишком поддается чувству, а эти качества характера не очень подходят людям его профессии, тем, кто призван управлять и кто нередко вступает в компромисс со своей совестью. Разве, скажем, Аполинарас Малдейкис впутался бы в такую историю? Или какой-нибудь другой поднаторевший секретарь? Да ни за что на свете! Какого дьявола! Когда примут соответствующее постановление, тогда, мол, и посмотрим. А над Унте, будь он их братом, они бы только снисходительно посмеялись, вместо того чтобы пороть горячку и делать далеко идущие выводы. Идет себе человек по колхозной улице, взвалив на плечи овцу, ну и пусть себе идет. А ты езжай мимо, закрыв глаза, и вся недолга.
Скорее всего, и он поступил бы так, если бы в тот день не наведался в Гедвайняй к строителям: это там раздался подземный толчок, всколыхнувший всю гору, а Унте только пальцем тронул камень, и покатилось все. Ходил Даниелюс вместе с управляющим трестом, одновременно исполняющим обязанности начальника строительства, по территории, заваленной стройматериалами и техникой и напоминавшей разоренный сильным землетрясением город, ходили и ломали головы, что же дальше делать: только что пришло строжайшее указание – сдать фабрику в эксплуатацию досрочно. С тем, что строительные работы были заморожены на целый год, никто не хотел считаться. Даниелюс пытался оттянуть сдачу, напирал на потерянное время, на нехватку рабочей силы и стройматериалов. Однако ему пришлось отступить, потому что поставщики в последние месяцы свои обязательства выполняли идеально. Чуть хуже обстояло дело с кадрами строителей, но ответработник из Вильнюса обещал помочь: мол, подбросим дополнительную рабочую силу, хотя вполне справились бы и с имеющимся числом рабочих, не хромай на строительстве производительность труда. Укор был справедливым, и Даниелюсу крыть было нечем. Единственное, что он мог сделать, чтобы снять с себя часть ответственности, это обрушиться на управляющего трестом, которого сам же выдвинул в руководители стройки: потребовать от него повышения дисциплины, усиления контроля, принятия более эффективных мер по идейному воспитанию строителей. Однако, по мнению Даниелюса, это чистая демагогия, которой недобросовестные люди оправдывают свое бессилие, это значит, что он умывает руки. Если потерпел неудачу, то ищи ее причины прежде всего в себе, вместо того чтобы сваливать вину с больной головы на здоровую. Итак, шагая рядом с управляющим трестом, ставшим вопреки желанию и начальником строительства, и никого не пытаясь винить, Даниелюс обсуждал с ним нелегкое положение. Если судить по Доске почета, то создается впечатление, что дела на стройке идут как по маслу. Шутка сказать – двенадцать портретов передовиков труда! И все улыбаются, у всех прекрасное настроение, кажется, каждый из них – неоспоримое доказательство правдивости слов, выведенных крупными буквами и полыхающих на транспаранте: СДАДИМ ГОСУДАРСТВУ ДОСРОЧНО ГЕДВАЙНЯЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИГАНТ! О том же, не скупясь на звонкие фразы, возвещала стенгазета («Показали пример… Героический, беззаветный труд… Вдохновленные светлыми идеалами коммунизма…»), хотя говорилось здесь и о фактах, настраивающих не на столь благодушный лад. «Поменьше бы красивых фраз и лозунгов, а побольше бы работы, работы, работы, – подумал Даниелюс. – Но тогда будет поменьше оптимистического пафоса, за который мы, видать, хватаемся, когда надо чем-то заполнить образовавшуюся пустоту. Может, стоило бы поразмыслить над тем, не прикрываем ли мы яму, в которую со временем можем угодить?»
Так же думал и начальник строительства: недостает требовательности, а это порождает успокоенность, заставляет мириться с недостатками. Однако все это результат не стиля руководства, а обстоятельств, обусловливающих такой стиль.
Даниелюс сразу смекнул, что тот хочет этим сказать, потому что досконально знал условия строительства фабрики и чувствовал себя здесь как рыба в воде. Он не удивился (хотя и пришел в сильное раздражение), когда увидел, что часть техники не используется. Позавчера два крана простаивали, виновато уткнув металлические носы в землю. Сегодня, слава богу, простаивает только один… Почему? Испортился или крановщик захворал? Нет, кран в порядке. И крановщик жив-здоров – отправился в общежитие, ругаясь на чем свет стоит, что самосвалы под погрузку грунта не подают. А с этими самосвалами такая катавасия вышла: двух шоферов за прогул, то есть за пьянку, лишили месячной премии; они обиделись, плюнули на стройку и вчера подались на поиски более легкого заработка. Третий же, их верный дружок, запил с горя, да так, что и сегодня еще опохмеляется. А четвертый вдруг позвонил с утра, дело, дескать, срочное, на работу выйти не могу… Обоим надо бы по строгачу объявить, а в конце месяца и премии срезать. Но где гарантия, что они не последуют по стопам своих дружков-беглецов? Лучше уж шофер-прогульщик, чем никакого…
Даниелюс не мог с этим не согласиться, хотя весь кипел от злости, возмущаясь, что негоже потакать таким людям, к которым ради их же блага (уже не говоря об интересах общества), надо применять самые строгие меры. Хмурый и озабоченный, он бродил по стройке, по огромной, в несколько гектаров, площадке, на которой громоздились какие-то кучи кирпича, стыли машины, поднимались вверх стены фабричных корпусов: одни из них уже изрядно возвышались над землей, для других же только траншеи рыли, вынимали грунт для подземных цехов. То там, то сям бросались в глаза следы бесхозяйственности, заметные даже в таком хаосе, но Даниелюс не корил начальника, знал, что этот не щадящий себя человек меньше всего виноват. Вон еще груда сваленных кирпичей. Их бы сложить в штабеля, но где взять руки. Рук бы хватило, если бы не пьянки, если бы человек тратил свою энергию не на алкоголь. Тогда, глядишь, земля в радиусе десяти метров не была бы усеяна обломками, которые перемалываются колесами маневрирующих грузовиков и смешиваются с грязной жижей. И неиспользованные остатки бетонной смеси, вываленной вчера из ванн (в конце рабочего дня), не лежали бы затвердевшими кучами под строительными лесами. И многое другое было бы иначе. А теперь сотни тысяч рублей выброшены на ветер… Миллиардами исчисляется доход от проданной водки, торговых работников, перевыполнивших план реализации товаров, осыпают премиями, а кто подсчитает убытки, число разрушенных семей, неполноценных детей, кто оценит вред, причиненный спиртным здоровью несчастных?
Даниелюс, подавленный, стоял и смотрел на остатки арматуры, возвышающейся над строящимся корпусом. Рядом с ней маячила огромная гора проволоки, за которой трое мужчин копались возле бетономешалки. Двое из них были наголо острижены, отбывали срок, а третий был свободный рабочий. Прибежал бригадир, подхлестнул их и снова исчез, но стой он возле бетономешалки хоть круглые сутки, ничего, кроме сердитого бормотания и сквернословия, из них не выжал бы.
Даниелюс пнул ногой пустую бутылку. Пытаясь скрыть раздражение, он подошел поближе, поинтересовался, как идут дела и услышал в ответ что-то бодрое, совершенно не вязавшееся с их рабочим настроением. Все трое были под мухой. Выпили они, видно, самую малость, только одну бутылку, но другая, наверное, была припрятана на вечер.
Начальник строительства заметил, что пить во время работы возбраняется, но остриженные только усмехнулись, и Даниелюсу ничего другого не оставалось, как согласиться с их утверждением, что пустую бутылку прикатил ветер из бригады каменщиков.
Со строителями Даниелюс расстался в сквернейшем настроении. Не все, конечно, такие, как эти. Кто того заслуживал, тому он сказал добрые слова, подбодрил, да и сам на какое-то время почувствовал прилив бодрости после того, как побеседовал с настоящими работягами. Тем не менее грязи, беспорядка, заставляющего серьезно задуматься, что предпринять, чтобы сдать фабрику в срок, было предостаточно. Больше всего Даниелюса озаботило полное безразличие кое-кого к государственному делу, отсутствие ответственности и как следствие: пьянство, лень, бесхозяйственность, оборачивающиеся неисчислимым для страны уроном. Прежде всего его возмутило пьянство, потому что в нем начало всех других бед.
Удрученный Даниелюс и не заметил, как въехал в Дягимай. Если бы не Унте с овцой на плечах, он бы пролетел мимо отцовской усадьбы. Поначалу Даниелюс брата не узнал, но тут попался на дороге Пранюс Стирта с возом, груженным кормами. Гедрюс Люткус засигналил, но тут сигналь не сигналь, ничего не добьешься. Правда, воз покорно съехал на правую обочину, но рядом шагавший Унте взял вправо, преградив дорогу так, что никак не разминуться.
Люткус даже посинел от злости, был он очень заносчивым и в чужих поступках, порой даже самых невинных, усматривал желание обидеть его и унизить. В районе даже ходила такая поговорка: «Чванливый, как Люткус». Некоторые водители из зависти к его педантичной аккуратности, к его умению держать в чистоте машину и со вкусом одеваться прозвали его Графом.
– Ну не паразит ли! – прошипел Гедрюс, подталкивая Унте буферами. – Из-за таких идиотов люди и гибнут на дорогах. Ну я ему, свинтусу, покажу, как ходить пешком!
Он дернул ручной тормоз, собрался было выскочить из машины, схватить этого пьянчугу, этого наглеца за шиворот, но тут подвыпивший Унте повернулся, и Люткус так и обмяк у руля, будто его ударили мокрой тряпкой по голове.
Теперь и Даниелюс узнал брата. Взвалив черноголовую овцу на плечи, Унте крепко держал ее за задние ноги, овца билась за спиной, тыкалась слюнявой мордой в его зад. Передние же ноги животного без устали колотили Унте по пояснице, у него уже вылезла рубаха из брюк, едва державшихся на оголенных бедрах, с каждым шагом брюки спускались все ниже, и ноги путались в штанинах.
С минуту Даниелюс сидел, не зная, куда глаза девать от смущения, щеки у него пылали, он видел кривую усмешку на чуть подрагивающих губах Люткуса, и картина перед его глазами казалась кошмарным сном. У Даниелюса мелькнула мысль свернуть в чей-нибудь двор или – что было бы еще лучше! – выждать на обочине, пока этот пьяный разгильдяй не удалится, не скроется со своей ношей. Но вслед за этой мелькнувшей мыслью, пронизанной ненавистью, в голову пришла другая – нереальная, постыдная – нажать изо всех сил на акселератор и подмять автомобилем эту неотесанную скотину. Стереть с лица земли, как насекомое, шмякнувшееся на стекло автомобиля, и баста! Выродков на свете и без него хватает. Но Даниелюс ужаснулся и даже зажмурился, съежившись на переднем сиденье и чувствуя, как машина потихоньку, словно на похоронах, скользит вперед.
Пока Люткус нашел щель между возом Стирты и Унте, который с брыкающейся за плечами овцой свернул наконец на левую обочину, прошло, наверное, не больше минуты, а Даниелюсу казалось, что это унижение никогда не кончится. Он не помнит, что сказал Люткусу, схватившись левой рукой за руль, а может, хватило одного этого движения, чтобы автомобиль вдруг остановился и незримая сила выбросила Даниелюса за дверцу; он в мгновение ока очутился перед шатающимся братом, за которым из дворов следили насмешливые зеваки. Но Унте продолжал идти, ноги у него заплетались, и он словно глумился над братом. Да и выглядел он вблизи еще противнее, чем из окна машины: вспотевший от тяжелой ноши, с нездоровым румянцем на перекосившемся лице, перед рубахи разорван до самого ремня, сползшего на голый живот и не поддерживавшего брюк.
– Вправду ли я перед собой вижу… брата своего… или мне снится? – пробормотал он, качнувшись вперед. – А-а. Да… Даниелюс… Привет, на-а-а…чальник!
– Живо полезай в машину – и поехали! – прохрипел Даниелюс, весь дрожа от злости. – Слышишь? Хватит людей смешить.
– Кошке смех, а мышке слезки, – икая и едва ворочая языком, сказал Унте. – Жизнь моя слезами изошла… Ты это, брат, можешь понять?
– Ладно, ладно, дома поговорим, нечего здесь нюнить. Гедрюс, открой багажник, – приказал Даниелюс, толкнув плечом Унте к машине. – А ты дай-ка сюда свою овцу.
– В багажник? Да пошли вы к растакой матери! – разволновался Унте, как бы трезвея. – Вы что, задушить ее хотите? Ведь это же овца черноголовой породы Пирсдягиса. Отборная! Я должен ее доставить в целости и сохранности.
– А ну-ка сунь поскорее сюда свою черноголовую, – сказал Люткус, стоя у открытого багажника. – Не бойся, не подохнет. Доставим ее вместе с тобой в целости и сохранности в хлев.
– В хлев? Меня в хлев? – вспылил Унте и повернулся к Даниелюсу, да так резко, что потерял равновесие и ударился о крыло машины. – Ну уж этим ты меня, братец, не испугаешь. Не на такого напал.
Даниелюс, не соображая, что делает, схватил брата за плечо.
– Заткнись! Для такого, как ты, и хлев – роскошь! – не выговорил, а прошипел он.
Унте попятился, словно перед глазами сверкнул не взгляд Даниелюса, а остро наточенное лезвие. Между тем овца заметалась пуще прежнего, молотя передними ногами свисающие брюки; казалось, шагни Унте еще шаг, и они совсем сползут.
А потом все произошло в один миг: Даниелюс и Люткус вырвали у Унте овцу, а его самого со сверкающим полуголым задом впихнули в машину.
До самой отцовской усадьбы Даниелюс сидел молча, крепко сжав окровавленную правую руку; не мог взять в толк, как же случилось, что он потерял самообладание и вмазал брату. Если бы Унте не сопротивлялся, а послушно сел в машину… Но он уперся перед дверцами как осел, вот и лопнуло терпение.
– Так вот ты как со мной… с братом… – шмыгал носом на заднем сиденье Унте, вытирая рукавом грязной рубахи испачканное кровью лицо. – Что я сделал плохого? Нес овечку Пирсдягису… Вот отнесу, говорю, и заткну рот. Подавись, скажу, своим знаменитым подарком, и чтоб больше ты у меня и не пикнул! А то я тебя, у-у-у, наизнанку выверну!
Только на третий или четвертый день, когда Унте протрезвел, Даниелюс разобрался в деле, причины коего банщик Марма описал в своей летописи таковыми словами:
«Еронимас Пирштдягис, прозванный сельчанами Пирсдягисом, на каждом шагу хвастался, будто подарил породистую черноголовую овечку своему зятю Антанасу Гиринису. А была та овца давно съедена, и потомки ее приносили ягнят, и росли те ягнята, а бахвальство Пирсдягиса не прекращалось. Тогда Антанас Гиринис, хорошенько подвыпив, решил заткнуть старому бахвалу рот: взвалил на плечи одну из овечек и попер через всю деревню к своему тестю… Славное было зрелище, все запомнят его надолго…»
Даниелюс, конечно, не мог знать о том, как описал сие зрелище Робертас Марма, однако какие сногсшибательные выверты ни делала фантазия банщика, она все равно не могла сравниться с тем, что он, Даниелюс, увидел своими глазами. Ему было стыдно. Ужасно стыдно! Он был возмущен, оскорблен, унижен. Но больше всего огорчался из-за того, что не совладал с собой и ударил брата по лицу. Он чувствовал себя так, словно не у Унте, а у него самого посреди бела дня на виду у всей деревни сползли брюки. Желая как-то обрести душевное равновесие, он пытался вникнуть в свои отношения с Унте, к которому относился то снисходительно, то с пренебрежением, порой даже с жалостью, а то и с прорывающейся вдруг наружу братской любовью. Покопавшись в себе, он вынужден был признать, что наряду с другими противоречивыми чувствами к брату обнаружилось еще одно – непостижимое мучительное чувство, смесь сочувствия и ненависти, а ведь до недавних пор проказы Унте ничего подобного в нем не вызывали.
«Ах ты несчастный пьяница!»
Через несколько дней на заседании бюро Даниелюс сказал:
– Напитки предназначены не для того, чтобы их свободно продавать в рабочие дни. А из дягимайского магазина надо на веки вечные изъять всякие там «чернила» и водку, если мы хотим сдать фабрику в срок.
Кто-то пробовал возражать, мол, такая мера может сорвать финансовые планы района, но Даниелюс был неумолим.
– Алкоголь пожирает большую часть человеческой энергии. Мы должны отвоевать ее для производства, и это с лихвой окупит наши мнимые финансовые потери.
Верил ли он тогда в свои слова?
Да, верил. Хотя и понимал, что для того, чтобы чего-то добиться, нужны не месяцы, не годы, а, может быть, десятилетия. Понимал и все-таки бросил вызов зеленому змию, этим как бы подчеркивая свою решимость отомстить за брата и свой стыд. «Человек велик и благороден только тогда, когда своим разумом и своей волей он умеет обуздывать низменные страсти и сохранить сердце для истинной любви, жажды труда, борьбы за осуществление своей цели, ибо только это и составляет суть разумного существа, пытающегося создать более совершенный мир», – думал Даниелюс.
Через несколько месяцев выяснилось, что его затея обречена на провал, а еще через месяц раздался звонок из Вильнюса: ты что, Гиринис, трезвенника епископа Валанчюса[1]1
Мотеюс Валанчюс (1801–1875) – классик литовской литературы, епископ, боровшийся за трезвость.
[Закрыть] из себя изображаешь?..
«…Не изображаю, а пытаюсь что-то сделать…»
…Тротуары запружены по-зимнему одетыми людьми, снующими мимо витрин магазинов. Свежим снегом замело парки и скверы. Заиндевели вывески учреждений. Мосты, словно коты, дремотно выгибают спины над Нерис, которая тихо шелестит шугой; нынче река, видно, не станет, нет у нее охоты надевать ледяной панцирь. Город перемахнул через нее, вскарабкался на холмы Шишкине, обняв широкими крыльями многоэтажных зданий свою славную старину – от Лаздинай и Каролинишкес до Жирмунай и зеленых сосняков Валакампяй. Молодой, но усталый город глядит на маячащие вдали шпили костелов, застывших посреди муравейника домов, а над этим муравейником взмывает в небо телебашня, побившая все рекорды высоты. А справа и слева то там, то сям из фабричных труб поднимаются клубы черного дыма, и чуткий, привыкший ко всяким запахам нос горожанина даже не чувствует его.
Даниелюс потихоньку, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться открывшейся перед ним картиной, спускается по лестнице с горы Таурас; он подавлен величием города, которое всегда завораживает его, когда он оказывается среди этой полумиллионной массы, города, втягивающего в свой бездонный желудок все новые и новые жертвы и с каждым днем все больше покрывающего своим ненасытным телом песчаные холмы Виленщины.
Шумный уличный поток подхватывает Даниелюса, и он, не раздумывая, куда идти, плывет со всеми вместе, как щепка по течению. Иногда приятно отдать себя во власть стихии, даже очень приятно. Отдых… Если и думаешь о чем-то, то мысли твои легки, почти воздушны. Так бывает, когда слушаешь музыку или шорох леса. Нескончаемый грохот машин, шаги, разноголосый гул… Порой смех, неожиданный, громкий. Смотришь на спины идущих впереди тебя прохожих, на дома, на зимнее небо, тусклое и низкое, и тебе этого хватает. Город со всех сторон обступает тебя, и ты безропотно жмешься к его груди, с какой-то тревогой и боязнью прислушиваясь к мощным ударам исполинского сердца. Ты песчинка в этой снующей массе людей, но тебе ничто не грозит, ты в безопасности.
И вдруг…
Даниелюс останавливается, словно перед ним выросла невидимая преграда. Кто-то налетел на него, выругался… Но Даниелюс и ухом не повел. Увертываясь от толчков, обернулся, глянул вслед уходящему. Плечи, спина, походка… Неужели Вадим Фомич? Зимой он любил носить длинное пальто с барашковым воротником и с такой же барашковой ушанкой, из-под которой сверкали пронзительные глаза, обрамленные густыми рыжими ресницами. Но у этого, пробежавшего мимо, вроде бы другое пальто и на голове облезлая папаха, но взгляд тот же, и крупное угловатое лицо со шрамом на правой щеке, и широкий лоб, и обвислый массивный подбородок, и тонкие волевые губы, и нос с горбинкой… Да, никаких сомнений, Вадим Фомич! Правда, похожих людей на свете много, но такой, как Вадим Фомич, – один-единственный.








