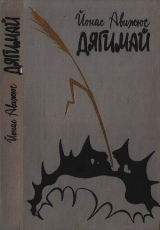
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
II
– Не пора ли обедать, отец? – доносится до старого Гириниса знакомый голос. – Ну и нашел же ты местечко для отдыха! Разве в твоем возрасте можно жариться на солнце?
– Присел на минутку. Думал, новое топорище сделаю, да вдруг такая лень одолела…
– Ясное дело, одолеет. Летняя жара и молодого сморит, а ты… Салюте холодный борщ приготовила. И картошку отварила. Душу отведем.
– Холодный борщ, говоришь? Вот это еда! – Гиринис даже усы облизал. Поднялся с колоды, но тут же качнулся назад, словно его толкнули. – Что это за черт меня за зад тянет… – попытался пошутить старик.
– Умные люди в такое время дня тенек ищут, а ты – ни дать ни взять – барышня-дачница, – журит отца Унте, подхватив его одной рукой под мышки и помогая подняться с колоды. – Не хватало еще, чтобы разделся и выставил бы на солнце свое пузо.
– Может, уже отпустишь? Я и сам ходить умею, – Йонас Гиринис беззлобно отталкивает руку сына и, пошатываясь, первым вдоль забора входит во двор. – Лучше расскажи, что нового на полях слыхать?
– Клевер скосили. Телка ногу сломала, так Салюте говорит. Прирезали, а мясо – колхозникам по себестоимости. Решили и мы взять огузок.
– Правильно решили. Будет и у нас свежее мясо. В подвале, на льду, недели две простоит, не меньше. Как раз до приезда гостей.
– Гости без свежего мяса не сидят. Братец как-никак секретарь… В очереди не стоят, не думайте, – говорит Юстина, когда все усаживаются за стол и принимаются за холодный борщ. – Нам самим нужно отдохнуть от сала.
– При сале голодным не будешь, – поправляет дочь Йонас Гиринис. – А Даниелюс хоть и свой, но его надо как гостя принять.
– Вы говорите так, будто он один приезжает, – вставляет Салюте. – А с ним же и Юргита!
Унте всем телом налегает на миску, пряча глаза. Горячая волна заливает его небритые щеки и ярким багрянцем метит оттопыренные уши. Вместо того чтобы поддеть картофелину, он лезет вилкой в другую миску и выуживает из нее вареник, жаренный на сале, – любимое в северной Литве блюдо; женщины дополняют им обед, так как холодный борщ с отварным картофелем не считают здесь серьезным кушаньем. Поддел вареник и проглотил его, не окунув в сметану. А сметаны – полная миска, белеет среди другой посуды на столе.
– Говорят, в будущем году наш хор на праздник песни поедет, – пытается хоть что-нибудь сказать Унте, чтобы скрыть свое смущение. – По меньшей мере человек тридцать. Со всей республики тысячи соберутся. И это в самую-то страду! Ну куда, я вас спрашиваю, власти смотрят – в такую пору праздники?!
– А ты бы хотел, чтобы люди зимой под открытым небом пели? – язвит Юстина. Она никогда за словом в карман не лезет.
– Да у него недурно и под крышей получается, – заступается за сына Йонас Гиринис. – Никто в вашем хоре так не выводит, как Унте. Ты, сын, правильно сделал, что к этому Юркусу в его самодеятельность пошел.
– Да что тут правильного, отец, – возражает Салюте, недовольная рассуждениями свекра. – Всю зиму в Доме культуры проторчал, будто прикипел к нему. Только наступит вечер – он за порог, летит как угорелый на эти свои репетиции. А разве от этого меньше пьет, когда приспичит?
– Пьет не меньше, это верно… Но Унте не Стирта, – Йонас Гиринис грустно смотрит на сына. – Когда же ты, Антанас, и впрямь образумишься? Как-то вечером, дело было весной, забрел я в Дом культуры послушать и ушам своим не поверил: неужто это мой сын? Всамделишный артист и то так не споет. И красиво, и печально, не я один слезу обронил. Растрогал стариков, душу разбередил, молодые деньки напомнил. Эх, эх, мы сами, отцы наши и деды эти песни певали. И только теперь поняли, какая в них красотища. О том вечере вроде бы и газета районная писала. Хор хвалила, директора конечно же, Юркуса, но больше всего тебя, сын мой. Ежели бы у тебя так повсюду концы с концами сходились, право слово, мог бы я тобой гордиться…
– А ты, отец, гордись, не гнушайся, – наконец не выдерживает Унте; холодный борщ он уже съел и с огромным удовольствием принялся уписывать вареники, то и дело макая их в сметану. – Как умею, так пляшу, что имею, то ношу. Ежели чего во мне и не хватает, то уж этого, отец, мне с неба не достать…
– Да шут с ним, с небом. Ты лучше скажи, откуда в тебе дурные привычки, пороки? Конечно, никто не рождается с трубкой в зубах и бутылкой водки в руке.
– Твоя взяла, отец, твоя… – ворчит Унте, налегая на миску. – Тебе, отец, подавай только все красивое, хорошее, а откуда все плохое, ты и не думаешь.
– Почему не думаю? Плохое от самого человека, откуда же еще? И братоубийцу Каина, и его жертву Абеля та же мать родила.
– Тебя не переспоришь, – бормочет Унте. – Пусть будет по-твоему…
Старик Гиринис ничего не отвечает. Молчат и обе женщины. Только когда кончили обедать, Юстина вспомнила, что встретила Ляонаса Бутгинаса.
– Просил зайти, – напоминает она брату. – До полудня будет в сельсовете.
– Бутгинас, что ли?
– Нет, Илья-пророк, – с издевкой отрезает Юстина.
Но Унте в эту минуту не до Бутгинаса: столько слов сказано, столько еды рядом… Он уминает последний вареник, но вкуса не чувствует. Впивается взглядом в потолочную балку. И мысли его где-то далеко, далеко… Мелькает лицо Юргиты и снова исчезает. Она приедет, конечно. Вместе с братом. Счастливчик Даниелюс… Будь на дворе зима или выходной, Юркус устроил бы вечер самодеятельности. Как ни крути, приятно петь, когда тебя слушает толпа. Немножко боязно, но приятно. А уж если среди слушателей Юргита… Правда, приезжала она весной, перед самыми посевными работами, потом еще в районной газете весь концерт описала. Сидела рядом с отцом в зале. Унте думал, что ничего хорошего из его пения не получится – так у него сердце колотилось. И в самом деле, первые куплеты он спел как-то вяло. А потом осмелел и как затянул – весь Дом культуры после каждой песни от аплодисментов и криков дрожал.
Юргита сидела в третьем ряду и улыбалась, подбадривая Унте, глаза ее жарко сверкали, и от этого сияния, наполнявшего грудь удивительным теплом, песня расправляла крылья, и клокотавшее радостно сердце возносилось куда-то ввысь. Саулюс Юркус, глава Дома культуры, стоял перед своим хором чуть-чуть наклонившись вперед (как лев, приготовившийся к прыжку), а хор, замерев, ждал его знака, чтобы повторить последние две строчки. Юркус улыбался в свою густую рыжую бородку, и, как белые клавиши, сверкали его крупные здоровые зубы.
Унте не припомнит, когда еще был так счастлив, как в тот вечер. Все, что он тогда пережил, все, что перечувствовал, так ярко врезалось в его память, что потом он еще долго жил этим, и в ушах по-прежнему отдавалась глубоко взволновавшая его мелодия, вот и сейчас она звучит, гремит, как далекие удары колокола, нарастает, проникает в самые потаенные уголки его сердца, и оно трепещет.
– Что ты навалился на стол, как медведь, это тебе не кровать, – корит его Салюте, возвращая мужа из безоблачных высот на грешную землю. – Ты что, не видишь – все поели, со стола убираем.
– Поели?.. А… Ну и хорошо, что поели. – Унте лениво встает. – Ой, до чего же порой бывает хорош белый свет! Живешь среди той же скотины, что и раньше, но вдруг в оконце свинарника залетает солнечный луч, и сразу все преображается. Словно волшебник махнул палочкой, и совершилось чудо – всюду светло, царят справедливость и добро.
– Болтаешь всё… – осаживает мужа Салюте. – Лучше прилег бы на часок.
– Слышишь? – вторит ей Юстина, сомневаясь в том, думает ли брат о каких-нибудь земных делах, – Бутгинас зовет. Видно, важное у него к тебе дело.
– Какое там важное, – напускается на нее Салюте. – Просто захотелось языком потрепать. Льнут они друг к Другу, водой их не разольешь.
– Пусть лучше к Бутгинасу льнет, чем к какому-нибудь пьянице, – встает на защиту брата Юстина.
– Надирается он и у Бутгинаса, хватает ему и там…
– Ну уж ты не сравнивай. Твоему муженьку только понюхать дай, он полрайона исколесит, чтобы еще добыть.
– Не было бы чего добывать, он бы и не рыпался, не шастал, – не уступает Салюте, все более раздражаясь.
– Заступница нашлась! – возмущается Юстина. – Такие вот, как ты, потворщицы, пособницы, и портят мужей. Попался бы мне такой герой в руки, я бы с ним быстренько справилась. Он бы у меня не ползал на коленях перед бутылкой, не молился бы на нее. Одно из двух: или живи как человек, люби свою супругу, или ступай от меня, несчастной, на все четыре стороны, если тебе чертов напиток дороже.
– Ну уж, ну! – багровеет от злости Салюте. – Взяла бы и сделала из пьяницы трезвенника. Тебя послушать – так муж точно бочка какая-то: выцедила из него пиво, налила колодезную воду – и готово. Не думала, что ум у тебя такой короткий.
– Говори что хочешь, а я с пьяницей ни одного бы дня не прожила! – не сдается Юстина, громыхая посудой на кухне. – Ты что думаешь – я себе муженька найти не могла? Куда там! Не один ко мне сватался, хоть и не красавица. Еще и сейчас не поздно эту петлю на шею накинуть, только пожелай я, да подходящего не видать. Да, да, только пожелай я, разве мало сорокалетних женщин замуж выходит? Но ты скажи, где таких мужчин сыскать, таких, которых уважать и любить можно? Все лодыри, пьянчужки смотрят на бабу как на рабочую кобылку. А ежели кто на сивуху и меньше посматривает, ежели кто пообразованней да пообтесанней, то все равно – не он мои портки, а я его после замужества стирать буду. Я буду по дому хлопотать, а он – у телевизора сидеть. Где это ты видела, чтобы муж ужин готовил? Скотина, огород, дети – все на плечах у бедной бабы. Муж только вид делает, что воз тянет, а баба и впрямь в этот домашний воз впрягается, сил не жалеет. Так на кой ляд мне впрягаться? Ежели бы нашелся такой, к которому я бы сердцем потянулась… А только из-за того, чтобы замуж выйти, чтобы кого-то в постели иметь… Нет, лучше одной! Пусть дуры тянут семейное ярмо, барщину отбывают. Такие, как ты, как моя сестра Бируте…
– Это уже не ты, а обида твоя говорит, Юстина. Осталась в старых девах, вот и злишься на весь свет.
– Старая дева, но зато свободная. Никто меня сапогами не топчет.
– Далась тебе эта свобода. Ни мужского плеча, ни детей…
– Дети! Ну, этого добра можно и без мужа нажить…
Унте не слышит их ссоры: как только сцепились, он вместе с отцом и вышел из избы – старик отправился в чулан на боковую, а сын через всю деревню – в сельсовет. Сквозь густые разлапистые деревья кое-где пробивается солнечный луч. Хорошо и свежо под прохладной, пахнущей зеленью листвой, в которой нет-нет да просвечивает голубой лоскут неба, усеянного белыми перистыми облаками. На дорогу с обеих сторон смотрят крохотные оконца старых изб, выкрашенные в желтый цвет крылечки, поскрипывают замшелые дубовые колодезные журавли, какие нынче уже не в моде. Примерно через полверсты зеленая крыша обрывается: новые кирпичные дома, садочки, не успевшие еще прижиться, и простор, простор, разве что попадется где-нибудь одно-другое молоденькое деревце, высаженное у дороги. Да чего и удивляться, ведь лет двадцать тому назад здесь тянулись пустые поля.
Во дворе Дома культуры ни одного человека. Пусто и на площадке для стоянки машин. На втором этаже несколько окон, одно из них – сельсовета.
– Присаживайся, – говорит Ляонас Бутгинас и тычет пальцем в потертое кресло у стены. А сам остается у окна. Без пиджака, в рубашке с засученными до локтей рукавами, оголившими смуглую, заросшую густыми волосами кожу, влажную от пота. Высокий лоб и широкое лицо сверкают, словно лоснятся от жира. – Ну и мучаюсь же я летом, – жалуется он, доставая из кармана скомканный носовой платок. – Двадцать градусов выше нуля еще куда ни шло, стерплю, но если выше, то пот с меня ручьями течет. А уж сущая беда, когда приходится надевать пиджак и завязывать галстук.
– Так ты, может, вызвал меня, чтобы сообщить о том, что перебираешься на север? – усмехается Унте, развалившись в кресле.
– Нет, у меня более веселая новость для тебя, но я ее оставлю на закуску. Как бы то ни было, давненько мы с тобой не виделись, и есть о чем побалакать.
– Давненько, больше недели. Летом у всех работы невпроворот. А у тебя еще эти сельсоветовские дела.
– Хорошо, если бы только сельсоветовские… – Бутгинас замолкает на минутку, не отваживаясь продолжать. Ты не думай, хлеб председателя сельсовета нелегкий. Особенно когда во главе колхоза такой, как Стропус.
– Топор! – цедит сквозь зубы Унте. – Носится с этими животноводческими комплексами, а на строительство Дома культуры ему наплевать.
– Хочет выше всех в республике взлететь. Герой Труда ему снится. А за культурную деятельность золотую звездочку так просто не дадут. Цифры и проценты требуются. Показатели! Мясо, молоко, зерно – вот где величайшие ценности с точки зрения материалиста.
– Здорово загнул. Может, у тебя и насчет памятника Жгутасу-Жентулису просветление в голове?
– Насчет памятника мне давно все ясно, сам все знаешь. Скоро тридцать лет, как наш земляк геройски погиб. До годовщины памятник должен стоять.
– Не понимаю я тебя, Ляонас. – Унте подскакивает, снова садится, безжалостно скрипя креслом. – Ты что, со Стропусом в одну дудку дуешь?
– И твой брат Даниелюс, секретарь, того же мнения.
– Мой брат! Откуда ты знаешь, может, он того же мнения, потому что должность велит?
– Да и я на кое-какой должности.
– Чинодралы! А где же ваши головы?
– Я согласен с твоим братом. Если человек погибает за других, то заслуживает всяческого уважения, – спокойным, ровным голосом произносит Бутгинас, как будто доклад читает. – Жгутас-Жентулис защищался до последнего патрона, уложил нескольких гранатами и взорвал себя, когда на него три дюжих лесовика поперли. Всех в одной куче мертвыми нашли. Ты уж, Унте, не сердись, но политик из тебя никудышный, лучше попридержи язык за зубами, если не очень разбираешься.
Унте сердито кусает губы, медленно поднимается с кресла. Быть грозе, неважно, что их водой не разольешь, как Салюте говорит; это так, но бывает, спорят часы напролет – и никакого согласия. Да взять хотя бы памятник Жгутасу-Жентулису; он для них как та неприступная гора, им бы обойти ее, если не желают друг с другом насмерть рассориться. Или строительство фабрики, к которому Бутгинас, не соглашаясь с Унте, относится довольно трезво. Но Унте никто никогда не заставит идти в обход. Только прямо, только вперед, даже если придется шею свернуть! И пусть Ляонас не встает правде поперек дороги!..
Но Ляонас Бутгинас сегодня, как назло, настроен иначе – спорить не желает. Хлоп муху! Хлоп другую! Щелчок – и с ладони наземь летит расплющенное насекомое. Вроде бы неподходящее занятие для предсельсовета.
– Знаешь, – говорит Унте, выложив все, что думает, и отчаявшись дождаться от Бутгинаса хоть какого-нибудь ответа, – когда поставите памятник, будет за что спрятаться, ежели, скажем, приспичит.
Ляонас Бутгинас спокойно проглатывает и эту пилюлю. А может, не расслышал? Нет, расслышал, даже вяло улыбнулся, хотя по выражению лица видно, что мысли его заняты другим. Уж очень он замкнутый человек. Ежели повнимательней присмотреться, то и он, друг, уже не такой, как прежде. Мешки под глазами вроде бы больше стали, морщины по обе стороны мясистого носа удлинились, да и румянец на щеках, от которых всегда веяло здоровьем и на которых всегда бойко цвела улыбка, и тот потускнел.
– Может, тебе нездоровится? – спрашивает Унте, недовольный затянувшимся молчанием и мушиной охотой.
– С чего это ты взял? Неужто у меня на роже написано?
– Не написано, но ты какой-то не такой, как раньше…
Бутгинас делает над собой усилие и поднимает глаза на Унте:
– Не такой, говоришь? Все мы не такие. Годы…
– Ври, сколько влезет. – Унте встает, мерит шагами тесную каморку. – Может быть, и годы, но люди другое говорят. От соседей ничего не утаишь. Как ни закрывай окна, все равно слышно, как тарелки бьют.
– Чепуху городишь… – Ляонас Бутгинас с минуту медлит, не решаясь открыться, хотя знает, всеми порами чувствует: не удастся ему на сей раз сохранить тайну. – Никто не закрывает, никто не бьет… Только, видишь, она – Герой Труда, в прошлом депутат Верховного Совета, а я – предсельсовета. Вот и зазналась.
– Как же ей не зазнаться, ежели ты у нее под каблуком, – вставляет Унте, сочувственно глядя на своего друга. – С самого начала надо было вожжи в руках держать.
– Так только темнота деревенская рассуждает! – Бутгинас спохватывается, что слишком громко говорит, и прикрывает окно. – Когда женщину любишь, и под каблуком у нее приятно. Когда веришь ей, уважаешь, она тебе тем же самым платит. Любовь, уважение друг к другу и составляют суть равенства мужчины и женщины. А не то, что женщина имеет право быть начальником любого управления, министром, парторгом, рыть траншеи для канализационных труб наравне с мужчинами. Представь себе, десять лет я служил Руте, как батрак, но не чувствовал себя им… Мыл посуду, жарил, варил, стирал пеленки. Она – на собрания, на съезды, на сессии, в президиумы, на трибуны, а я с коровой вожусь, со свиньями, верчусь на кухне в фартуке. Но не жалуюсь: счастливые это были годы. Я гордился, что ее всюду приглашают, уважают, превозносят, склоняют в печати, я видел ее счастливой в лучах славы, и это было для меня лучшей наградой. А теперь… Эх, и говорить стыдно…
– Почему стыдно? – не может взять в толк Унте. – Любовь прошла, что ли? А может, она тебя в дураках оставила, пока по всяким торжествам разъезжала? Подойди-ка поближе, дай пощупаю, велики ли твои рога.
– Мели, мели, если без этой молотьбы обойтись не можешь. – Бутгинас глубоко вздыхает, теперь он уже другим платком утирает струящийся по лицу пот. – Не понимаешь, что иногда женщине легче простить измену, если она искренне признает свою ошибку, чем ложь. Рута, по всей вероятности, не изменила мне, но верить ей я не могу. В жизни порой бывает так: вдруг что-то выясняется, и у тебя с глаз как бы шоры спадают. Столько лет с человеком вместе прожил, а оказалось – не такой он, каким ты его представлял.
И Бутгинас медленно, порой до шепота понижая голос, рассказывает все, что прошлой весной услышал от Стропуса.
– И это все? – удивляется Унте. – Стропус оклеветал Руту от злости к тебе, а ты взял да поверил.
– Нет, нет! – качает головой Бутгинас. – В том-то и дело, что это чистейшая правда. Весь год она мне душу жгла. Думал, переборю себя, забуду, и все пойдет по-прежнему. Куда там! Недавно поцапался я с Рутой и все ей выложил. А она, представь себе, даже не стала защищаться. Подумаешь, что тут, мол, особенного, несколько плохих коров заменили коровами получше. Улучшили, мол, рацион кормления и вообще создали, как говорится, более благоприятные условия… К тому же вместо нее, Руты, Стропус мог другую доярку выбрать и вознести ее на вершину славы… Я любил ее, Унте! Да, очень любил. Но если бы знал об этой сделке со Стропусом, я бы вряд ли на ней женился. Я знаю, Рута и тогда больше других заслуживала того, чтобы ее выдвинули, у нее были самые лучшие показатели. Но есть на ее звездочке и ржавчина. Думаешь, эту ржавчину только я один вижу? Стропус людям рот заткнул, но, думаешь, те, которые в курсе дела, не перешептываются, не шушукаются?
– Чего былое вспоминать, чего, спрашивается, шушукаться? – старается утешить друга Унте, хотя сам не верит своим словам. – Твоя Рута все равно была лучшей дояркой, не зря ее отметили. А что до этой ржавчины, как ты говоришь, так и к ногам святого прах пристает.
– Ну и пусть пристает, но зачем же скрывать его? От самого близкого человека! – Бутгинас съеживается, как от удара. – Они со Стропусом все знали, а я оказался в дураках. Десять лет хранила она тайну, как змею за пазухой! Вот и скажи мне – мог бы ты верить такой женщине?
– Во всем Стропус виноват. Из кожи вон лез, только бы обогнать всех по показателям и соответственно по количеству орденов, позвякивающих на груди…
– Ах, уж эта спесь проклятая. Только бы взлететь повыше, только бы перещеголять опереньем другого. Неважно, какой ценой, но купить билет в ложу, где сидят избранные, чтобы все тебя видели. И моя Рута такой билет купила… А я, недотепа, думал, что главное в жизни человека – это честно вкалывать и жить по совести. – Голос Бутгинаса обрывается. – Какой-то я не от мира сего, Унте, в ногу попасть не могу с такими, как Стропус… А они прут. Иногда даже через трупы шагают. И смеются тогда, когда у меня слезы на глаза навертываются.
Унте беспомощно шмыгает носом. Что-то сказать бы надо. Обязательно. Но все слова гроша ломаного не стоят! Гиринис молча подходит к Бутгинасу и, обняв, по-мужски несколько раз сжимает его плечо. Потом направляется к двери.
Оба долго молчат. Слышно, как на улице грохочут машины.
– Я всегда с тобой, Ляонас, – говорит Унте, не оборачиваясь.
– Я знаю…
Бутгинас горько улыбается в спину Унте. Отходит от подоконника, садится за письменный стол. И он уже не просто Ляонас, а серьезный человек, предсельсовета…
– Звонили из Вильнюса. С телевидения. Тебя просят приехать и что-нибудь спеть, – говорит Бутгинас, подперев одной рукой отяжелевшую голову, а другой раскладывая какие-то бумаги. – Ишь как тебя твои старинные песни прославили, даже до столицы слух дошел.
Унте ошеломлен. Возвращается, придвигает кресло, садится напротив Бутгинаса. Нет, это какое-то недоразумение или розыгрыш.
– Дело серьезное, – принимается убеждать его Бутгинас. – Звонил ответственный товарищ. Поначалу просил Стропуса, но не нашел, а заместитель Стропуса без согласования с ним наотрез отказался что-либо решать.
– Что решать?
– Командировать тебя в Вильнюс или не командировать.
– Меня?! Посылать или не посылать? – сердится Унте. – И еще кто: контора Стропуса!
– Так поезжай, ничего никому не сказав, – пытается найти золотую середину Бутгинас. – Командировку тебе оплатит телестудия.
– Совсем у тебя котелок не варит, Ляонас! Разве я насчет оплаты? Стропус сядет у телевизора и будет выхваляться: видали, какой кадр я вырастил, наша самодеятельность – ого! Любитель пускать пыль в глаза! Два года болтает о строительстве Дома культуры, а сам палец о палец не ударил.
– И все же здорово, если ты по телевизору выступишь… – не унимается Бутгинас. – Всей деревне честь. А уж о твоих родичах и говорить нечего. Отца порадовал бы, сестер… Только круглый дурак может отказаться от такого предложения.
– А я отказываюсь. Пусть буду круглым дураком, но я отказываюсь. – Унте решительно встает с кресла. – Если этим телевизионщикам Антанас Гиринис так дорог, пусть сюда приезжают со всеми своими причиндалами. Спою от души, себя не пожалею. Запишут, а потом народу покажут. Разве они со Стропусом в прошлом году не так поступили, когда он им кучу глупостей про наш колхоз наговорил? Чем же я, скажи, хуже его? Нет, не помчусь я к ним, задрав хвост, и не подумаю.
– Как знаешь, – раздраженно бросает Бутгинас. – Твои, как говорится, свиньи, твои, как говорится, бобы. А я-то думал, что ты не упустишь случая со своим братом Повиласом в столице повидаться…
– Такая жара, а я, видишь ли, буду в городе потом исходить. Да и вообще, уж так ли давно я там был. Прошлой осенью, сразу же после Октябрьских:
Поскакал я в город Вильнюс
на базар на шумный…
Унте весело смеется, вспомнив что-то, и семенит к двери, громко повторяя куплет той же самой песни:
Поскакал я в город Вильнюс
на базар на шумный,
вижу, там стоит девица
средь подружек юных…
Словно звездочка на небе
средь просторов лунных…








