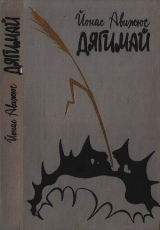
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
IV
Стропус уехал на работу, а Габриеле все еще валяется в постели и никак не может уснуть. В голове роятся мысли, но быстро ускользают – какая-нибудь сверкнет, как солнышко из-под облака, но тотчас же гаснет. Господи, что за долгий день впереди! Будь дочурка дома, надо было бы уже встать: самое время в школу ее проводить. Но Пярле у бабушки, в Епушотасе, и только в субботу, пополудни, когда девочка приезжает на конец недели домой, все вокруг как будто оживает от веселого стрекота. Сегодня только среда, середина недели, и у Габриеле, как назло, один урок. Можно с ума сойти от скуки. Лежи и зевай себе, пока голод не выкурит из постели. Может, приготовить Андрюсу завтрак? Но муженек закусит там, в колхозной столовке. А если и нагрянет, с голоду не помрет – в чулане да и в холодильнике всякой всячины полно («Буду я вокруг него прыгать, как служанка!»).
И Габриеле еще глубже зарывается под одеяло, упиваясь благодатным теплом постели и чувствуя, как все тело понемногу тяжелеет от дремы. Стропене прищуривается и в густеющем сумраке видит: комнату (огромный четырехугольный сосуд) заливает какой-то чернотой, которая редеет, рассеивается и превращается в нестойкий ползучий туман. Сквозь него неспешно проступают квадраты окон и дверной проем. И в проеме возникает чья-то фигура. Лицо кажется удивительно знакомым. Знакомые жесты, движения… Замызганный, испачканный с головы до пят… Габриеле вглядывается повнимательней и узнает Унте. Хам!.. Самозванец! Своими выдумками Стропусу житья не дает… Чего ему?..
Она испуганно подскакивает в постели, впивается взглядом в наглухо закрытую дверь. Сумеречно, пусто. Глаза ясные, словно и не засыпала… В самом деле чертовщина какая-то: не спала, и вдруг этот увалень приснился, этот лоботряс. Господи, хоть бы разок приснился настоящий мужчина. Но во сне, как наяву, настоящего не сыщешь. Свой смотрит на нее как на вещь, есть надобность – берет, нет надобности – не трогает. Все колхоз да колхоз, чтоб ему сквозь землю провалиться. У Андрюса и минутки нет, чтобы позавтракать вместе. Пентюх!.. Надо бы ему наставить рога с первым попавшимся мужиком!..
О том же Габриеле думала и на прошлой неделе, когда Стропус приехал из Вильнюса не вечером, как обещал, а поутру. Прости, но иначе, мол, не мог: нужных людей угощал, тех, с кем нельзя отношения портить, если хочешь урвать для колхоза кусок пожирней. А кусок этот – удобрения, техника, стройматериалы, распределение средств и прочее. Ты что, Габи, не слышала про проблему «пробивной силы»? Подарки, связи, взятки – для тебя что, новость?
Не новость. Но разве это оправдание: является домой измочаленный, уставший до смерти, с опухшими от бессонницы и возлияний глазами, и валится в постель, даже не чмокнув ее, жену, в щеку, валится, чтобы через два-три часа снова окунуться в колхозное производство.
– А эти нужные колхозу люди, случайно, не женщины? – со злой усмешкой поинтересовалась она.
– Были и женщины, – равнодушно ответил Стропус, стаскивая с себя одежду. – Не могу пожаловаться на то, что с ними труднее договориться, чем с мужчинами.
– Все равно правду не скажешь, – отрезала Габриеле, едва сдерживая ярость. – Если колхозу понадобится, ты, не моргнув глазом, с любой переспишь… А может, уже?..
– Господи, как ты глупа, – буркнул Андрюс Стропус, растянувшись на постели. – Лучше засни и дай мне немножко… чтобы завтра в форме был. – Он потянулся, поворачиваясь к стене, и Габриеле вдруг учуяла запах пирушки. Ее охватил такой гнев, такая досада, что она пулей вылетела из кровати.
Андрюс глянул на нее удивленно, жмуря покрасневшие глаза, но тотчас же прикрыл их тяжелыми веками, погружаясь в здоровый сон усталого человека.
Габриеле оделась и вышла во двор. Сердце бешено колотилось, руки, ноги дрожали. Когда одевалась, порвала платье – Габриеле слышала, как что-то треснуло, но до платья ли? Теперь ей было все равно, могла даже голой пройтись по поселку или еще что-нибудь натворить, чтобы только досадить мужу. О-ох, ее бил озноб при одном воспоминании о том, как он завалился в постель, чувствуя только свою усталость, и сладко сопел носом.
Некоторое время Стропене стояла во дворе, ежась от утренней прохлады, потом накинула на плечи пальто и вышла на улицу. Ночью ударили заморозки, и земля затвердела, а лужицы на обочинах затянуло белесой коркой льда. Слабый ветерок доносил с полей живительный запах весенней земли и робкое, нестройное пение птиц, изредка прорывавшееся сквозь монотонный гул тракторов. Солнце только что встало, и лучи его просачивались сквозь сплетение ветвей, золотя крыши старых изб и кровавыми сполохами отражаясь в оконных стеклах, через которые глядело на восход не одно здешнее поколение.
Только минуешь десяток дворов, и старая деревня обрывается: по обе стороны дороги в строгом армейском порядке стоят кирпичные домики с садами и хозяйственными постройками. Одни – с мансардами, с крылечками, выходящими прямо на улицу, другие – без них, но все крытые серым шифером и удивительно похожие друг на друга. Габриеле шла, не оглядываясь по сторонам, но всем своим существом чувствовала и возню собак, и шорохи домашней птицы, и вопросительные взгляды, и ей было не по себе оттого, что мозолит в такую рань глаза всей деревне, возбуждая толки и догадки, но, словно одержимая, шла дальше и дальше. Даже когда перед ней выросли учителя – супруги Бреткунасы, Габриеле не повернула назад, хотя при желании могла пройти незамеченной.
– Доброе утро, Габриеле.
– Доброе удро, Дангуоле. Привет, Арвидас.
– Куда это ты в такую рань?
– А вы?
– Мы? Неужто не видишь – на огород. Юодвалькис лошадей дал, надо ловить момент.
– А уроки?
– У Арвидаса сегодня нет, а я договорилась с директором. Страда… Директор все понимает, беды-то у нас одинаковые…
– Одинаковые? – Габриеле зло рассмеялась. – Объявит субботник, и родители засеют ему огород.
– Не одному ему помогают, – спасительно вставил Арвидас Бреткунас. – Будь у тебя огород, и ты бы небось…
– Зачем ей огород? – уколола Дангуоле. – За спиной такого, как Стропус, каждая женщина чувствовала бы себя барыней. Если бы мой Арвидас председательствовал, я бы никогда о навоз руки не марала. Пусть кроты землю роют…
– Думаешь, Габриеле по своей воле отказалась от аров? – заступился склонный к соглашательству Арвидас. – Нет, она же сама деревенская, не боится руки замарать… Но Стропус, если память мне не изменяет, всегда выступал за колхозы без приусадебных участков, и было бы, конечно, ни то ни се, если бы он себе отрезал землицы… Разве я, товарищ председательша, не прав?
– Не прав, товарищ учитель, – возразила Габриеле и злорадно добавила: – Ничего ты не понимаешь, Арвидас. Когда мужчина действительно любит, он прежде всего печется о возлюбленной, а не о каких-то арах. Как-то я обмолвилась, что не прочь держать корову, откармливать поросенка, но Андрюс меня только поднял на смех. Что? Корову? Поросенка? Ты что, рехнулась: чтобы я любимой женщине позволил в хлеву отираться!.. Вот какие принципы у моего Стропуса, если вам угодно…
– Счастливица, – завистливо процедила Дангуоле и проглотила подступивший к горлу комок.
– Да, дорогая, жаловаться мне грешно. – Габриеле натужно улыбнулась. – У меня, правда, порой бывает слишком много свободного времени, но оно приятнее, чем вечная занятость. Сегодня, например, проснулась раньше, чем обычно, и отправилась гулять. Ведь сегодня такое изумительное весеннее утро! Что за воздух! Что за трели!.. Сердце замирает от радости…
– А мы до обеда будем на своих арах потеть, – обиженно пролепетала Дангуоле.
– А чем уж так плохи эти ары? – спросил Арвидас Бреткунас, с трудом подавляя раздражение. – Работай себе и радуйся… Я лично за активный отдых, мои дорогие. Конечно, и прогулки хороши, спору нет. Легкие проветришь, кровообращение улучшается. Но с физической нагрузкой на свежем воздухе не сравнишь. Ты как хочешь, Габриеле, но я лично против этих городских моционов. Через неделю будем картошку сажать. Приходи, сама убедишься, что лучшей зарядки нет.
«Хватит у вас помощников и без меня. Если родители сами не смогут, детей пришлют, – недружелюбно подумала Габриеле, провожая взглядом удаляющуюся супружескую пару. – Совсем опростились!.. Дангуоле, когда приехала сюда, такой барышней была… А сейчас? Заматерела, как деревенская баба. Или Арвидас… Напялил на себя какой-то задрипанный плащ!.. Кирзовые сапоги, штаны с протертым задом – ни на грош интеллигентности… Плетется в хвосте в прямом и переносном смысле, шлепает за лошадью, помахивает кнутом – деревенский недоросль, и только. А надо же: довольны… Может, даже и счастливы…»
Габриеле завистливо вздохнула, но когда представила себя на месте Дангуоле, плетущейся рядом с Арвидасом за лошадьми, то вся съежилась. Она вдруг почувствовала какую-то смутную вину, словно отмочила дурацкую шутку, которая не казалась уже такой остроумной, как десять минут назад. Что за бред – ни свет ни заря расхаживать по деревне и строить из себя мученицу? Повернуться – и домой! Да побыстрей! Господи, вот когда пригодился бы сказочный ковер-самолет! Только скажи слово и унесет тебя, куда пожелаешь. Но время сказок прошло, придется на своих двоих возвращаться к мужу, к Андрюсу Стропусу, влюбленному в свою работу, в свой колхоз, в свою карьеру. А может быть, по-своему и в нее, свою жену? Разве он не любит ее, как удобную вещь, как, скажем, какой-нибудь стул с резной спинкой, к которому привык и без которого себя не мыслит? Попробуй отними его, и он, Андрюс Стропус, взбеленится и бросится защищать этот стул, яко львица своих детенышей. Поди знай, что у него было на уме, когда он отказывался от домашнего хозяйства – от коровы, от огорода? Может быть, вовсе не принципы, а любовь к ней, желание избавить ее от нелегких домашних работ? Поди знай…
«Я ненасытная, – укоряла она себя, вспоминая свой недавний приход к Стиртам. – Кое-кому всевышний швырнет кроху, и они довольны, а у меня в руке не кроха, а целая краюха, и я еще жалуюсь, что масла пожалели, слишком тонко намазали». Ей вдруг показалось, что она все еще стоит в светлой, но захламленной Стиртиной комнате, уставленной незастеленными кроватями, между которыми валялись какие-то игрушки, а на спинках стульев серела чья-то одежда.
Бируте Стиртене, вошедшая вслед за гостьей, густо покраснела и виновато залопотала:
– Есть у нас и поприличней комната… Милости просим. – Хозяйка упрямо толкала Габриеле к двери: – Все у нас поломано, раскидано, смято, и все из-за этой непролазной работы… Заходите сюда, учительница. Садитесь.
Габриеле послушно села за большой круглый стол с шестью стульями. Комната, видать, предназначалась для гостей, но по углам торчали какие-то баулы, огромная корзина и несколько эмалированных ведер, должно быть, с топленым жиром или с вареньем. Пол был грязен, с крупными пятнами от чьих-то следов, хотя, судя по редким чистым островкам, его недавно мыли.
– Хорошая комната, – сказала Габриеле, глядя на окна.
– Всего у нас четыре, не считая кухни… Спасибо председателю – колхоз дом построил. Правда, мы немного задолжали, но расплатимся…
– И центральное отопление есть? – пропела Габриеле, заметив за обвисшими занавесками гармошку радиатора.
– Местное, но не бог весть что, – пояснила Стиртене. – Пока плиту топим, тепло. Но все-таки с печным не сравнишь. Хороший дом, что и говорить.
– Вам такой и нужен. Ведь вас много…
– Как же… Детей семеро да мы с мужем… А скоро и прибавление, – Бируте Стиртене погладила живот и застенчиво улыбнулась, словно прося прощения за такой необдуманный шаг – хватило бы, мол, и семерых.
Габриеле хотела спросить у Бируте, где муж, но вовремя спохватилась: через открытую дверь увидела в другой комнате человека, растянувшегося в резиновых сапогах на потертом диване.
– Прилег, бедняга, – выдохнула Бируте, поймав настороженный взгляд гостьи, и тут же прикрыла дверь. – С шести часов утра на ногах. Пока накормишь телят, придешь с фермы, уже одиннадцать, и к своей скотине: корову подои, свиньям корма задай… Пока поешь, пока какую-нибудь мелочь по дому сделаешь, глядишь, и обедать пора. Снова ферма, снова своя готовка. И так с утра до вечера крутишься как белка в колесе. А Пранюс, тот корма возит…
– Но на ваших плечах семеро детей! – не стерпела Габриеле, возмущенная снисходительностью Стиртене.
– Они друг за дружкой присматривают, учительница. А самый старший нам с мужем помогает, за телятами ухаживает. Нет, у меня с детьми никакой беды нет, все уже самостоятельные, если не считать малышей…
– Они плохо учатся. Пропускают уроки.
– Не из распущенности, учительница, по надобности пропускают.
– Знаю, что по надобности, – согласилась Габриеле, чувствуя свое полное бессилие. – Но родители в первую очередь должны заботиться о том, чтобы их дети получили образование. В этом их будущее. Неужели оно вас не беспокоит?
– Беспокоит, каждую мать беспокоит. Но стоит ли стараться, чтобы все дети профессорами стали? А может, они сами не хотят? Зачем же их учить насильно? Пусть в колхозе работают, телят кормят, как и мы с отцом… В жизни всякие люди нужны. Посмотрим – может, младшенький будет способнее к наукам?
– Не будет, если вы не измените своего отношения к учебе, – откровенно сказала Стропене. – Для того чтобы дети учились, нужны условия. Вы их создаете?
Стиртене защитилась от ее холодных нравоучений застенчивой улыбкой, ничего не ответила, но растерянный взгляд как бы говорил: «А мне? Кто создал условия мне?»
«И плохо, что не создали. Не была бы такой неудачницей», – ответила она Стиртене взглядом и встала со стула. Габриеле знала, что это бестактно, но женское любопытство взяло верх над достоинством, и, выдержав паузу, она спросила:
– Вы, наверно, очень любите своего мужа, если нарожали столько детей?
– Вы думаете – дети только от любви?.. – ответила вопросом на вопрос Стиртене, удивленная ее простодушием.
– А как же иначе?
– Может, оно и так… Но что это за штука – любовь, право, не знаю… Просто не думала…
– Неужто вы никогда не любили?
– Почему? Детей любила и люблю. Потому-то они и погодки… Сердце замирает, когда прижмешь к груди теплый, нежный комочек. И мне хватает… такой любви… Спросите, почему пошла за Стирту? – Она помолчала и добавила: – Не хотела в старых девах остаться. И детей хотела… Да и Пранас в ту пору так зверски не пил. Ну, я и пошла за него, не привередничая и наперед зная, что не золото мне привалило…
– Я сама мать. Я знаю, как много значит любовь к своему ребенку… Но кроме любви к детям есть…
– Ничего, кроме нее нет, – сказала Стиртене.
– Есть, – повторила Габриеле и почему-то покраснела.
То ли она вдруг устыдилась своих заскорузлых назиданий, то ли Стиртене обидела ее своей непреклонностью, сказав горькую для нее правду и не уступив.
– Для полного счастья, – промолвила Габриеле, – надо, чтобы и тебя любили.
– Меня дети любят, учительница.
– И вы их, Стиртене, любите, – перевела она слова хозяйки в повелительное наклонение. – Только не на словах, не прижиманиями к груди. Создаете ли вы им нормальные условия для учебы?
– Да ну вас, – обиделась Стиртене. – Вам легко говорить. Будь вы на моем месте…
– На вашем месте, – посуровела Габриеле, – я бы в первую очередь подумала перед тем, как подарить жизнь еще одному… У вас нет чувства ответственности, Стиртене, – выпалила Габриеле и шагнула в дверь, даже не прислушавшись к сердитому бормотанию хозяйки.
Посещение Стиртов так запало в душу, что она еще долго вспоминала о нем.
Поэтому и сейчас, возвращаясь по деревенской улице домой, Стропене вспомнила грязную комнату, уставленную незастеленными кроватями, и мужчину в резиновых сапогах, лежавшего на потертом диване. Всех детей Габриеле тогда не видела, вокруг бродили только младшенькие и их нянька – восьмилетняя девочка с тупым выражением лица. В деревне поговаривали, будто у нее не все дома… Несчастная семья… Несчастная мать… Проклятый пьяница-отец… И эта обделенная судьбой, обездоленная женщина еще находит в себе силы смеяться, защищать мужа, гордиться своей материнской любовью… Вряд ли осознает, как она несчастна!
Габриеле уже не идет, а бежит. Ей кажется, что, опоздай она хоть на минуту, случится что-то непоправимое, о чем придется жалеть и жалеть, может быть, всю жизнь. «Господи, какая я дура… какая дура!» – шепчет она, ничего вокруг не видя, кроме трехэтажного замка из жженого кирпича, замка, построенного для всех бывших, нынешних и будущих председателей. Кроме просторных светлых комнат и усталого Андрюса на белой подушке. «Только бы он не проснулся и не ушел… только бы не ушел…»
Стропус спит.
Вспомнила о его любимом блюде – картофельных оладьях со сметаной. Габриеле бросается готовить. Трет картошку, смешивает с яйцом, а когда Стропус просыпается, оладьи готовы: только подноси к кровати.
Он дивится ее расторопности и рвению. Давно такого в доме не было, давно.
Андрюс добродушно посмеивается над ее услужливостью, а она наивно верит, что эти ее хлопоты если и не преобразят его, то во всяком случае возымеют какое-то действие. Стропус прячет усмешку, умеряет свою прыть, и им так хорошо, как в самые счастливые годы их молодости. Длится это час или два. Затем он снова уходит с головой в хозяйственные дела, хоть и мог после поездки подольше понежиться в постели.
– Некогда даже передохнуть, – сетует он, поймав укоризненный взгляд Габриеле. – Разве надо было бы за каждой шавкой следить, будь у людей совесть и чувство ответственности, уважай они себя и других. А теперь только и гляди, чтобы свинью не подложили. Я не говорю, что все такие, но есть все же типы, которые не могут не совать палки в колеса, особенно если колеса хорошо крутятся и воз поднимается в гору… Зависть, злость застилает им глаза. Взять хотя бы и этого увальня – Антанаса Гириниса. Еду я вчера, смотрю, как трактористы работают, и вдруг вижу: стоит «Кировец». Ты представляешь себе, что значит простой такого исполина, хотя бы пятиминутный, да еще в страду? По меньшей мере полгектара невозделанной земли! Подхожу – да это же Унте. Копается, возится над гнездом какой-то пичуги, и делай с ним что хочешь. Он, видите ли, должен это гнездышко перенести, чтобы под ножами культиваторов яички не погибли… Ну, скажи, есть у человека разум?
– А может, в этих яичках уже и птенцы шевелились? – спрашивает Габриеле.
– Птенцы? – сердится Стропус. – Положим, птенцы. Какое ему дело? Если из-за каждого птенца прыгать с трактора, то у нас осенью хлеба не будет.
– Доброе у него сердце, – бросает Габриеле, притворившись беспристрастной, хотя ее так и подмывало возразить мужу.
– Нарочно хотел позлить. Он меня терпеть не может. Как, впрочем, и я его.
– Что же вы не поделили?
– Жизни. Я за сегодняшний день, за прогресс, за будущее. А он за девятнадцатый век. Старье!..
«Занятный экземпляр…» – собирается сказать Стропене, но сдерживается.
Габриеле остается одна, и еще долго ее мысли вертятся вокруг Унте. Вспоминает о том, что слыхала о нем от других, думает о не проклюнувших скорлупу пичугах. «И впрямь занятный экземпляр… Видно, потому мне и приснился такой дурацкий сон, хотя ничего подобного в голову никогда не приходило. Ей-богу, бред сивой кобылы…»
V
– …Так вот как, товарищ Антанас. А теперь позвольте спросить, почему вы переносите птичьи гнезда?
– Какие гнезда, товарищ Стропене?
– Как это – какие? А за что председатель снял вас с трактора?
– Он меня не снял. Он заменил его. Я снова получил свою «Беларусь». И только рад. Не по мне эти новинки… С такими не поля пахать, а людям кости ломать. Железные чучела, чтоб земля дрожала.
– И все-таки почему вы эти гнезда?.. – Габриеле смотрит на Унте глазами простушки, удивляясь совпадению: снился человек, и вот, пожалуйста, он перед тобой.
– Ваш муж из мухи слона сделал, – говорит Унте, недоверчиво косясь на председательшу. – По правде говоря, пару гнезд я перенес, но чтобы все время трактор простаивал… Чепуха!
– Я вас не осуждаю. Напротив. Мне нравятся добрые сердца…
– Добрые сердца? Да каждый нормальный человек поступит так же, – оттаивает Унте, обласканный теплым словом Габриеле. – Во всяком случае должен так… Ведь речь-то о живой твари. Представьте себе: вы сидите верхом на этом железном чучеле, все у вас как на ладони. Только остановитесь, и сразу же из-под гусениц облако пыли. Но вы – вперед и только вперед, выполним, так сказать, план сева в срок. Жмете, аж искры летят. И вдруг тут же, в двух шагах, фьюить – и вверх! Жаворонок!.. Ясное дело: гнездо! Неужели, думаешь ты о себе, ты, бандюга, птичий дом разрушишь? Притормозил я, значит, малость, слез и перенес гнездышко в безопасное местечко – туда, где культиваторы прошли. И еще палку воткнул: дескать, в оба смотрите, не напоритесь, сеятели!.. А для товарища Стропуса такой поступок чуть ли не преступление.
– Стропус – хозяйственник, вы – поэт, – вырывается у Габриеле. А ведь хотела сказать «чудак». – То, что одному кажется черным, другому – белым. Честно говоря, мои симпатии скорее на стороне поэтов, нежели хозяйственников.
– И все-таки выбрали хозяйственника, – ехидно замечает Унте.
Габриеле снисходительно улыбается:
– Разве с вами так не бывает: собирались сделать одно, а вышло по-другому?
– У меня всегда по-другому…
– Вот видите, – вздыхает Габриеле, исподлобья поглядывая на Унте. – Оба мы неудачники.
Унте что-то бормочет себе под нос и ускоряет шаг. Идет и разглядывает раскинувшуюся вдали деревню, где особенно выделяется двухэтажное здание школы: красное, со сверкающей на солнце жестяной крышей, возвышающейся над вереницей колхозных домиков.
«Что это вам в поле понадобилось так далеко от дома?» – подмывает спросить у Габриеле, но она, как бы желая насытить его любопытство, сама начинает разговор:
– Почему вы пешком? Как ни крути, версты две будет, не меньше.
– Целых три, – уточняет Унте, и Стропене почему-то кажется, что он подтрунивает над ней. – Будь вдвое больше, я лучше на своих двоих, чем на мотоцикле. Но не всегда время есть.
– Да, мотоцикл – ненадежное средство сообщения. Недаром говорят: купил мотоцикл, заказывай гроб.
– Нет, я не поэтому, товарищ Стропене. – Унте вдруг поворачивается к Габриеле, мотает большой кудлатой головой – он удивлен и даже рассержен. – Когда я на мотоцикле, то шлем не надеваю – стесняет он меня. Уж если суждено разбиться вдребезги, то не как солдату, а как свободному человеку. Нет, не из страха я больше доверяю Своим ногам – просто хочется отдохнуть от грохота, от смрада и от пылищи.
– Само собой… – соглашается Габриеле. – Каждая работа, пусть даже самая приятная, с течением времени надоедает. А когда такой жуткий грохот, пыль и вонища от бензина… Может, это вас обидит, но я не люблю технику. Охотно пользуюсь ее услугами, но не люблю.
– Вы не любите, а я ненавижу, товарищ Стропене. Когда-то она меня ошарашила, даже напугала, я боялся ее, как какого-то загадочного чудища, растущего не по дням, а по часам, а теперь ненавижу. И охотно отказался бы от всех удобств, только бы не иметь с ней дела.
– О-ля-ля! – удивленная Габриеле хлопает в ладоши. – Механизатор, и такие речи!.. Вы занятный человек. Объясните же мне, неразумной, почему вы из всех профессий выбрали самую ненавистную?
Унте задумывается: на такой вопрос сразу и не ответишь.
– Так уж вышло. Вы же сами сказали: собирались сделать одно, а… вышли за хозяйственника.
– Я? – Габриеле натянуто улыбается, делает вид, что не поняла намека Унте, но вскоре поджимает губы, и в глазах вспыхивают искорки. – Откуда вам известно – может, тогда мой муж не был хозяйственником? Не слишком ли сурово и опрометчиво вы судите о тех, кого не знаете? Потом, разве он не может быть с хозяйственниками хозяйственником, а с женой – другим. Преданным, любящим. Не правда ли? Фу, какой вы неотесанный, товарищ Антанас, ничего не смыслите в отношениях между мужчиной и женщиной… Хозяйственник! Другая на моем месте рассердилась бы на вас.
– Гм, гм, – незлобиво мычит Унте, вглядываясь в какую-то точку поверх ее головы.
Габриеле криво усмехается. У нее больше нет никакого желания шутить, показывать свою женскую силу. Так вот он каков, этот Антанас Гиринис, ласково прозванный селянами Унте! Шагает рядом, как тень, и ему все равно, будто ты и не женщина вовсе. Улыбайся не улыбайся, намекай не намекай, все отскакивает от него, как горох от стенки. Пень! Такого если что и расшевелит, то только пол-литра…
Со стороны деревни мчится мотоцикл. Все ближе и ближе. Уже можно различить и водителя – Робертаса Марму. Он сидит за рулем, разинув рот, напялив на глаза огромные защитные очки, насмешливый, презирающий всех. Промчался мимо, сверкнул молнией и скрылся, обдав Габриеле и Унте вонью. На заднем сиденье – Живиле Кукурите, знаменитая птичница, которую недавно Альбертас Гайлюс прозвал Венерой. Рот у нее до ушей, улыбается Унте и Габриеле, кокетливо машет им левой, а правой обнимает за талию банщика. («Смотрите, мол, и завидуйте! Как мне хорошо! Какая я счастливая!»)
– Эта встреча вам ни о чем не говорит? – ехидничает Габриеле, поймав косой взгляд Унте.
– О чем именно? – Унте морщит лоб, стараясь что-то выудить. – А-а!.. Глупейшее недоразумение!.. И все из-за этой водки треклятой. Несчастная девушка.
– Легкомысленная, – коротко клеймит председательша промчавшуюся Живиле.
– Марма – известная личность… К тому же он ей в папаши годится. Что-то не верится, чтобы она с ним…
– А ей-то что? Не разбирает… С фабрики к ней на птицеферму толпами…
– Развелись тут всякие, только смотри, чтоб беду не накликали…
– А вам-то чего расстраиваться? – не унимается Габриеле. – Мотылек на то и мотылек, летит на огонь, чтобы сгореть.
– Ну уж… ну уж… – бормочет Унте, вдруг задумавшись. Говори ему сейчас что хочешь, все равно ничего не услышит, все пропустит мимо ушей, в них ни слова не застрянет. Унте кивает, поддакивает, только бы не вспугнули его мысли. Да это, может, и не мысли, а какие-то отрывки, смесь красок и безымянных предметов, запрудивших сознание.
– Ваше подворье, – слышит он, будто спросонок, голос Габриеле.
– Прощайте, – бросает Унте, опомнившись. – Будьте здоровы!
– И вы… будьте. – Габриеле протягивает руку: – Было очень приятно.
– Извините, моя рука… – Унте растопыривает длинные, измазанные мазутом пальцы.
– Ничего, ничего, – частит она, сжимая своими белыми пухленькими пальчиками его пятерню.
– Раз ничего, то ничего, – Унте лениво пожимает плечами и сворачивает на подворье.
– Надеюсь, не последний раз…
– Гм… – хмыкает он. И уходит, даже не взглянув на председательшу, провожающую его взглядом до тех пор, пока он не скрывается за углом избы.
Унте останавливается возле веранды, запрокидывает голову и долго смотрит в синеву, кое-где запятнанную карликовыми белыми тучками. Обрывки мыслей, смесь каких-то картин и предметов отрывают его от земли и на невидимых крыльях уносят куда-то ввысь, в желанную и недосягаемую даль.
«Дети еще, видно, не вернулись из школы… Салюте на ферме… Борщ и мясо на плите… Поесть и скорее в кровать, потому что пополудни снова на трактор. И так до завтрашнего дня… до позднего завтрака завтрашнего дня». Ноги еще касаются земли, а мысли уже воспарили над ней. Унте жмурится, мотает головой, как пьяный: что это – не белые карликовые тучки в небесной сини, а сверкающий, переливающийся всеми цветами радуги прибой в бесконечном морском просторе. Какое диво! Какое диво! Не нужны тебе ни билет, ни виза, все видишь: и бурное волненье океана, и затерявшиеся там острова, и корабли, которые, может, через час-другой навеки поглотит пучина…
Где-то в сарае остервенело кудахчет курица. Весь мир должен знать о том, что она снесла яичко. По соседству не унимается другая. Без устали поет кочет, крякают утки, облепив колодец. Салюте с утра забыла открыть воротца, чтобы пернатые могли добраться до пруда, а Унте такая мысль и в голову не приходит. Он все еще парит над морем-океаном, наконец покидает его пределы и переносится в тайгу, над которой такое же синее небо, усеянное белыми тучами. А из тайги в мгновенье ока перелетает на епушотасские равнины, занесенные свежим, только что выпавшим снегом и освещенные лучами заходящего солнца так, что глазам больно. Унте прищуривается, выскальзывает со двора, видит следы машин на ленте асфальта и нескольких женщин, минутой назад вышедших из стоящего автобуса.








