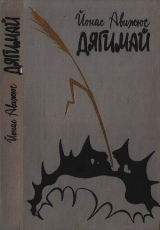
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
II
А Пранюсу Стирте на ордена начхать. Пусть и самого высокого пошиба – это все-таки не сто граммов, не жбан отменного пива, а уж о бутылке «чернил» и говорить-то нечего, лучшего напитка для охмурения не сыщешь, пей без закуски сколько влезет. Несчастные люди, сидят часами из-за этих цацек в президиуме, нет, чтобы на возу с кормами посидеть, когда по всему телу хмель приятно растекается, когда сердце полнится такой добротой, что кажется, каждого встречного и поперечного облобызаешь, подарками засыплешь, посулами и ласковыми словами и, будь твоя воля, каждому по бутылке всучишь; даже вот этого телка, который только что промчался мимо, задрав хвост, хочется похлопать по заду… На этом возу, потягивая из бутылки, ты благодетель благодетелей, царь царей, президиум всех президиумов – вот каким богатеем делает тебя это чертово зелье! Так выпьем же за него! Чтоб с утра до вечера быть веселыми, а ночью сладко спать! Чтоб всегда у нас было кого запрячь в телегу – да здравствуют гнедые! Чтоб всегда вертелись колеса, был полон воз – да здравствуют корма! Чтобы, забираясь на воз, было что в карман сунуть – да здравствует эта сладкая, горькая, благословенная. Чтобы никогда никакая злая рука не свергла тебя с этого тарахтящего трона, с которого белый свет кажется таким добрым и милым! Ура!!!
Парень с девкой миловался,
муж с женою баловался,
с кошкой кот у норки мышки —
и пошли у них детишки…
Ой, делишки, ой, дела,
так семья росла, росла!
– Так что, Стирта, и снова весел? Поешь?
– А, это вы, председатель? А я-то думал, чего это лошади встали? Уперлись, как в стену, гады, я чуть себе язык не откусил. Пою, председатель. Весело. А чего плакать, если мочи и без слез полно? Надо быть веселым, председатель. Ведь вся наша жизнь на оптимизме держится. Опля!
– Погоди, погоди! – Андрюс Стропус хватает вожжи, придерживая лошадей.
Стирта сникает, беспокойно глядит на председателя, почуяв что-то неладное. Пирсдягис, развернувший на уборке корнеплодов широкую деятельность, грозил ему, но Пранюс на его угрозы только рукой махнул. А теперь этот старик словно из-под земли вырос, прячется за спиной председателя и рожи строит. Неужто вместе со Стропусом примчался на его машине, которая во дворе Моркуса вся грязью заляпанная стоит? Барин! Конец света, и только, если и Пирсдягис барином стал!
– А, и ты здесь, Еронимас? – храбрясь, процедил Стирта.
– Не хотел я, но так надо, – отрубил Пирсдягис. – Слезай, я буду корма развозить.
– Ты? – Стирта с минуту смотрит на конские хвосты, шмыгает своим сизым носом и постукивает огрубевшим мизинцем по виску. – Никогда у тебя там винтики на месте не стояли, а теперь и вовсе разболтались.
Андрюс Стропус широко улыбается. Недоброй, злорадной улыбкой, хоть бери и в рожу ему плюнь.
– Слезай, слезай, Пранюс, – умасливает его, явно издеваясь. – Спустись со своих высот на грешную землю. Поедем на поля: там твоего оптимизма чертовски не хватает, не убрать нам без него корнеплоды.
Стирта откидывается, пятится назад, словно его пытаются за ноги с воза стащить.
– О-о-о, – стонет он, разевая рот, как рыба, выброшенная на берег, и обеими руками тычет то в воз, то в лошадей, то себя в грудь, пока, наконец, обретя дар речи, не выдавливает: – О-о-о-ох! Эту ответственную работу будет делать Пирсдягис?! Этот сморчок?! Опомнись, старик! Ведь ты задыхаешься, когда в штаны влезаешь. А чтоб вилами махать, мужик нужен. Богатырь! А ты кто? Муравьишка! Мускулов треба. Коняги-то какие! Как понесут тебя. Не удержишь и ни за грош, что называется, пропадешь… В могилу до срока захотел, старик. Ладно, слезаю, председатель, но Пирсдягису гроб заказывай. Вы только подумайте, пятнадцать возов за день! Это вам не пятнадцать рюмок…
– Пяти и то не наберется, Пранюс, так что десять отними, – тем же слащавым голосом произносит Стропус.
– Пусть будет пять, председатель, спорить не стану, пусть будет пять. Но зато какие! Пока съездишь, воз хоть выжимай. Гребешь, гребешь, пока подденешь вилами. А уж когда подденешь, то легче камни поднимать, прямо-таки потроха выворачивает, председатель…
– Это все потому, Пранюс, что ты у каждого двора простаиваешь. Двадцать минут езды, а ты копаешься два-три часа.
– Копаюсь… Почему копаюсь? Всякое бывает, председатель… Вы что думаете, этот вот не будет копаться? Нашли мне экспресс, председатель. Неужто Еронимаса Пирсдягиса не знаете?
– Пирштдягиса, почтеннейший, – поправляет Стропус.
– Нет, Пирсдягиса, – возражает Стирта. – Кто же его иначе называет?
Тут Стропус перебивает, их торг ему давно надоел.
– Ну хватит вам, хватит, – говорит он Пранюсу, который вжался в клевер так, словно пули над ним свистят, только ступни белеют. – Слезай-ка, пусть на ферму едет дядя Пирштдягис. А мы с тобой в машину и на поля… Сам видишь, какая осень. Старики, дети и те трудятся, учеников из Епушотаса привезли, а ты, такой могучий мужик, с утра до вечера баклуши бьешь. Стыдно, товарищ Стирта.
– Вот так! – как бы ставит под словами председателя печать Пирсдягис.
– Хорошо, я слезу, председатель. Слезу, – наконец уступает Стирта. – А на мое место пусть хоть сто тысяч чертей!.. Сей момент, сей момент… Только дайте привести себя в порядок. Имею право: каждый, изгнанный из дому, имеет право вещички свои прихватить.
– Ись дом себе на возу устроил! – шипит внизу Пирсдягис. – Лоботряс! И такой до сих пор корма возил! Цудо просто, цто весь скот в колхозе не подох.
Стирта ложится на спину. Господи, какое грязное небо! Каплет и каплет, как будто невыжатое белье развесили. Эх, кабы так бутылки наполнялись, как лужицы на полях… Но куда там! Сколько было на дне, столько и осталось. Пранюс поворачивается на бок, высасывает последние капли портвейна, потом мочится в бутылку, закрывает ее наглухо и ставит вверх горлышком в клевер. Отличный цвет, хи-хи… Как из магазина за рубль с копейками. То-то обрадуется Пирсдягис, когда найдет чем горло смочить… Пранюс скатывается с воза, похихикивая, и, даже не взглянув на мужиков, чешет в деревню.
– Эй, эй, Стирта, опомнись! – кричит ему вдогонку Стропус. – Со мной шутки плохи.
– И я такой же, – отрезает Пранюс, расхрабрившись от выпитого портвейна.
У котяры есть подруга,
а у мужа есть супруга,
а у парня, коли смелый,
есть всегда бутылка белой.
– Ладно, иди, иди. Но смотри, как бы ты свои сотки не пропел! – зло бросает Стропус и, не дождавшись, пока Пирсдягис взберется на воз, направляется к машине.
А Стирта чешет прямо через деревню, но на сей раз не сворачивает ни в один двор. По идее, надо вроде бы в более приличную одежду влезть, но настоящего труженика по чему узнаешь? Может, по галстуку или по белым рученькам? Нет! Ежели им и впрямь рабочие нужны – а их никогда на фабрике не было в избытке, – то и такого, ненадушенного, примут. И без всяких разговоров, шутка сказать, такую махину строят! Экскаватор на экскаваторе, кран на кране и еще всякая там другая техника. Вот где простор для человека, действуй, это тебе не грязевые ванны Стропуса на уборке сахарной свеклы!..
– Кто тут у вас самый главный?
Самого главногонет – занят очень. Тот, кто пониже чином, тоже занят, а тот, кто пониже того, кто пониже, – свободен, но ничего не может: строго-настрого приказано случайных людей из колхоза не брать. Напрасно Стирта пальцами показывает: примите, мол, не пожалеете, ответ один – нет и нет. На другой день та же катавасия. Правда, пробился он к самому главному, чуть ли не руки ему целовал, умолял: дайте работу, но должен был несолоно хлебавши воротиться домой, поджав хвост.
Бируте без запинки выпалила: просадишь свой огород. Стирта ощетинился: не бойся, не посмеет и ара тронуть, как ни крути, многодетная семья. Но, оставшись один, Пранюс подумал: может, и вправду со Стропусом шутки плохи, он тертый калач, что-то Пранюс не слыхивал, чтобы кто-нибудь его вокруг пальца обвел… Иные подтрунивали над Стиртой, подначивали: смотри, Пранюс, как бы тебе иждивенцем супруги не стать. Иждивенцем? Вы что – рехнулись? Тогда баба его совсем со свету сживет. Попробуй сорганизуй при ней бутылочку. Чем так, лучше петлю на шею – и под балку.
И вот Пранюс Стирта топает по размякшему картофельному полю с корзиной в руке. Поначалу он подался на сахарную свеклу, к старику Сартокасу – противная работа, но все-таки более или менее чистая, – но Стропус погнал его на картошку. Там, где плуг прошел, где клубни наверх выворочены, там уже и вода сочится. Сапоги засасывает, едва ноги переставляешь, весь по колено в глине. А тут еще корзину с картошкой тащи, и не только с картошкой – землищи столько прилипло! Мало того, ссыпай ее в мешки, а потом эти мешки, тоже грязные, насквозь промокшие, грузи на платформу, прицепленную к трактору. Уж Унте куда лучше: сидит себе за рулем – и пи-пи-пи… Конечно, и он весь день с мешками возится: то грузит на платформу, то помогает ссыпать картошку на складе, но все равно его работа не то что у Стирты – серьезная, подобающая мужику… А тут копошись, копайся в грязной жиже, пока какую-нибудь картофелину нашаришь, порой по ошибке камень выудишь, аж в глазах зелено. С утра до вечера спину не разгибаешь, поясницу так и ломит. К чертовой матери такое золотоискательство! Был бы ты на поле один, собрал бы то, что наверху лежит, что глаз видит, и – полный вперед, даже корзину на землю не ставил бы. Но вокруг люди, видят, следят, к тому же каждый из себя начальника строит, контролирует: то бригадир, то руководитель подотдела, то сам Стропус, готовый из-за паршивой картофелины горло перегрызть.
– Товарищ Стирта, смотри у меня! Слишком много оставляете, – остерегает Стропус, носком сапога порывшись в земле.
– Оставляю? Как не оставишь, председатель, ежели очки дома забыл! Зрение, председатель, хромает.
– Дело твое, – не очень сердится Стропус. – С борозды два мешка. Такова норма. А при желании можно и три собрать. Правление решило: все, что сверх нормы, – работающим на уборке.
Стирта не рвач, но тут же прикидывает, сколько бутылок «чернил» можно купить за мешок картошки. Черт с ней, с этой сверхнормой! Хотя кое-кто так целую тонну заработал…
Отдав распоряжения, одного поругав, другого похвалив, Андрюс Стропус сворачивает на полевую дорогу. Не магистральную, но посыпанную гравием, с канавами для стока воды. Нынче везде на колхозных полях такие дороги. Ухлопали на них немало, но через год-другой денежки окупятся, хотя вряд ли подсчитаешь, сколько техники было сломано, сколько топлива перерасходовано, сколько нервов испорчено, пока вязли в грязи.
– Так рано! – удивляется Габриеле.
– А разве не пора уже обедать?
– Пора, но я думала…
– Ты думала… Нет, голубок, в колхозной столовке пусть холостяки питаются, а отцу двоих детей негоже, – шутит Стропус, стаскивая в прихожей грязные сапоги. – Как наш наследник?
– Крикун, – тихо произносит Габриеле. – Тебе повезло, он только что заснул…
Пока Стропус переодевается в сухую одежду, умывается, причесывается, опрыскивает себя одеколоном, Габриеле небрежно накрывает на стол, и вот уже по дому плывут такие запахи, что слюнки текут. Но счастливому отцу не до запахов, он входит в спальню и застывает возле коляски, покрытой нарядным голубым покрывалом. В ней на белой пуховой подушке спит, запеленутый, как гусеница, его отпрыск. Стропус наклоняется и внимательно разглядывает розовое личико. Смотрит так долго, что ребенок, как бы почувствовав ласковый взгляд, расплывается в счастливой улыбке, и на его щечках появляются две симпатичные ямочки.
– Габи, эй, Габи! – шепотом зовет Стропус жену и манит ее пальцем. – Иди сюда. Скорее!
– Красивый будет хлопец, – говорит Габриеле, и улыбка застывает у нее на губах.
– Мы его назовем Аудрюсом. Небольшая замена букв в моем имени, а какой эффект! Хорошо придумано, не так ли?
– Я бы дала ему другое имя.
– Какое?
– Еще не знаю, но другое.
– Если хочешь, можно и другое. – Стропус послушен как никогда. – Потом разве важно, как мы его назовем? Самое важное, что у нас сын! А я, признаться, уже отчаялся, думал, не дождемся наследника. Я человек не старорежимный, не суеверный, но как-то приятно знать, что фамилия Стропус не исчезнет.
За столом разговор заходит о колхозных делах. Габриеле рассеянно слушает мужа, изредка вставляя словечко. На лице у нее знакомое выражение скуки, но прежней враждебности нет, ее вытеснили странное сияние глаз, скрытая насмешка, время от времени проступающая на полураскрытых губах, отчего они в ту минуту кажутся такими чужими и отрешенными. Еще задолго до родов Габриеле очень изменилась, однако к тому, чем жил Стропус, все равно осталась безразлична. Сидит с ним и ругает проклятую осень, жалеет, что урожай вовремя не сняли, опоздали на целый месяц, но видит она не потери, причиненные непогодой, не беду, а только неудобства для себя: никуда, мол, в такую слякоть носа не высунешь, а выйдешь – и прощай туфельки.
Андрюс Стропус, тот все время себя подбадривает: все-таки все винтики крутятся быстрее, чем он надеялся. Люди-то оказались не такими, как он о них думал, а куда лучше. Задвигались, зашевелились. Раньше, до того, как разбушевалась стихия, каждого упрашивай, на каждом шагу агитируй, а теперь слово сказал – и мигом делают. Пенсионеры и те вышли на поля, чтобы хлеб от погибели спасти. Многие предложили свои избы и бани для просушки зерна, потому что колхозная сушилка с такой сумасшедшей нагрузкой не справится, такого еще не бывало, чтобы почти каждый колосок надо было у дождя отвоевывать. Если одними косами и жатками, то пол-урожая в поле останется. Но Антанас Гиринис, спасибо ему, молотилку усовершенствовал, очистку зерна ускорил… Казалось, никому не нужное ископаемое, музейный экспонат, а надо же – голова на плечах. И про свои прямые обязанности не забыл… Бывает же так, думаешь о человеке одно, а он совсем другой. Был для тебя вчера хламом последним, а сегодня, глядишь, – мужик, каких мало, хоть к награде представляй.
– Унте?!
– Да, он. Чего вытаращилась?
– Ничего…
– Как ничего? В зеркало посмотрись.
Андрюс Стропус отодвигается от стола. От его испепеляющего взгляда жена еще более пунцовеет. Красные пятна даже на груди, под распахнутым халатом.
– Не понимаю, чего пристаешь… – чуть не плачет.
– Не пристаю. Я просто вспомнил, что у вас с Гиринисом Унте хорошо дуэтом получалось.
– Ну и дурак же! – Габриеле подскакивает, задевает тарелку, та летит под стол. – С кем меня… Интеллигентку, учительницу!
У Андрюса Стропуса отлегло от сердца.
– Ну, ну. Подойди, поцелую…
III
Навстречу, грохоча, прет трактор с прицепом, до половины нагруженный мешками с картошкой.
Андрюс Стропус не замечает, как сворачивает на обочину и выключает мотор машины. Машет рукой, чтобы Унте остановился. Никакого дела у него к Гиринису нет, просто так задаст ему какой-нибудь вопрос, только пусть постоит, чтобы повнимательней в лицо ему всмотреться. В нос, в глаза, в губы… Идиотское любопытство, стыдно даже признаться.
– Езжай, езжай… – говорит Стропус раздраженно Унте, остановившему трактор. – Спросить у тебя хотел, но вижу… Все вижу! Езжай.
Унте пожимает плечами и уезжает по проселку. «Ну и чокнутый! Хотел, видно, краем глаза посмотреть, нет ли в кабине мешка краденой картошки. Осел! Неудивительно, что жена ему рога наставляет…»
При этой мысли Унте морщится, словно на больной зуб ледяной водой плеснули. Гм… Зря он тогда с этой учительницей связался. Хоть Стропус и осел, но зря. Правда, в тот день было так жарко и так кружилась голова от запаха сена… А в скирде была такая прохлада! И все время перед глазами мелькали оголенные колени Юргиты… Черт знает что с ним в тот день творилось…
Неделю, а может, и больше он без стыда не мог подумать об этой глупой истории. А примерно через месяц все снова повторилось. Он был под хмельком, а ласки Габриеле были такими нежными, поцелуи такими жаркими, что он и растаял как воск на обмолоченной комбайном копне соломы. В субботу была репетиция хора. Но он не пошел, чтобы не встретиться с Габриеле. А в понедельник она сама остановила его, когда он затемно возвращался с полей, где весь день сеял рожь; фары мотоцикла издали осветили фигуру женщины, она стояла посреди дороги, что-то выкрикивала и по-дурацки смеялась. Унте объехал ее, чуть не угодив в канаву, обдав ее облаком удушливых выхлопных газов, и умчался.
– Хам ты, вот кто, – пристыдила она его на следующей репетиции хора. – Как ты ведешь себя с женщиной, которую недавно… Стропус прав, у тебя ни капли интеллигентности.
– Видно, хватает, если я сплю с женой интеллигента, – отрубил оскорбленный Унте.
– Не сплю, а спал. Большое значение имеет здесь, уважаемый, прошедшее время. Заруби себе это на носу, – предупредила его Габриеле, дав тем самым понять, что между ними ничего подобного больше не случится.
Домой они отправились врозь, но вышло так, что неподалеку от своего дома Унте чуть не налетел на Габриеле – та стояла возле колхозной бани.
Ударили сильные осенние заморозки, потом пошел снег, и все растаяло; похрустывая ледком по насту, приближался Новый год. Частенько после репетиции Унте с Габриеле задерживались, возвращались домой на час, на два позже других хористов. Не было в таких долгих задержках нужды, все могло быть короче, потому что после того он ни о чем другом не думал, как только незамеченным прийти домой к Салюте. Но на то, чтобы отряхнуть с одежды соломинки, чтобы придирчиво осмотреть, не осталось ли каких-нибудь подозрительных следов, требовалось время. Такие отношения с Габриеле угнетали Унте, порой он без отвращения и думать не мог об этих припадочных любовных ласках, но сколько ни зарекался не пить подпорченную плевками воду, все-таки пил ее, чтобы вскоре снова в нее плюнуть. Интимная близость оставляла у него чувство подавленности – казалось, совершил преступление, за которое рано или поздно будет держать ответ. Однако отчасти это приносило ему и какое-то смутное удовлетворение… И не мог удержаться от злорадной улыбки при мысли, что этак он самым непотребным образом унижает Андрюса Стропуса, мстя ему не только за себя, но и за Бутгинасову обиду, хотя если бы Унте мог разобраться в своих чувствах, то понял бы, кто на самом деле толкнул его в объятия Габриеле.
На десятилетие со дня смерти матери приехал Даниелюс с Юргитой и сыном Лютаурасом.
Унте хмурился, смотрел, как отец, торжественный и собранный, молится за покойницу, и чувствовал себя как преступник в приличном обществе – только глянут в лицо и сразу опознают. Он надеялся, что Даниелюс не стерпит и оборвет молитву, не желая мириться с пережитком прошлого, но брат почтительно слушал, как отец, а за ним все домочадцы повторяют ее слова. Пахло горящими свечами и еловыми ветками, лежащими перед каждым на белой скатерти. Над ними, как и над словами, витали воспоминания о родичах-покойниках, а вместе с воспоминаниями по комнате бродила тень покойной матери, скликавшая всех в один круг. И никто не обиделся на Даниелюса, когда он искренне сказал, что от старого бога, совершающего чудеса, ничего не осталось, кроме этого стола со свечками, зажженными в память покойной, этого ставшего обычаем обряда, который будет жить до тех пор, пока люди не придумают новые, отвечающие духу времени; ведь человек не может без корней, никогда его душа, как и дерево, не расцветет и не принесет плодов, если взять и отрезать ее от ствола. Юргита согласно кивала. Кивал и отец, хотя то, что говорил сын, было ему недоступно, а вот невестке он верил слепо. Унте вдруг подумал, что для старика Юргита значит не меньше, чем значила и для него, пока он не спутался с Габриеле. Ему стало дурно, даже пот прошиб при мысли о председательше. Он украдкой смотрел через стол, метя в Даниелюса, но то и дело попадая взглядом в Юргиту. Если бы она сидела на другом краю света, а не напротив, он все равно видел бы ее. Она была для него вездесущей. Такая красивая, в черной бархатной юбочке, в черной блузке со стоячим воротничком, обтягивавшей узкие, круглые плечи, на которые была небрежно накинута белая ажурная шаль с длинными кистями. Он подумал, что нет, наверное, такой одежды, которая не шла бы ей, нет такого украшения, которое не подчеркивало бы ее красоту, выделяя ее среди других женщин. А с этим золотым медальоном на груди она казалась просто мадонной. Нет, такую, как она, нигде не встретишь. В целом свете! Юстина спросила, что у нее в этом медальоне. Юргита, загадочно улыбаясь, открыла его и поднесла к губам. Потом сняла с шеи и пустила его по рукам, чтобы каждый посмотрел. Унте принял медальон от Салюте. Ему показалось, что цепочка теплая. Ну да, она согрелась на груди у Юргиты. А может, в руках, которые ее держали? Унте метнул взгляд на крохотную овальную фотокарточку Даниелюса в медальоне и, словно обжегшись, передал украшение отцу. Через силу глянул на Юргиту, на брата, счастливого, гордого, улыбающегося, и с завистью подумал, что Даниелюс, наверное, больше достоин счастья, чем он, Унте, запятнавший свою любовь в объятьях чужой женщины. То, что он не чувствует никакой вины перед Салюте, словно она и не жена, его нисколько не удивляло, между тем Юргита все глубже проникала в сердце; не та, с соблазнительно оголенными бедрами на стремянке в вишняке, а та, первоначальная, приворожившая его пять лет назад, когда он впервые встретился с ней. И в этот святой поминальный вечер Унте снова видел ту, прежнюю, Юргиту – целомудренную, не запятнанную ни похотливой мыслью, ни тайным вожделением, – и он, не сводя с нее глаз, поднимал ее на одну ему доступную, созданную его бескорыстным чувством высоту.
На другой день в Доме культуры состоялся концерт колхозного хора. После концерта начались танцы. Унте постарался первым уйти домой – ему было не до танцев, – но на полпути его догнала Габриеле.
– Зря ты за мной… – сказал он. – Наша песенка спета.
– Стряслось что? – испугалась она.
– Спета, и все. Неужто тебе пяти месяцев барахтанья в грязи мало?
– Боишься, как бы Стропус не узнал? – уколола она. – Эх ты, слюнтяй! А я-то думала, эти штаны мужчина носит…
– Заткнись, – проворчал Унте.
– Он, видите ли, в грязи барахтается! – вскипела Габриеле. – А ты хоть знаешь, что, барахтаясь в этой грязи, ты мне ребеночка подарил?
– Я?! – остолбенел Унте.
– А кто же? Может, святой Антоний? Да, я беременна, благодетель.
– Ну, знаешь… ну знаешь… – пробормотал Унте, извиваясь как угорь. – Как же так… ткнула пальцем в меня – виновен, и кончено! А где эти пять месяцев Стропус был? Неужто ты с ним ни одной ночки? А может, эта честь принадлежит ему?
– Пяти месяцев не потребовалось, хватило и разочка, ты, недотепа. А разочек этот в ноябре был. На всякий случай вторую половину октября и начало декабря добавь. Стропус тогда ко мне даже не прикасался. Стропусом, видите ли, откупиться решил. Негодяй! – И Габриеле, не сдержав ярости, так ударила Унте по лицу, что кровь хлынула из носу.
Унте нагнул голову, шмыгнул носом, но за платком не полез: пусть себе течет, пусть вытечет вся до последней капли, если уж он в такой переплет попал! Наградить чужую семью своим ребенком… Да еще чью – Стропусов!
Несколько дней Унте ломал голову, что же делать. Когда же наконец он нашел выход, минул Новый год. Каждый день он выходил из дому в надежде встретиться с Габриеле, а та, как назло, не показывалась. Унте думал, что увидит ее на ближайшей репетиции хора. Но увы… Юркус чуть ли не со слезами на глазах объявил: товарищ Стропене ушла из хора, и сейчас вся программа ложится на плечи одного солиста – товарища Гириниса. Унте только обрадовался, он не представлял себе, как после всего можно петь дуэтом с «товарищ Стропене».
Встретились же они совершенно случайно где-то в середине января. Унте возвращался из колхозного сельпо, а Габриеле шла навстречу. На ней была нутриевая шубка, на голове шапка из того же меха, а на ногах красные сапожки. Она холодно поздоровалась, ответив на его приветствие, хотела было пройти мимо, но Унте обернулся и, буркнув, что надо поговорить, пристроился рядом.
– Здорово ты тогда мне съездила, – сказал он, не зная, с чего начать. – Крови, почитай, поварешку потерял…
– Крови? – удивилась Габриеле. – Неужто у тебя она есть? А я-то думала, в твоих жилах течет газоль пополам с водкой…
– В самом деле? – так же насмешливо, как она, переспросил Унте. – Так кого же ты собираешься рожать – ребенка или трактор? Махонький такой тракторишко… О, тогда я могу быть совершенно спокоен.
– Не паясничай, – посерьезнела Габриеле. – И уйми дрожь в коленках: у тебя из-за ребенка не будет никаких неприятностей. Стропусу я пока что ничего не сказала, но если все всплывет, я постараюсь его убедить, что отец – он.
– А как же ты сама? – спросил Унте. – Тебя что, совесть не замучает – ребенок все-таки чужой?
– Почему чужой? Ведь я его на свет рожу, а не кто-нибудь.
– А я?
– Твое дело сторона. Выпал, как роса поутру. Подул ветер – и сухо.
– Как сухо? Ведь я отец, я дал ребенку жизнь. И наравне с тобой отвечаю за его будущее. А теперь получится, что этот ребенок какой-то подкидыш, что у него отца родного нет. Бросил под забор и ушел. Уж ежели так, то не лучше ли, чтобы он вообще света белого не увидел…
Габриеле нервно рассмеялась.
– Смотри-ка, что придумал. Выходит, лучше убить, чем уступить Стропусу! Вот не думала, Унте, что ты такой страшный человек.
– Какое же здесь убийство, если, как говорится, он только зачат? Не чувствует, не мыслит, не живет… – Унте помолчал, пытаясь сосредоточиться и свободной рукой дергая полы ватника. – А если он вырастет недотепой, похожим на вас со Стропусом, – это лучше?
– Знаешь, ты сейчас снова схлопочешь по носу, – сказала Габриеле, краснея от злости. – У нас ему будет хорошо, он будет сыт, обут, воспитан, а у тебя он вырос бы таким же олухом, неучем, хамом, как ты.
– Может быть, – спокойно ответил Унте, – но я не хочу, чтобы этот ребенок был похож на вас… А почему, объяснить не могу… Просто чую сердцем, и все. Не хочу!
– Не хочет! Граф нашелся! – рассвирепела Габриеле и уже не шла, а почти бежала, и длинноногий Унте едва поспевал за ней. – Уж только поэтому возьму и рожу. Тебе назло. Пусть живет и глаза тебе колет. Да, теперь уже ни за что, хоть соловьем заливайся, меня не отговоришь.
– Назло, – пробормотал Унте. – Если так, то я тоже могу отомстить тебе: схожу к Стропусу и расскажу всю правду, – пригрозил он, зная, что и пикнуть не посмеет, потому что для него нет ничего страшнее, чем осрамиться перед Юргитой.
– Пошли! Хоть сейчас идем к нему, и выложишь ему все, что хочешь, – Габриеле ехидно рассмеялась. – Стропус никогда не поверит, что я так низко пала. Подумать только – с Гиринисом! С Унте! А если он и поверит, у него хватит ума, чтобы и виду не показать. Ты его, бедняга, плохо знаешь, если думаешь, что, узнав правду, он выставит свою жену за дверь. Нет, он поднимет меня, как кренделек, упавший в грязь, оботрет и снова будет есть, словно кренделек и не падал. Это дело его мужской чести.
– Чести… – Унте растерянно покачал головой. – Я не понимаю такой чести. Что же, вы оба – очень подходящая пара. Как две капли воды: один – двурушник и другая – двурушница.
– А ты?
– Может, и я не лучше, – согласился Унте. – Скорее всего, если уж так запутался. Но я из этого хоть добродетели не делаю.
Габриеле ничего не ответила. Свежий снег хрустел под ногами, воскрешая в памяти что-то давнее, испытанное, и от этой звенящей белизны, залившей все вокруг и проникавшей в сердце унылыми одинокими тенями, становилось удивительно грустно. Просто не верилось, что так нелепо кончится их история, и то не по ее, Габриеле, вине, а из-за Унте; может, потому она так злилась на него, но все-таки изредка нежное материнское чувство к зачатой жизни окатывало теплом, казалось, вернулись те счастливые дни, когда она, молодая, ждала Пярле и когда Стропус ее еще, видно, любил. Она, конечно, тогда могла и ошибиться по неопытности, но что поделаешь. Важно, что они оба чувствовали себя счастливыми. Габриеле думала, что и сейчас, перед этими родами, что-то похожее повторится. Эти глупые мечты Габриеле не лелеяла, но и не могла заглушить их. Зов материнства смешивался со смутными надеждами и желанием отомстить Стропусу («Что заслужил, то и получил, расти теперь чужого ребенка…»). Габриеле без раздумий подчинилась этому зову, ни разу не подумав о том, чтобы прервать беременность; подсознательно в ней жило предчувствие, что только оно, это греховное семя, упавшее на пустырь ее одиночества, может изменить окружающую обстановку, сделать ее не столько благоприятной, сколько другой. Да, главное – другой.
Деревня с обеих сторон дороги глядела на них через окна, а они шли молча, каждый думая о своем, пока Унте первым не нарушил звенящую тишину:
– Будь здорова.
И свернул в свой двор. Перед этим он успел украдкой глянуть в лицо Габриеле: в ее глазах стояли слезы.








