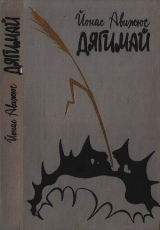
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
Снедаемый бесконечными хозяйственными заботами, Андрюс Стропус долго ворочался в постели и не мог уснуть. В голове кишмя кишели всякие планы, как выжать из колхоза побольше пользы для государства. Стропус в приятных мечтах видел себя с Золотой Звездой Героя и депутатским значком на лацкане, стоит на трибуне в зале заседаний Верховного Совета и слышит гром аплодисментов. Однако нередко светлая картина его геройства и депутатства омрачалась другой: он совершил роковую ошибку, производственные планы безнадежно сорваны, и… Андрюс Стропус даже вздрагивал от ужаса, представив себе, как летит по служебной лестнице вниз, подавленный, вконец развенчанный, обиженный судьбой, которая порой любит посмеяться над своими прежними избранниками. Так что ничего другого не остается, как напрячь все силы, чтобы не осрамиться! Трудись, мозг, трудись!
Зачастую, ночью, осененный какой-нибудь идеей, он вскакивал с кровати и сломя голову бросался в свой кабинет, чтобы записать ее в заветную толстую тетрадку.
Габриеле тихонько ворчала, вздыхала, выказывая свое недовольство, а однажды не выдержала и ехидно выпалила:
– Может, у тебя с желудком не в порядке? Скрутило, что ли? Кажется не с женщиной рядом лежишь, а с чучелом, утыканным иголками…
Стропус обиделся, однако в последний момент совладал с собой, влез в непробиваемые доспехи равнодушия, ибо знал, что это больше всего ранит Габриеле.
– Я давно заметил, что мешаю тебе, – пробормотал Стропус, повернувшись к ней спиной. – Что же, у нас комнат достаточно, с завтрашнего дня я перебираюсь на диван. В самом деле, что за дикий обычай тереться друг о дружку в одной кровати? Он противоречит всем правилам гигиены и санитарии…
– Каким? – помрачнела она. – Повтори.
Он повторил.
Тогда она приподнялась в постели и отвесила ему пощечину.
– Рехнулась… За что?
– Прощальный салют.
– Сумасшедшая!
– Дурак!
– Что же, сладких снов! – он скатился с кровати и зашлепал к шкафу, где лежало постельное белье.
Габриеле бросила ему вслед подушку.
– Убирайся скорей на свой диван и лежи там себе на здоровье со своим колхозом, а я найду себе настоящего мужчину. Вот увидишь!
Стропус ничего не ответил, спокойненько взял в охапку одеяло с простыней, поднял с пола подушку и скрылся в своем рабочем кабинете. Габриеле ждала, когда с грохотом захлопнется дверь, ждала, когда грянет гром, но двери закрылись тихо, даже ручка не звякнула. В эти минуты Стропус был для нее самым страшным врагом, и она люто его ненавидела. Ненавидела за все, а главное – за эту треклятую выдержку, за умение владеть собой, за то, что здравый смысл всегда помогает ему выйти победителем, между тем как ей всегда достается роль униженной и раскаивающейся.
Через несколько дней, поддавшись неукротимому желанию, они как бы помирились, но в полночь Стропус снова вернулся в свою комнату. Габриеле поняла: в их семейной жизни наступил решающий перелом, все теперь стремительно покатится вниз. Что из того, что еще раз переспят вместе, отчаянно стараясь согреть охладевшее сердце поцелуями, что из того? Разверзшуюся пропасть все равно ничем не заполнишь – криками о помощи и громким хлопаньем дверей покойника не воскресишь. Кончено! «Надо бы разойтись, – все чаще думала Габриеле. – Порядочные люди так и делают, когда начинают ненавидеть друг друга. Но что такое эта порядочность? Может, отказ от теплой, сытой жизни, от солидного положения в обществе? Глупости! Этот замок из жженого кирпича порой кажется настоящей тюрьмой. Но не лучше ли она, эта тюрьма, чем сомнительная доля матери-одиночки?»
Между тем Андрюса Стропуса такие сомнения не грызли. Раздел семейного ложа он воспринимал как самое нормальное явление, ничего не меняющее в их взаимоотношениях. Правда, операцию сию можно было провести более деликатно. Но, к сожалению, Габриеле как всегда… Слава богу, буря миновала, и теперь остается только радоваться. Уж ему-то, Андрюсу Стропусу, точно: у него отдельная комната, может вставать и ложиться, когда ему заблагорассудится. Господи, как он до сих пор сносил такое неудобство!
Поэтому Андрюс Стропус был бесконечно удивлен, когда в одно прекрасное утро Габриеле ни с того ни с сего сказала:
– Лучше всего, если каждый из нас пойдет своей дорогой. Пярле не маленькая, поймет. Да и мы еще с тобой не такие старые: глядишь, заново семью создадим.
Андрюс Стропус смотрел на нее, не в силах понять, что же случилось: еще прошлой ночью пришла к нему, хотя после всего почему-то зарыдала в голос, а теперь…
– Тебе частенько приходят в голову такие гениальные идеи? – спросил он с притворным удивлением и принялся за свое любимое занятие – теребить указательным пальцем щеточку усов.
– Почти каждый день. Хотя знаю, что из этого ничего хорошего не получится. Нет, я развода не боюсь, – солгала она, – мне только тебя жалко, как бы ты без меня не загремел в пропасть вместе со всеми своими грандиозными планами.
Он расхохотался:
– А может, наоборот? Ведь недаром в народе говорится: баба с возу – кобыле легче… Только не пытайся хитрить, Габи, я тебя насквозь вижу. Давай хоть раз начистоту.
– А я начистоту: нет мне житья с тобой.
– Может, соизволишь сказать, чего тебе не хватает?
– Прошлого. Тех времен, когда я еще не знала Андрюса Стропуса.
– Но ведь когда-то, кажется, я заменял тебе весь мир…
– Когда-то? Да. Пока я не была довеском к колхозу.
– Лучше скажи: пока не вбила себе в голову, что ты королева английская. Ты жуткая эгоистка.
– Неужто? Ведь я хочу только того, что мне по праву принадлежит: твоей любви.
– Снова любовь! – Стропус осклабился. – А ты можешь ответить тем же?
«Неужто тебе, дурень, не ясно? Разве мучилась бы, если бы ничего не испытывала?» – неприязненно подумала она, но вслух сказала:
– Не знаю. Скорее всего, нет. Любовь может быть только взаимной. Когда взаимности нет, она как свеча: вспыхнула и погасла.
Андрюс Стропус недовольно махнул рукой и поплелся в свой кабинет. Но пробыл он там недолго. Вернулся, решив все раз и навсегда выяснить.
– Главная твоя беда, что ты сама не знаешь, что в жизни ищешь, – продолжил он нелегкий разговор. – А уж если у человека претензии берут верх над возможностями осуществлять их, несчастнее его не сыщешь. Ты, Габриеле, оторвалась от земли, фантазии вытеснили у тебя действительность, и виноват в этом я. Я не должен был лишать тебя хлопот по хозяйству, посылать дочку учиться в Епушотас. Думал, ты разумно распорядишься свободным временем – уйдешь с головой в работу, возьмешься за какой-нибудь научный труд, за диссертацию… Увы, я горько ошибся. Ты оказалась из тех женщин, которые довольны только тогда, когда их по уши загрузят хозяйством и когда они в хлопотах тонут, короче говоря, когда у них не остается времени для всяких там вспыхивающих и гаснущих любовных свечей. Дети, огород, толкотня в очередях – вот из чего складывается их день, день, который считается и счастливым и светлым, если муж приходит домой, не пропив получки. Такие, как ты, не умеют пользоваться свободой, вам подавай ярмо.
Габриеле неестественно громко рассмеялась:
– Что ты называешь свободой? Так называемую общественную работу, пустую болтовню с трибун? Или копание в какой-нибудь никчемной книге, чтобы сварганить научную подделку о принципах педагогического воспитания, существующих чаще всего только на бумаге? Разве эта бессмыслица – не то же ярмо, только надетое иначе?..
– Ты пропащий человек, Габи, – опечалился Стропус. – Я иду навстречу, тяну к тебе руки, а ты убегаешь.
– От чего убегаю? От твоей свободы, что ли? – Она сжала руками спинку стула. – Он, видите ли, дал мне свободу! Ха-ха-ха! Ты лучше меня в кандалы закуй, но душу насыть. Струю свежего воздуха впусти в комнату, называемую нашей жизнью. Душа моя страждет, понимаешь, ты, творец женского счастья?
Андрюс Стропус не выдержал.
– Так, может, тебе ксендза привести? – уколол он, направившись в свой кабинет. – И впрямь от этого Юркусова хора у тебя разум помутился, – сказал и захлопнул дверь до утра.
«Снова хор. Каждый раз хором попрекает. Не понимает, что только там и чувствую себя человеком».
– Там, за широко распахнутыми дверьми Дома культуры улетучивается леденящая сердце скука, пропадают надоевший до чертиков класс, крикливые ученики со своими бесконечными проделками, набившие оскомину книги, в которые приходится изредка заглядывать, когда готовишься к урокам. Господи, какая неблагодарная профессия! Никогда она Габриеле не прельщала. В педагогический попала только потому, что провалилась на экзамене в университет – слишком большой конкурс был, а пединститут в то время спасал не одного неудачника. Теперь и в ее школе полно таких – не учатся, но с божьей милостью перебираются из класса в класс, ибо где-то в министерстве считают, что это лучший метод повышения успеваемости. Вот так и пекут они посредственности, полагаясь не столько на знания своих воспитанников, сколько на инструкции, согласно которым вся ответственность за отстающих ложится на бедные учительские плечи. Конечно, из ее класса выйдут и толковые люди, сейчас не скажешь, в чьем ранце – жезл маршала, а в чьем пусто, хотя, в сущности, тебе абсолютно все равно, в чью голову вдалбливаешь знания – в голову гения или тупицы, – ничего от этого не изменится, и останешься такой же несчастной, какой была, ибо счастье или несчастье не от других зависит, а как бы заложено в нас самих. Мы уже рождаемся такими – счастливыми или несчастливыми. Со своей средой, со своими будущими друзьями и знакомыми, со своим Андрюсом Стропусом. Благословенные или проклятые. Судьба… Лишь когда оказываешься в этом доме, где только музыка и песня, начинаешь верить, будто убежала от судьбы. Будто захлопнула двери в бесконечный, необозримый мир и вступила в крошечное царство сладостного забытья. В царство, где скалит ослепительно белые зубы черное пианино, где снуют такие же, как ты, люди, сбежавшие сюда от житейских невзгод, где пламенеет рыжая борода Саулюса Юркуса, подпрыгивающая в такт музыке. Как хорошо здесь… Удивительно хорошо! Здесь все настоящее, столь необходимое в жизни. И сама ты необходима. Каждому человеку, пришедшему сюда: Юркусу, Унте, слушателям, потому что без тебя в зрительном зале не прозвучит дуэт, не загремят аплодисменты. «Вы удивительно быстро освоили технику вокала, товарищ Стропене», – не может нарадоваться Юркус. «Это верно, с товарищ Стропене петь – одно удовольствие», – вторит восторженному Юркусу Унте. Публика восхищается: «Хорошо у них с Унте получается. Кто бы мог подумать, что председательша такая певунья!..»
Часто в субботний или воскресный полдень колхозный автобус, набитый хористами, петлял по районным проселкам. Песни, смех, остроты. Удивительный день очищения от скверны и забот! А вечером – концерт. В каком-нибудь отдаленном колхозе или соседнем райцентре. Со сцены зал кажется огромным и страшным, но когда перед тобой столько улыбающихся лиц, столько восхищенных глаз, когда слышишь такие аплодисменты – сердце твое оттаивает и ты как бы паришь на невидимых крыльях. И нет-нет да глупая мысль мелькнет: а что, если я сейчас в обморок грохнусь… Вот бы суматоха поднялась! Сотни людей: ах, ах, так прекрасно пела… Срывается концерт, у всех испорчено настроение. И все из-за меня! Из-за меня одной! Оказывается, и я что-то значу…
Габриеле просто вся светится, хорошего настроения хватит на целую неделю.
А Юркус еще нажимает, как говорится, на газ, ублажает.
– Вам сегодня больше всех хлопали, товарищ Стропене.
– Спасибо, но успех заслуженно делит со мной Унте.
– Зачем же делить, товарищ Стропене, – скромничает Унте. – Просто вдвоем лучше получается, чем у одного.
– Ну вот видите, товарищ Стропене…
– Меня зовут Габриеле, Юркус. Или сокращенно Габи. Называй меня по имени.
Юркус застенчиво мотает головой. Как это так – по имени? Ведь перед ним женщина. С положением, учительница. К тому же разница в возрасте.
– Ну, раз так, то называй меня тетей. Тетя Габриеле. Подходит?
Вконец пристыженный Юркус весь багровеет. Что-то бормочет, пытаясь во что бы то ни стало сгладить свою бестактность:
– Давайте поработаем, пока у нас есть время. В страду культмассовую работу придется отложить. Разве что в середине лета выдастся какой-нибудь свободный денек для концерта…
Вот и середина лета, но свободного денька как не было, так и нет. Репетиции и те только два-три раза в месяц – страда всех, кто жив-здоров, на колхозные поля согнала. Правда, в день выпадает часок-другой свободный, но разве отдохнешь, разве выпрямишь спину – бегом на свои огороды полоть сорняки. Кроме того, будь добр и свеклу сахарную прополи (Стропус нынче такую норму закатил!), никто за тебя не сделает, хоть и привезли из Епушотаса полк школьников. Счастливы те из них, кто успел вовремя в пионерлагерь укатить. И Пярле вместе с этими счастливчиками – нечего ползать по междурядьям и обламывать о землю хрупкие ноготочки. Андрюс Стропус намеревался дать норму и учителям, но те стали рвать и метать и не без помощи районо добились победы.
«Что за чертова жадность – посадить, посеять столько, что объять нельзя. Только бы побольше площадей, побольше доходов, только бы место повыше на пьедестале почета. А кто ради этого места день-деньской ишачит? Обыкновенный человек, работяга. А такие вот паны, как Андрюс Стропус, только командуют».
Габриеле не морочила бы себе голову такими мыслями, если бы не человек, имя которого все чаще вызывало у нее приступ ярости. Раньше она ждала, даже тосковала по Андрюсу, а нынче на сердце и легче, и спокойнее, когда его дома нет. Целыми днями напролет она может лежать с каким-нибудь романом в руках, хотя и ста страниц до вечера не прочитает. В голову лезут всякие мысли. Габриеле вспоминает пережитое, лица знакомых. Женщин, мужчин. В основном мужчин. Чаще всего тех, кого она придумала, тех, кого считает своим идеалом. Есть же, наверное, такие мужчины на свете! К сожалению, ей они не встретились, с ней они разминулись… Или, может, она ошиблась, приняв Андрюса за такого. Как противно! Все осточертело – и этот пустой, занимающий два с половиной этажа дом, и затхлые комнаты, и мебель, и кухня, и холодная цементная лесенка, по которой спускаешься вниз, словно в семейный могильный склеп. Противное лето, противные каникулы, наконец, противное солнце, которое вечером вовремя заходит, а утром вовремя встает. Все вовремя, все заранее известно. Никакого грома среди ясного неба. Бесконечное течение затхлого времени. Хоть бы скорей наступила осень. Правда, тоже противная, только уже без этой смертельной скуки…

Габриеле поднимается по лестнице наверх. Снова спальня, снова разворошенная постель, на стульях валяется одежда. Теплый полуденный ветерок скрипит распахнутой дверью и как бы приглашает выйти на балкон. Сквозь верхушки молодых лип, обступивших дом, открывается вид на Скардупские луга. Там чернеют тяжелые скирды сена, повернутые к деревне то боком, то сумрачно зияющим проемом. Аист расхаживает… Неужто?! Да, действительно аист! Здравствуй, редкий гостюшка, здравствуй! А справа, вдалеке, какой-то человек, в одной рубахе, сгорбившийся. Крутится, что-то ищет. Унте! Но почему он? Разве, кроме него, никто не горбится, не ходит в одной рубахе? Смешно, просто смешно, что он первым ей пришел на ум. Но уж если пришел, пусть так и будет. Он на том лугу, а я здесь, на этом балконе, повисшем над липами. Впрочем, лучше надену новое летнее платьице – и на луг, к этим скирдам, к этой высохшей, загнанной в канаву речке, к этому аисту. Разуюсь – и босиком по траве, как в детстве…
«– Здравствуй, Унте. Ты чего тут расхаживаешь вместе с аистом? Лягушек ищешь, что ли?
– Здравствуй, Габриеле. А почему ты босиком? Пятки не колет?
– Не колет, это ведь не трава, а шелк. Так ласково щекочет, аж сердце замирает…
– Так уж и замирает.
– Если не веришь, сам попробуй.
– Мои пятки, как кора, могу по стеклу…
– Знаешь, иногда я тоскую по тебе, Унте.
– Так уж и тоскуешь…
– Ей-богу! Жду не дождусь, когда репетиции начнутся.
– И я тоже. Я люблю петь. С тобой…
– Со мной? Ох, Унте, шельма, куда ты гнешь?..
– Ей-богу – только с тобой, Габриеле. Ты такая… необыкновенная…»
– Необыкновенная… Ха, ха, ха! – Габриеле тихо смеется над тем, что ей только что померещилось, гладит зарумянившиеся щеки, которые уже, кажется, не горят, а пышут огнем, этот огонь заливает все ее существо и жжет, жжет… Мурлыча что-то под нос, она бросается к шкафу, потом к зеркалу и через полчаса, накрасив губы, надев любимое платье, сбегает по лестнице вниз. На лугу только аист, выискивающий лягушек, и скирды – того, кто был в одной рубахе, и след простыл, растаял вдали. Но это и неважно. Ведь остался и дурманящий запах сена, и зеленый шелк травы, горестное журчание хиреющей речки… А кто ушел, тот воротится, если суждено…
VIII
Но был ли это Унте? Ведь он не сгорбленный, только сутулится малость, да и нос у него другой, с горбинкой, и весь вид «помужчинистей». Унте, скорее всего, выйдет сегодня на луг, предчувствие никогда не обманывает Габриеле, но это случится пополудни, когда деревенские старики прилягут отдохнуть, а Даниелюс Гиринис отправится к речке с Юргитой загорать на солнцепеке. Но покамест все сидят за столом и с наслаждением наворачивают горячую картошку с холодной простоквашей.
Юргита. Вкуснятина! Лютаурас, сынок, не чавкай, это некрасиво.
Лютаурас. Ты же, мама, сама сказала, что вкусно.
Юстина. И мне нравится нынешняя молодая картошка.
Салюте. Вкусно, но копать ее еще рано – один убыток. Вот ежели бы еще дождичек полил…
Унте. Из-за корзинки картошки по миру не пойдешь, нашла о чем горевать.
Йонас Гиринис. Тихо, дети. Всякого добра у нас, слава богу, полно, только бы здоровыми были. Да почаще бы собираться вместе, не знать бы распрей и ссор, жить бы в дружбе да согласии. Будь здесь Бируте со своим Стиртой и Повилас с женой из Вильнюса, тогда бы и комар носа не подточил. Поэтому я и говорю себе: счастливый ты человек, старик, такую семью вырастил, молись и благодари господа бога.
Юстина. И мама, царство ей небесное, тоже так говорила…
Йонас Гиринис. Как же ей было не говорить, если она столько добрых людей на свет привела. Хорошая была мать, царство ей небесное, даруй ей, господи, вечный покой, и да всегда светит ей твоя благодать.
Юстина. Аминь.
Салюте. Аминь.
Лютаурас. Аминь, аминь…
Даниелюс. Н-да…
Унте. Так-то…
Юргита. Пусть светит…
Йонас Гиринис. Могли бы и перекреститься, как мать учила. Из уважения к памяти покойной…
Даниелюс. Мы уважаем ее душевно, отец. Каждый раз, когда вспоминаем…
Йонас Гиринис. Крепкий ты орешек, гиринисовой породы, и власть тебя не испортила…
Юргита. Она портит только того, кто приходит к ней испорченным.
Унте. А другие ей не подходят.
Салюте. Ты лучше заткни себе глотку картофелиной и помалкивай.
Юстина. Да что там картофелина. Ему глотку и колесом не заткнешь. Такой уж человек: вечно чем-то недоволен.
Даниелюс. Ну и пусть. Стоячая вода тиной покрывается.
Салюте. Не заступайтесь за него, Даниелюс. Слишком уж вы добры и вежливы.
Юстина. То-то и оно. А Унте… не поймешь, кто когда ему хорош, а кто плох. Было время, брата Повиласа на руках носил, превозносил до небес, а вот осенью вернулся из Вильнюса и другую песенку запел.
Унте. Разве моя вина, если человек свиньей заделался?
Юргита. По-моему, ты хватил через край, Унте.
Даниелюс. А ты что, не допускаешь, что Повилас тоже может быть прав? Нельзя обрушиваться на каждого, кто не согласен с твоими убеждениями.
Салюте. Вот именно. Других свиньями объявляет, а сам давно ли из свинского состояния вышел?
Юстина. Давно, почитай, целый месяц…
Унте молча проглатывает последний кусок и встает из-за стола. Он бы отрезал как следует, но разве всех за столом переговоришь? Навалились на него, как стервятники на падаль. Юргита и та не нашла нужным доброе слово о нем сказать. Видать, он и впрямь дрянь порядочная. А уж если он такой, то ему ничего не остается, как пойти в баню к Марме и надраться.
– Куда это ты собрался, не сказав ни спасибо, ни до свиданья? – ехидничает Юстина.
– Каяться. А спасибо я сказал, надо было слушать, а не хлопать ушами, – отбивается Унте, чувствуя, как судорога сводит подбородок.
– Мог бы посидеть, пока другие поедят, – вставляет отец.
– Мог бы, да не буду, – Унте машет рукой и топает к дверям, лицо его пылает, глаза горят.
«Ну что я за мужик! Размяк, как снег в оттепель. Почему все в шутку не превратил? Последний осел, больше никто».
Унте даже застонал от обиды. Задрал голову, прищурился, впился глазами в синеву небес, пытаясь забыться. А погода какая! Как нарочно! В сенокос дождь целыми днями хлестал, едва клевер убрали, сено сгребли, а нынче который день ни единого облачка. Со всех сторон солнце горячими лучами, как кнутами, сечет – по спинам, по плечам, по раскаленному шиферу на крышах, по вишняку за хлевом, склонившемуся под тяжелым бременем спелых ягод. Вчера женщины собрали сколько могли, но все равно на ветвях от вишен красно. В саду до сих пор стоит стремянка, по ней Салюте с Юргитой поднимались. Под конец и Юстина пожаловала. Но Унте никого, кроме Юргиты, не видел, хотя изо всех сил старался не смотреть в ее сторону. Очень ей шло красное в крапинку платьице без рукавов – к шоколадному, загоревшему на солнце лицу, к белозубой улыбке ничего лучше не придумаешь! Улыбка у нее озорная и дразнящая. В какой-то миг Унте поймал ее взгляд и весь застыл от счастья: ему показалось, будто там, в той бездонной глубине, появилась щелочка, и в свете вспыхнувшей молнии он увидел то, что было только ему предназначено, – их взаимную сердечную тайну. Унте стоял, по-дурацки разинув рот, бледный, прижав руку к груди, где, словно пойманная птица, бешено колотилось сердце, а из накренившегося лукошка (он только что взял его у Юргиты) на траву сыпались вишни. «Унте, растяпа!» – визжала Салюте, и голос ее отдавался в ушах костельным органом. Юргита смеялась, кокетливо выпячивала губы, и трудно было удержаться от соблазна – подойти и поцеловать. Белели острые резцы, и красноватый кончик языка дразняще высовывался из полуоткрытого рта. Только таинственная, бездонная глубина глаз вновь стала непроницаемой, и молния больше не сверкала – все кануло в какую-то непроглядную тьму вместе с прогремевшим громом, взбаламутившим душу.
Преклонив колено, как в костеле, Унте собирал рассыпавшиеся вишни и чуть не плакал от досады. Юргита что-то говорила, но он не слышал, только кивал головой, ничего не соображая и не отваживаясь поднять на нее глаза. А когда все же разок глянул через плечо, то все заслонили ее ноги. Напрягшиеся, бесстыдно оголенные почти до бедер… Юргита и раньше так стояла на стремянке, потому что ни одной вишенки не сорвешь, если не вскинешь высоко руки, и Унте было странно, почему это ему раньше не бросилось в глаза. «Даже смешно: до сих пор ни разу не подумал, что у нее есть ноги…» И снова метнул на нее взгляд, сердясь на себя за это. Теперь он увидел ее колени, повернутые прямо к нему – Юргита сидела на стремянке. Ну что за глупая слежка? Стыд и позор! Унте не мог понять, что с ним творится. Осмелиться подумать о Юргите как о женщине, с которой!.. Нет, нет, такого еще с ним никогда не было!
Вконец рассердившись на себя, он отдал собранные вишни Салюте и отправился в хлев разравнивать навоз, чтобы тяжелым трудом утихомирить бунтующую кровь. Но ночью ему опять приснилось то же самое: Юргита сидела в первом ряду в одном купальнике, закинув ногу на ногу, а Габриеле с Унте стояли напротив и пели. Тут же на сцене в корзине пестрели цветы. Корзина была работы Моте Мушкетника, как и та, в которую Юргита днем собирала вишни и на которую не могла налюбоваться: «Вот это да! Какая прелесть!»
«Будет у тебя еще и похлеще…» – пообещал во сне Унте.
И теперь, вспомнив об этом, он заковылял через сад к гумну, а оттуда по заросшей травой тропке – к Мотеюсу Кябярдису, настоящую фамилию которого люди и забыли, потому что более тридцати лет он для всех – только Моте Мушкетник.
Корзинщик обосновался в новом поселке, по соседству с Дягимай. До первой мировой войны здесь стояла небольшая деревенька, сильно поредевшая во время расселения на хутора: с той поры уцелело всего несколько старых усадеб; одна из них, крытая шифером, с поодаль стоящим глинобитным хлевом, принадлежит Моте Мушкетнику. Когда-то эти постройки принадлежали какому-то состоятельному крестьянину, и Моте никогда, конечно, не завладел бы ими, если бы не помог (как об этом тайком шептались люди) выселить настоящего хозяина со всем его семейством. Товарищ Кябярдис, понятное дело, такие обвинения отвергал, угрожая отправить сплетников туда, куда увезли того, кого они оплакивали, но полностью отвести от себя подозрения так и не смог.
– Ты и меня выкурил, – сыплет соль на рану Моте Юозас Гайлюс. – Был бы я человеком мстительным, плеснул бы керосином на стены – и полыхай… Но я не такой – твой грех, ты и греми с ним в пекло.
Моте Мушкетник сидит, оседлав табурет, посреди неуютной захламленной комнаты, в которой, как уверяют соседи, и черт ногу сломит. В седых космах – плешины, лицо опухшее, под глазами темные круги, кожа желтая, как у ощипанного гуся. Сдал за полгода человек, не узнать бывшего здоровяка. Он уже и в баньку не хаживает, чтобы с «новоявленными римлянами» сто граммов тяпнуть. Ежели бы и мог, и то вряд ли пошел бы, потому что после того, как Стропус несколько раз разогнал всех, пригрозив им всякими карами, никто не отваживается туда заглядывать с бутылкой в кармане. Теперь собираются, как по уговору, у него, у Моте Мушкетника, где и места хоть отбавляй (целых полдома отвел) и никто с поучениями не лезет; сын с невесткой устроились на другой половине, в дела старика не вмешиваются.
Вот и в этот летний полдень сюда весь квартет собрался, каждый сел туда, куда хотел: Сартокас с Пирсдягисом – на кровать, бог весть когда в последний раз стеленную, Гайлюс забрался в уголочек поближе к шкафчику, а сам хозяин – посреди свалки, со всех сторон заваленный корзинами и лозой.
– Злой ты, Юозас, ох, злой, – горестно говорит Моте, и грудь его исторгает не то хрип, не то треск. Поди пойми, что трещит – легкие или корзинка, которую он плетет, зажав между колен. – Приходишь, чтобы столько мерзостей наговорить. Мстишь… м-да-а, месть сладостна… Что ж, черпай этот мед, твое время, наверстывай, бей лежачего. Всегда так: когда видят, что сегодня ты последний дух испускаешь, вороны тут как тут. Попробовал бы ты Мотеюсу Кябярдису выклевать глаза тогда, в тот, как говорится, период. В порошок бы я тебя стер!
– Знаю, – соглашается Гайлюс, продолжая с удовольствием теснить Моте Мушкетника. – И теперь стер бы, ежели бы мог придраться, будь на твоей стороне сила, закон неписаный. Кончился ты, лопнул твой мыльный пузырь. Осталось тебе только корзинки плести да смерти ждать…
– А ты ко мне костлявую не торопи, первым ноги протянешь. – Собрав все силы, Моте воинственно выпячивает грудь, прижимает к бедрам кулаки; корзинка катится с колен на пол. – А если сам не протянешь, вернутся те времена и доконают тебя. Белые медведи давно по таким панам скучают.
– То-то, – соглашается Пирсдягис. – Смозесь им там свои кулацкие проповеди цитать. Вот так, – добавляет он по-русски.
– Ну уж вы сразу и за горло… – миролюбиво вставляет Сартокас. – Что было, то сплыло, как ты сам, Мотеюс, говорил, ни к чему за старые времена цепляться.
– Говорил… – вздыхает Кябярдис. – Может, и говорил… А сегодня нет. Времена человека сгибают, времена и выпрямляют.
– Да разве я… – Гайлюс снова смирен, мягок, как всегда, когда впрыснет недругу изрядную дозу яда. Однако как бы не переборщить – аукнется. – Может, я и обидел кого, но не нарочно же? Простите, ради бога. Конь о четырех ногах, и тот спотыкается, а язык-то у человека один… Зря ты на меня так, Кябярдис. И ты, Пирштдягис. Стращаете этими белыми медведями, словно я какой-то враг народа, против Советов, против власти. И впрямь можно подумать, что у вас в башке пусто. Дурачье вы, дурачье… Чего, спрашивается, мне на рожон лезть, ежели я никогда лучше, чем сейчас, при этом строе, не жил? Денег у меня – куры не клюют, сыт, одет, никаких земельных налогов, да и приданое не давит. Катаюсь как сыр в масле, мне самый большой буржуй позавидует. На толстом суку сижу. И сижу твердо. А сверху мне на голову всякие блага сыплются, только собирать успевай. И, по-вашему, я, идиот, этот сук подрублю?
– То-то и оно-то. Живешь не тужишь, а языком мелешь, – не сдается Моте Мушкетник. – Все-то тебе не так, всем-то ты недоволен, тебе и в голову не приходит, что такие люди, как я, жизнь тебе построили и что эти блага сыплются на твою голову не по милости господа бога.
– Да по мне, все так, как надо, Кябярдис, и доволен я всем, просто язык у меня от рождения колючий, ненароком заденет кого не надо, – хитрит лис Гайлюс, извлекая из кармана штанов тепленькую поллитровку. – Но мы плеснем на колючки чертова зелья и спалим их…
– Вот это да! Вот это я понимаю! – сияет Сартокас, который ради покоя согласился бы и горячей смолы испить.
А Пирсдягис:
– Ну знаесь, Гайлюс… Ты и вправду цертово отродье!
Моте Мушкетник не упускает случая рассчитаться за оскорбление:
– Кто же его не знает? Сперва человеку в карман наложит…
– Хватит, Мотеюс! Квиты! – Гайлюс с размаху ставит бутылку на шкафчик. – Давай стаканы, нарезай сало – корзинки твои обмоем.
– Очень мне надо…
– Надо, как не надо? – вмешивается миротворец Сартокас и самовольно лезет в шкафчик, где всегда в запасе краюха хлеба и ломоть вареного сала, оставшегося от обеда.
До прихода Унте мужчины успевают изрядно разогнать кровь, потому что поллитровка Гайлюса была только началом, затравкой: оказывается, такую же и Сартокас принес, а Пирсдягис, желая всех переплюнуть, шумно ставит на шкафчик свою бутылку, которую прятал не где-нибудь, а в сенях под метлой. Моте Мушкетник хмурится – кто же столько выпьет? – однако от стаканчика не отказывается, хотя каждый раз опрокидывает его, горестно причитая («Ах, не могу, здоровье не позволяет, если бы кто-нибудь молодость вернул…»). Пирсдягис с Сартокасом тоже вздыхают, нацелив свои телескопы на созвездия юных дней. Что правда, то правда, горе мыкали, нужду терпели, но жили. Здоровья было хоть отбавляй, носы никогда не вешали. То, что они сейчас вчетвером выпьют, он, Пирсдягис, мог тогда один раздавить, а потом, взвалив на плечи два центнера пшеницы, по лестнице на гумно забраться. «А уз девок!.. Цто твоих ворон на пасне!.. Аз церно вокруг! Ай, ай, ай… Кто бы мог подумать, цто одной такой вороне в клюв попадесь и она всю зизнь тебе глаза клевать будет. Вот так!»








