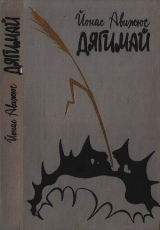
Текст книги "Дягимай"
Автор книги: Йонас Авижюс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 36 страниц)
Дядя Теофилюс!.. Любимый брат отца. Кулак! Земли у него всего десять гектаров было. Всю жизнь спину гнул вместе с женой, света божьего не видели. Если кого и эксплуатировал, то только пчел – была у него добрая дюжина ульев, каждый год приносивших ему бочонок меда. К пчелам подходил без маски, в одной рубахе. Я сам видел, как эти благородные и трудолюбивые насекомые ползали по его широкому лицу, по волосам, покрывали густым, черным слоем его голые руки. Но не было случая, чтобы пчела ужалила его. Загорелый, с изъеденным оспой лицом, благоухающий воском, Теофилюс казался огромными движущимися сотами, обладающими какой-то колдовской силой. «Хорошего человека и пчела не жалит», – говаривали соседи. И вдруг – кулак, враг народа…
– Не верю, – пробормотал я. – Здесь какое-то недоразумение, товарищ Заука.
– Недоразумение? – товарищ Заука побагровел, стал заикаться: до того озадачило его мое упорство. – Кто лучше знает: соседи, родственники или те, кому поручено такими делами заниматься? Ты что, сомневаешься в правоте советской власти?
Меня вдруг охватило точно такое чувство, как в тот зимний вечер, когда поперек дороги встал Альгирдас Бутвила со своими подручными.
– Этого я не говорил, товарищ Заука. Я комсомолец – как я могу сомневаться? Но если бы вы лично знали дядю Теофилюса… ничего не понимаю… Скажите, что с ним стряслось?
– Стряслось то, что должно с антисоветским элементом стрястись: в его усадьбе обнаружили гнездо бандитов. Мой совет: поменьше думайте об этом своем дяде, лучше позаботьтесь о себе. Вам, надеюсь, не надо объяснять, что такие связи не украшают комсомольца. Отнюдь.
У Теофилюса Гириниса бандиты? Неслыханно! Когда я приезжал на летние каникулы, он при мне возмущался кровавыми делами лесовиков, говорил, что для них куда лучше было бы, ежели б они вняли призыву властей и как можно скорей сложили оружие. Никогда не поверю, что этот миролюбивый прямодушный мужик оказался двурушником.
– Ты хороший комсомолец, – продолжал комсорг. – Деятельный, дисциплинированный. Достаточно сознательный, чтобы понять и поддержать меры советской власти, даже если они касаются твоих родственников. Бюро первичной комсомольской организации, – словно читая газету, продолжал Заука, – предлагает тебе выступить на открытом комсомольском собрании, принципиально заклеймить Теофилюса Гириниса и решительно порвать с ним.
– Мне надо на денек съездить домой, – сказал я, подумав.
– Что ж, поезжай, если считаешь, что комсомол занимается наветами. Только запомни: по какой бы причине твой дядя Теофилюс Гиринис ни оказался за тысячи километров от родной деревни, от Епушотаса, он – враг народа. А ты – его близкий родственник. Полагаю, такому студенту в комсомоле и университете не место.
Через неделю состоялось комсомольское собрание. Так уж случилось, что накануне ко мне в Вильнюс приехала мама. Нет, в усадьбе дяди Теофилюса не было никакого бандитского гнезда, они просто раза два заглянули туда среди ночи, кто-то донес, и нет человека. Возможно, я должен был сказать маме, что завтра комсомольское собрание, что я самыми суровыми словами скажу о тех, кто смеет подать лесовикам кружку воды, и предательски отрекусь от дяди Теофилюса, хотя и любил его сызмала и уважал как отца родного. Но я молчал. Мне было стыдно, я терзался своей трусостью, краснел при одной мысли, что последним пунктом повестки дня значится проверка моей преданности, унизительная исповедь, которую будут слушать сотни студентов. А ведь должен был я сказать вот что: «Поймите этого человека! Что он, безоружный бедняга, мог сделать, чтобы бандиты к нему не заглядывали? Он осужден несправедливо. У меня нет основания, я не могу и не хочу оплевывать его!» Но я, Ефимья, не осмелился произнести вслух то, что думал. Я решил, что, обливая грязью близкого человека, защищу свое право носить в кармане не только комсомольский билет, но и зачетную книжку. Я знал, что потом, когда встречусь с отцом, услышу от него горькие и безжалостные слова:
– Такого человека продал. Ничего не скажешь – лихо, сынок, начинаешь.
А ты, Ефимья, за мою откровенность потом мне еще и отомстишь. Сердясь на меня, вымещая на мне свою злость, желчно бросишь:
– Мелкобуржуазный либерал! Заладил: человек, человек. Мягкосердечие и классовая борьба несовместимы.
«Неужто человечность – недостаток коммуниста?» Но и опять я не отважился произнести вслух то, что думал. Я не стал с тобой спорить, Ефимья… Просто удивился: неужели ты моя жена? Неужто сын наш, первенец, плод любви, а не обыкновенного мужского вожделения, – ошибка? Не слишком ли дорого я за нее заплатил? Я почти ненавидел тебя, Ефимья. Ненавидел и боялся… Тогда я еще не встретил свою женщину, но не сомневался: она есть и мы с ней обязательно встретимся.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Секретарша. Лаукува. Товарищ Малдейкис.
Даниелюс. Хорошо. Спасибо. Алло, алло! Слушаю тебя, Аполинарас.
Малдейкис. Начну сразу о деле – чтобы успеть, а то снова прервут. Между прочим, я о том же и с Вильнюсом толковал. С товарищем Багдонасом. Но сперва вот что мне скажи: как ты собираешься провести уик-энд? Ведь послезавтра суббота.
Даниелюс. Не знаю. Собирался вроде бы на охоту. Но иногда и дома не грех посидеть. У телевизора. Книжку полистать. Люди читают, а я, так сказать, в хвосте плетусь…
Малдейкис. Догонишь… Говорят, ты стишки пописываешь? Лучше скажи прямо – боишься молодую женушку оставить. Что ж, понимаю, ведь ты сам еще не старик. Но и женушка должна понять. Она у тебя умница… и красавица, каких мало! Ты обязательно шепни ей мои слова. Скажи: Аполинарас Малдейкис шлет, так сказать, поклон сердечный.
Даниелюс. Перед моей женитьбой ты вроде бы другую песню пел?
Малдейкис. Не ревнуешь ли ты, старина. Не бойся. Наша многолетняя дружба крепка как сталь. Раз ты на охоту собирался, я тебя и приглашаю на воскресную…
Даниелюс. В воскресенье?
Малдейкис. Да, да, на воскресную охоту. По тону твоему чую: хочешь отвертеться. Прошу тебя, подумай хорошенько. У телевизора еще насидишься с женушкой в обнимку, а такая охота не каждый день. Приезжает сам товарищ Багдонас. С ним еще какой-то товарищ, повыше его… Поохотимся, а потом у камина по-дружески… в атмосфере сердечности и полного взаимопонимания потолкуем, рюмашку выпьем. Такие встречи с вышестоящим начальством на пользу району.
Даниелюс. Дела района я решаю в своем кабинете, а не у камина. И без жаркого из кабанины.
Малдейкис. Решай себе на здоровье. Твои принципы всем известны. Но почему бы не побродить с двустволкой под мышкой по перелескам? В нашем возрасте во избежание инфаркта полезно подышать свежим воздухом.
Даниелюс. Хорошо на природе… Особенно зимой… в погожий денек… в лесу…
Малдейкис. Значит, договорились?
Даниелюс. Все зависит от погоды… Посмотрим. Твердо не обещаю.
Малдейкис. Включаю тебя в список гостей. И, пожалуйста, никаких возражений. Не станешь же ты портить отношения со своим ближайшим соседом?
Даниелюс. Пойми, не один я живу…
Малдейкис. Жену куда-нибудь отправь. Не бойся… И не забудь ей передать от меня привет и рученьку поцеловать. Чего доброго, твой отъезд еще ее обрадует. Ведь и женщина, особенно молодая и красивая, должна, хоть в воскресенье, отдохнуть от семейного счастья. Будь здоров, старина! До скорой встречи в Лаукуве.
…Отдохнуть от семейного счастья… И это о тебе, Юргита. Ах, Аполинарас, Аполинарас, обязательно ком грязи швырнет. Иначе не может… И в этом они схожи: он и Ефимья. Если послушать их, то от красивой молодой женщины, вышедшей замуж за человека старше ее, всегда жди измены. Кто сам не любит, тот не верит в любовь. Какая, мол, любовь, обыкновенный мезальянс, желание обеспечить себе солидное положение, и только. Ах, горемыки, горемыки! Если бы они могли, Юргита, хотя бы на денек-другой перенестись в ту пору, когда я встретил тебя и в моем заскорузлом сердце что-то вдруг проснулось, вспыхнуло, встрепенулось от любви! Если бы они вдруг очутились в том пустынном курортном городке, где Великий случай свел нас с тобою, если бы прошли по-над Нямунасом но старому сосняку, по нашим счастливым следам…
Все еще так живо, так свежо в памяти: и этот парк с поределыми деревьями, и крутосклон над рекой, и тропка… И медленно идущая по этой тропке девушка – волосы распущены, черные глаза, в глазах тайна… Я догадывался, что за ее сдержанностью и нелюдимостью скрывается какая-то житейская драма… И только издали – взглядами и в мыслях – бродил за ней, одинокой, выделяющейся в толпе своей неброской печалью, по паркам чистенького, почти игрушечного курортного городка. А потом…
II
Наконец она справилась со своим недугом, с облегчением подумал Даниелюс.
Сердясь на самого себя, он почему-то стеснялся сказать ей, кем работает. Охотнее он представился бы инженером или агрономом, но девушка смотрела на него с таким доверием и искренностью, что не осмелился соврать.
Когда они оба поднялись, в столовой, кроме них, не было ни души: за разговором они не заметили, как прошло обеденное время. Даниелюса так и подмывало пригласить Юргиту погулять по парку, но у него снова не хватило смелости. Только через неделю, когда они стали – пусть и официально, – обращаться друг к другу по имени («товарищ Юргита», «товарищ Даниелюс»), он решился предложить ей билет на концерт какого-то залетного эстрадного ансамбля, хотя сам предпочитал классическую музыку. Даниелюс ничуть не сомневался, что она будет довольна, но Юргита не проявила никакого восторга.
– Эстрада – это музыка вашего поколения, – сказал он, когда концерт закончился.
– Музыка всех поколений – хорошая музыка, – сухо ответила она.
Он одобрительно кивнул. В душе даже обрадовался: их вкусы совпадают!
Назавтра Даниелюс пригласил ее в кино, а в конце недели Юргита как бы невзначай обронила, что в субботу в большом зале санатория состоится вечер отдыха и что, было бы с кем, охотно пошла бы.
Он сделал вид, будто не расслышал, однако в субботу отправился с ней на танцы. «Кто-нибудь пригласит ее, и я исчезну», – решил он, поймав себя на мысли, что он не пара для молоденькой плясуньи.
Но когда другой пригласил ее, он даже вспотел от нетерпения: скоро ли, скоро ли конец? Затем весь вечер не отпускал ее. Стеснялся ее молодости, бледнел и краснел, когда поблизости кто-нибудь двусмысленно смеялся («Это надо мной, черт побери!»), и тем не менее толкался в танцующей толпе, кому-то наступал на ноги, стукался плечами, извинялся. «Неужто это я, Даниелюс Гиринис? – спохватывался он в минуты отрезвления. – Ответственный партработник, отец двоих детей? Можно подумать, будто мне шестнадцать, будто я мальчишка, первый раз пригласивший девчонку на танец…»
Утром он позавтракал в номере, а обедать явился последним, чтобы не застать Юргиту. И к ужину опоздал. Но на другой день сдался: желание увидеть Юргиту оказалось сильней. «Мало того что на танцах осрамился, так еще прячусь, как набедокуривший школьник!.. Бог весть, что она обо мне подумает… Ну и пусть себе думает на здоровье!» – пытался он себя утешить.
– Случилось что-нибудь? – встревоженно спросила Юргита, когда Даниелюс как и обычно появился вечером в столовой. – Скверно себя чувствуете? Или другие земные заботы гложут?
– Ничего особенного, товарищ Юргита, – ответил он, пытаясь обесцветить свой голос. – Когда-нибудь при удобном случае расскажу…
Но удобного случая все не было, хотя после этого они не раз встречались за обедом, бродили по парку, ходили на всякие увеселительные вечера. Да и представься он, этот удобный случай, Даниелюс ни за что не признался бы, что прятался от нее. Но разве можно спрятаться от того, что, как говорится, суждено свыше? Простофиля! «Где-то по земле ходит тот, кому она достанется. Эх, почему я не родился хотя бы на десять лет позже?» – ревнуя и сетуя, думал Даниелюс.
Близился день расставания. Накануне пошел снег, густой, щедрый, какой редко бывает в ноябре.
– Завтра за мной придет машина, – сказал Даниелюс за завтраком.
– А у меня еще два дня, – вздохнула она. – За мной тоже придет… поезд…
– Надо бы отметить наше расставанье. Не сходить ли нам в ресторан?
– Дивное предложение! – обрадовалась Юргита. – А как со столиками? Наверно, все уже занято.
– Столик уже заказан.
– О! С вами не пропадешь!
Они немного помолчали, глядя в окно на белые шапки сосен. В сквере хлопотал толстяк дворник, расчищавший огромной фанерной лопатой дорожки, а какая-то озябшая парочка отдыхающих, задрав головы, глазела на белку, перескакивавшую с ветки на ветку.
– Вам этот пейзаж ничего не напоминает? – неожиданно спросила она.
– Что напоминает? – задумался Даниелюс. – Пожалуй, детство: во дворе запряжена в розвальни лошадь… Там же мать, отец… Я на санках качусь с горы…
– Какая романтика! – улыбнулась Юргита. – А мне кажется – где-то я видела что-то похожее на холсте. Дворник, сосны, парочка, глазеющая на белку…
– Вы любите живопись?
– Иногда, под настроение, я и сама балуюсь… Когда-то я даже собиралась поступать в художественный институт, но журналистика взяла верх.
– Говорите «когда-то», словно это было десять лет назад…
– Если вас интересует мой возраст…
– Что вы, что вы… – пристыженно выпалил Даниелюс.
– Полгода назад стукнуло четверть века.
– В самом деле? – воскликнул он, не скрывая своего удовлетворения. – А я то думал – вам двадцать, не больше.
– Вы очень скупы. Что ж, спасибо вам за вашу скупость, – усмехнулась она и встала из-за стола. – Кажется, мы с вами опять уходим последними.
За обедом, на прощанье, они поставили новым соседям бутылку рислинга. Все вместе выпили, пожелали друг другу удачи, а вечером Даниелюс и Юргита отправились в ресторан, единственный в этом курортном городке. Поначалу разговор не клеился. Оба чувствовали себя неловко, словно впервые очутились вместе.
– Вам скучно? – произнес Даниелюс и беспомощно развел руками. – К сожалению, я не принадлежу к числу тех мужчин, с которыми женщинам весело. Уж вы простите великодушно, но анекдотов не знаю, не хохмач, в обстоятельствах серьезных и вовсе кажусь трагиком. В моем районе, в Дзукии, был такой случай. Самодеятельные артисты одного колхоза в виде премии получили полный набор инструментов духового оркестра. Шли годы, музыканты разъехались кто куда, трубы ржавели. И вот совсем недавно оркестр был создан заново, но играть ему не на чем… Дело в том, что один из бывших музыкантов приспособил все трубы… для гонки сивухи.
– А что здесь, простите, трагического?
– Я этот факт привел в одном из своих выступлений и всем отравил праздничное настроение. Меня за это по головке не погладили.
Юргита расхохоталась.
– Здорово заливаете! А еще говорите – не хохмач.
За столиком стало веселей. Даниелюс обмяк, почувствовал себя раскованным и принялся рассказывать о своем житье-бытье, о себе, о Ефимье. Правда, о себе он вначале говорил в третьем лице: дескать, у него был друг, друг легкомысленно женился на нелюбимой женщине, он давно развелся бы, если б не дети. Однако Юргита смотрела на него пронзительно-пристально, красивые губы кривила недоверчивая улыбка, Даниелюс краснел, путался, пока не признался: друг этот – он сам, это не чужая, а его собственная история.
– Я поняла, – ласково промолвила она с той же улыбкой. – Как ни стараетесь, враль все равно из вас никудышный. Есть люди, которые способны на многое, но вот простые вещи им никак не даются, хоть убей.
– Простите, – пробормотал Даниелюс, сжимая ее хрупкую руку, покоившуюся на столике рядом с тарелкой. – Я не потому, что вам не доверяю. А потому, что за себя стыдно…
– Таких браков, как ваш, несметное количество. Никто не застрахован от неудач и ошибок. И я этих людей не осуждаю, я им сочувствую.
– Стало быть, вы и меня… – Даниелюс поднял глаза и встретился с сочувственным взглядом Юргиты.
– Если я когда-нибудь выйду замуж, то при одном условии… – Она помолчала и добавила: – Мы оба должны любить друг друга. – И сжала кулачок, трепыхавшийся в руке Даниелюса, как плененная пташка. – Любовь, только любовь, и ничего другого – вот в чем залог счастья. Счастья одного, счастья двоих, счастья целого государства…
– Любовь… Конечно… Бывает так, что иногда молодые люди иллюзию любви принимают за настоящую любовь. – Даниелюс наклонился к Юргите. – Но я ее не любил… свою жену. И теперь должен всю жизнь расплачиваться. Равнодушие к собственной судьбе еще не освобождает от ответственности за будущее другого.
– Разве та женщина думала о вашей судьбе? По-моему, обе стороны должны чувствовать одинаковую ответственность, – заметила Юргита.
– Легче всего, конечно, во всем обвинять другую сторону. Зачем, мол, обнадежил ее? Зачем таким мягкотелым был и так далее и тому подобное… Как это ни парадоксально, но порой на собственной шкуре убеждаешься в простой истине: не делай добра, не увидишь и зла… Да, да, доброта порой порождает и зло. Прояви я твердость, может, моя жизнь сложилась бы совсем иначе. Но куда там! Теперь же получается так: она соблазненная и обманутая, а ты подлец!.. Как сейчас помню: сидела в коридоре на чемоданах и рыдала навзрыд. Теперь, по прошествии стольких лет, оглядываешься назад и не веришь, что это было не с кем-нибудь, а с тобой. И эти слова, и эта женитьба, и эти слезы… Оглянешься на прошлое, и давай жалеть и кусать локти…
– Почему же вы друг друга не любили? – тихо прошептала Юргита, подняв бокал с шампанским.
– «Не любили» не то слово, – хмуро ответил Даниелюс.
– Страшно жить без любви… детей народить… Страшно!
– Да уж не позавидуешь. Хорошо еще, работа спасает. Работаешь как вол, стараешься для людей… И в этом – одно утешение.
– Утешение? – усомнилась Юргита, обращаясь не столько к нему, сколько к самой себе. – Работа – необходимость. Но для полноты жизни ее, согласитесь, маловато. Мне всегда казались неискренними те, кто уверял: «У меня любимая работа, я счастлив». Они либо врут, желая оправдать свою ограниченность, либо сами ничтожества…
Даниелюс обиженно глянул на Юргиту:
– Я не вру. Может, я кое-кому и кажусь ничтожеством, но работа для меня превыше всего. Работа и мечта. Вы только не смейтесь… Я даже стишки пописываю. Для своего удовольствия.
– Ну вот видите! Говорили только что – работа превыше всего, а без стихов жить не можете, – сверкнула глазами Юргита, словно услышала величайшую новость. – Секретарь райкома – и поэт… Редкое, прямо скажем, сочетание.
– Какой из меня поэт? Я же сказал: пописываю.
Слово за слово, и разговор зашел о литературе, о живописи, музыке и других искусствах. Весь вечер, соглашаясь и споря, они чувствовали какую-то незримую, но крепкую связь, основанную на взаимном доверии и искренности. Юргита, как всегда, была весела, словоохотлива, хотя изредка игривая улыбка угасала, взгляд застывал и в глубине черных глаз мелькала тень какой-то печали.
– Вы чем-то расстроены, Юргита?
Она вздрогнула при его словах, но быстро взяла себя в руки.
– С чего вы взяли?
– Мне так показалось. Простите… Вы привыкли действовать, а в санатории не развернешься. Процедуры, столовая, процедуры.
Юргита помолчала, улыбнулась печально и, словно прося прощения, взглядом объяснила: не могу же я все выложить вам, любезный…
– Видите ли, – сказала она после паузы, – сюда приезжают не только те, кто лечит телесные недуги… Ноябрь – самый жуткий месяц для меня. Голые деревья, жухлая трава. Ветер, дождь, слякоть… Солнце изредка выглянет из-за туч и тут же спрячется. Да если и выглянет, то скорбно, несмело. Месяц смерти. Удобное время для того, чтобы похоронить то, что умерло в нас или захирело при всей видимости жизни. Простите… Давайте лучше говорить о чем-нибудь другом.
III
На другой день Даниелюс уехал. Юргита стояла в скверике санатория и улыбалась. Весело, бойко: счастливого, мол, пути!
Но взгляд был печальный. Он всю дорогу сетовал на то, что, устыдившись водителя, не подошел к Юргите и не попрощался как следует, хотя простились они еще вчера, когда вернулись из ресторана. «Все-таки я большой трус, – ругал себя Даниелюс. – Только бы обо мне ничего не подумали… Странно, в жизни бывают такие минуты, когда самого себя не узнаешь».
В таком раздражении он приехал домой – нервный, хмурый.
Фима пошутила:
– Ходишь кислый какой-то… как в воду опущенный. Не завел ли ты в санатории какую-нибудь красоточку?
– Завел. Но у моей красоточки, видно, другой, – то ли в шутку, то ли всерьез ответил он, сказав почти правду.
С Ефимьей и раньше было нелегко. А теперь стало еще тяжелей. Однажды он поймал себя на стыдной и нелепой мысли: что, если вдруг что-то случится с ней и он останется вдовцом? При этом он явственно представил себе ее застывшее лицо, услышал, как заколачивают крышку гроба. Представил свою квартиру – свободную, просторную, в которой легко дышится… «Господи, какой я негодяй, – пронзило его. – А мы еще диву даемся, как среди нас вырастают выродки, посягающие на своих близких, поднимающие на них руку?»
В канун Нового года он послал Юргите на адрес редакции поздравительную открытку. Вскоре он получил ответную: Юргита благодарила его за память и желала счастья в Новом году.
А время шло. Они обменивались новогодними открытками, в которых между строчек можно было прочесть: вспоминаю вас с удовольствием, как и удивительные дни в том жутком ноябре… Когда Даниелюс приезжал по делам в Вильнюс, его так и подмывало позвонить ей в редакцию, но он подавлял это желание, уверяя себя, что свидание с ней – чистое безумие, еще больше душу растравишь. Но однажды он все-таки не выдержал и набрал ее номер. Хриплый мужской голос ответил, что она уехала в командировку. А осенью они чуть ли не столкнулись на проспекте Ленина, в Вильнюсе. «Что, опять ирония судьбы? – с радостным удивлением подумал Даниелюс, встретившись вечером с Юргитой в кафе, в Старом городе. Подумать только – четыреста тысяч жителей в Вильнюсе, а мы с тобой не разминулись! Два счастливых лотерейных билета из сотни тысяч пустых. Кто-то невидимой рукой перемешивает всех в этой огромной урне, а мы – надо же – находим друг друга…»
Опьяненный ее близостью, Даниелюс не спускал глаз с Юргиты, долго разглядывал в уютном сумраке кафе ее одежду, отметив про себя удачное сочетание черного и красного цвета, и ему казалось, будто они и не расставались никогда, будто сидят в курортном ресторане, потягивают шампанское и продолжают начатый разговор. Ничего не изменилось за прошедшие четыре года: он по-прежнему «тянул бодягу» с Фимой, а Юргита жила одна, без своего любимого, работавшего который год вдали от родины.
Когда они попрощались, Даниелюс долго стоял на тротуаре и с какой-то тревогой, смешанной с отчаяньем, глядел в ту сторону, где в толпе скрылась Юргита. «Как хорошо, что она живет на свете… Может, и не суждено ей стать моей, но все равно хорошо…»
– Вчера я тебя видел на улице с какой-то Кармен, – сказал назавтра Аполинарас Малдейкис, когда кончилось совещание. – Молодец! Зря в столице времени не теряешь…
Даниелюс нахохлился:
– Оставь свой цинизм! Это моя старая знакомая. Работает в республиканской газете. Человек известный…
– Корреспондентка? Ого! Ты, брат, не зеваешь, – похлопал его по плечу Малдейкис. – Тиснет хвалебную статейку про твой район, вот тебе и прок.
– Как тебе совещание? – Даниелюсу не хотелось говорить о Юргите.
– Как всегда. Переливание из пустого в порожнее.
– А сам-то ты что с трибуны вещал? «Очень полезный обмен мнениями, координация идеологической работы…» Златоуст!
– Трибуны для того, брат, и существуют, чтобы с них пламенные речи произносить.
– Пламенные, но не лживые, – поддел его Даниелюс.
– Ты, брат, толком не знаешь: где кончается оптимизм и где начинается вранье. – Аполинарас беззаботно рассмеялся. – Пошли лучше в ресторан! Поужинаем, лясы, как все люди, поточим.
Даниелюс согласился. Аполинараса Малдейкиса он знал давно: вместе учились в Москве, а потом года два в одном и том же районе работали – Даниелюс секретарем райкома, а Малдейкис председателем райисполкома. Совершенно разные люди, ни в чем не похожие друг на друга, они тем не менее ладили. Даниелюсу нравилась организованность Малдейкиса, его способность найти выход в самых щекотливых ситуациях, его ровный и жизнерадостный характер. Правда, решения его не всегда были лучшими. Даниелюс, в отличие от него, ломал голову в поисках самых оптимальных и ужасно огорчался, когда, не найдя их, вынужден был поступаться своими убеждениями. Поверхностность Малдейкиса он решительно отвергал, но не отрицал, что работать с ним легко, несмотря на его прагматизм, который Малдейкис не считал пороком, постоянно подчеркивая, что величайший тормоз в деятельности партийного работника – идеализм.
– Такая обстановка мне по душе, – сказал Малдейкис, когда они устроились в ресторане аэропорта. – Простор, свобода, не накурено, дым коромыслом не висит. За стеной лайнеры гудят. Особенно ревут при посадке… Никто не гарантирован от того, что не врежутся в землю. А мы с тобой сидим за столиком в целости и сохранности, набиваем брюхо, водочку попиваем. Ну чем не жизнь?
– Тебе позавидовать можно: всегда весел, всегда доволен, не морочишь себе голову, – выпалил Даниелюс, окидывая Аполинараса добродушно-насмешливым взглядом. – Скажу тебе откровенно: я не в восторге от таких, как ты, но посидеть с вашим братом приятно… отдохнуть, расслабиться…
Аполинарас слушал и, счастливый, улыбался пухлыми чувственными губами, поглаживая белыми мягкими пальцами каштановые кудри, не вязавшиеся с его пунцовым лицом.
– Другой на моем месте смертельно обиделся бы, – притворился серьезным Малдейкис, но глаза его светились спокойно и незлобиво. – Я тебе прощаю. Как старому другу. Кроме того, мне неохота портить себе настроение. Сегодня и без того трудный денек.
– Да. Пять часов просидели… Хорошо еще, журнал с собой прихватил.
– Ты меня не понял, – Аполинарас скороговоркой сообщил официанту, чего они желают. – Когда бывает скучно, я начинаю думать о рыбалке. Но сегодня не до этого… Представляешь, после отчетно-выборной меня собираются перевести в другой район. А я так привык к своему, кое-что для него сделал, и вот тебе: в какую-то Лаукуву…
– В Лаукуву? – оживился Даниелюс. – Это же моя родина.
– От этого сие задрипанное захолустье…
– Почему захолустье? Есть отличное шоссе. И железнодорожный узел… Район, брат, серьезный.
– Отсталый.
– Вытянешь!
Аполинарас, все еще лучась радостью, для приличия вздохнул.
– Поэтому меня туда и переводят. Ну и житуха!.. Обжился в одной избе, а тебя тут же в другую суют. В чужом дерьме копаться…
– А я бы только обрадовался, если бы меня перевели в Епушотас, хотя район, по правде говоря, никудышный, – сказал Даниелюс. – Хороша дзукийская земля, а своя лучше. Тянет, и ничего не попишешь.
– По-моему, не видать тебе родного края как своих ушей. Может, только гостевать приедешь. И с песчаной Дзукией придется распрощаться, – Аполинарас загадочно понизил голос. – Ты наверху на хорошем счету… Увидишь, в один прекрасный день тебя возьмут в аппарат. Об этом уж и слухи ходят.
– Смотри-ка, даже в аппарат. Как же так – до тебя слухи дошли, а я ни-ни? – удивился Даниелюс.
– Да так оно, брат, так: жена обманывает мужа, а он про ее измену последним узнает, – отрезал Малдейкис, поднимая рюмку. – За твои успехи!
– И за твои, Аполинарас!
Завтра в это же время я буду дома, думал Даниелюс, краем уха прислушиваясь к скороговорке Малдейкиса. Как только приеду, Фима спросит: как совещание? Крепко всыпали району? Что сказал тот (или этот) руководящий товарищ о твоем выступлении? Не распустил ли ты по обыкновению язык и не наговорил ли глупостей? Нет, глупостей, кажется, я не наговорил… Меня, милая, на повышение… Пока ничего определенного, но люди говорят. А раз люди говорят, значит, так тому и быть. Нет дыма без огня. Фима конечно же заахает, заохает, от радости чуть ли не онемеет, пока опомнится от такой новости. «Разве я тебе не говорила, что ты прирожденный партработник? Ах, какое счастье, какое счастье – наконец-то мы выберемся из этой дыры!»
Но я пока ничего Фиме говорить не буду. Кто знает: может, Малдейкис просто болтает. В конце концов, если и не врет, стоит ли сразу же всему свету, даже жене… Давно я с ней ничем не делился… Делим только постель… Делимся едой, крышей… Детьми…
Настырная скороговорка Малдейкиса вывела Даниелюса из оцепенения.
– Ты что, оглох? Сколько раз повторять одно и то же. Дернем по второй – скоро суп принесут!
– Прости, задумался. – Даниелюс поднес к губам рюмку. – За твою удачу в новом районе, Аполинарас.
– Моя удача зависит от тебя.
– От меня?
– Ну да! Забравшись на верхотуру, ты, надеюсь, не забудешь старого друга?
– Не смеши! Лучше расскажи, как идут у тебя дела? Не секретарские, а семейные, мужские…
– Нормально. Жена верна, единственная дочка послушна. Пользуюсь успехом у женщин, но осмотрителен, их благосклонностью не злоупотребляю, ибо хорошая должность без любви скучна, а любовь без хорошей должности невыносима.
– Молодец! – насмешливо буркнул Даниелюс. – Помнится, ты как-то говорил, что жену любишь.
– Люблю, но не раболепствую, – отрубил Аполинарас, упиваясь своим остроумием. – И она отвечает мне тем же. Короче говоря, не строим из себя молодоженов. Она – мать моей дочери, хозяйка, а я – прилежный отец, кормилец семьи. На том, брат, и стоим.
– А ты ей изменяешь?
– Случается, но не с кем попало. Мои женщины могут сделать ей честь.
– М-да, – брезгливо протянул Даниелюс и вдруг почувствовал, что опьянел. С минуту он сердито разглядывал снисходительно улыбающегося Аполинараса, и ни с того ни с сего у него вдруг появилось желание взять его за шиворот и ткнуть мордой в недоеденную тарелку борща. – Ты, друг, наверно, обзовешь меня старомодным, но я так считаю: уж лучше разойтись, чем обманывать друг друга. Когда люди становятся чужими, никакими силами семью не спасти… никакими… Даже детьми.
Аполинарас впервые за весь вечер глянул на Даниелюса серьезно и вопросительно.
– Уж очень ты порядочным заделался, – сказал он почти разочарованно и с явной укоризной. – Можно подумать, что ты и Фима – идеальная пара. Женился ты не по любви: я же своими глазами видел, как Фима тебе крылышки подрезала.
– Что ты хочешь этим сказать? – выдавил побледневший Даниелюс.
– А то, что она тебя, увальня, вокруг пальца обвела, – выпалил без всякого стеснения Аполинарас.
Даниелюс с трудом совладал с собой, чтобы не обрушить на голову Малдейкиса град оскорблений.
– Ты ничего не смыслишь в делах чести, – процедил он, обуздывая свою ярость. – По-моему, порядочный мужчина не имеет права бросить на произвол судьбы ту, которую он однажды соблазнил.








