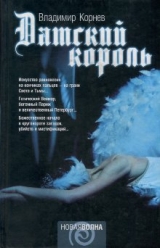
Текст книги "Датский король"
Автор книги: Владимир Корнев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 52 страниц)
XI
Одна из узеньких улочек приковала внимание Арсения: она взбиралась вверх, и не было видно, что же там дальше, на горе. Он спустился по лестнице, скрывавшейся в крепостной башне, и оказался прямо напротив мощеного подъема. Пройдя буквально несколько домов с узкими фасадами, он оказался на пересечении с другой улицей. Старый четырехэтажный дом, впрочем свежеоштукатуренный, привлек его внимание тем, что на углу перекрестка становился уже двухэтажным. Внутри у Арсения что-то шевельнулось: «А я ведь такое где-то видел!»
Он поднял голову уже инстинктивно – подсознание подсказывало ему, где искать. И тут же перед глазами оказалась знакомая вывеска с оленем, все такая же выразительная, как прежде, только заново позолоченная: «Конечно, видел, и не раз! А может, я опять сплю?» Он укусил себя за руку повыше большого пальца и даже вскрикнул от боли – он уже забыл, что немецкая шавка хватила его именно за это место. «Ясно, что не сплю.
это просто бред из-за вчерашних волнений. Да и ночь на ногах наедине с бутылкой вина – еще не такое привидится!»
Арсений обернулся: крепостная башня на улице, по которой он шел, почти исчезла из виду. Забежал за угол: вторая улица уходила вверх, а главное, в конце ее старинный церковный шпиль невозмутимо плыл в пуховых облаках. Сомневаться в реальности происходящего и в собственной трезвости было бессмысленно, но голова у Сени все-таки пошла кругом, и он закрыл глаза, растирая пальцами виски, простоял так несколько минут, покачиваясь. Когда более-менее успокоился, то увидел на стене под «золотым оленем» латинские буквы монограммы «KD», а чуть ниже – мраморную доску, которая не «фигурировала» в его снах. Приблизившись, прочитал надпись, тут же перевел на русский: «В этом доме в 1355 году во время паломничества к Святому Престолу на пути из Роскилле в Ватикан останавливался на отдых Его Величество Король Дании Вольдемар III». Далее была указана дата установки доски «ста раниями штадтрата на средства горожан» – в 1905 году к 550-летию памятного события. Бедный художник почувствовал, что сердце у него готово выскочить наружу. Еще и еще раз перечитал мемориальную надпись. Все говорило об одном: его детское прозвище «родом» из Роттенбурга, из этого сна наяву, а загадка, откуда взялся сам сон, прошедший через всю жизнь Десницына, так и оставалась неразгаданной.
«Это одному Богу ведомо, – решил Арсений, – значит, мне и знать не положено. Единственное, что следовало бы сделать, так это, пожалуй, набросок с натуры!» Последнее не представляло никакой сложности: этюдник с соответствующими принадлежностями Арсений всегда имел при себе. У него даже был с собой холст. Один-единственный – на всякий случай. Вот и наступил подходящий момент им воспользоваться. Он установил видавший виды этюдник прямо на перекрестке (в столь ранний час Роттенбург еще спал), достал принадлежности и принялся за набросок. Работал спокойно, уверенно, так, будто делал что-то очень важное, точно этот скромный этюд проводил какую-то незримую и непонятную границу между всей его предыдущей жизнью и тем, что последует дальше.
Десницын писал на одном дыхании, не прерываясь, пока вдруг по спине не пробежал странный холодок – признак чужого присутствия. Рука с кистью застыла в воздухе, художник повернул голову. В двух шагах от него стояла девочка лет пяти. С любопытством наблюдая за тем. как взрослый дядя рисует, она спокойно сосала палец. Девочка явно была не из простых: в нарядном голубом платьице с буфами на плечиках, с кружевными воланчиками, в капоре, тоже с кружевами и атласными лентами. Она приветливо улыбалась. «Какой милый ребенок!» – удивился Арсений, которого обычно раздражали «одинаковые» сонные немецкие дети, улыбнулся в ответ и продолжил писать. Через некоторое время снова отвлекся – захотелось что-нибудь сказать малышке, но та уже куда-то упорхнула. Тут Арсений вспомнил о Звонцове (вчерашняя обида улеглась): «Как он там один, без денег? Немка еще до Веймара не добралась, да и вряд ли она так скоро забыла обиду. А я все-таки виноват…» Не доделав работу, он сложил этюдник и направился туда, где вечером оставил Вячеслава.
Когда Арсений ушел разгуливать по ночному Роттенбургу. Звонцов, удрученный всем произошедшим, еще какое-то время простоял в раздумье на безлюдной улице, а потом вернулся в ресторанчик. Здесь он сиротливо пристроился в самом углу, так как заказать ничего не мог, а торчать в одиночестве, даже под защитой звездного неба, не хотел. За соседним столиком сидел чрезвычайно колоритный немец. Его тучная фигура, мясистая физиономия с крупно вылепленными выразительными деталями привлекла бы внимание любого, кто так или иначе причастен к изобразительному искусству, тем более – русского скульптора. Это был любимый типаж звонцовских опусов в графике и ваянии. Чтобы не тратить времени зря, Звонцов достал свой рабочий блокнот, фаберовский карандаш и быстрыми, отрывистыми штрихами начал «творить» образ.
В этот момент два подгулявших бюргера принялись ссориться. Один, выпивший, как видно, больше, крикнул другому полушутя: «Если эта сделка не состоится, я тебя убью, черта плешивого!» Тут Звонцову пришла в голову озорная мысль: используя типично немецкий образ своего соседа, попробовать нарисовать для начала портрет Ауэрбаха, которого счел виной своих бед и неприятностей, вспомнив про издевательскую кляксу из бумаги. В портрете скульптор-честолюбец задумал вволю покуражиться, воплотить всю свою накопившуюся неприязнь к Германии и к немцам вообще. Ауэрбах выходил ужасным.
Рисунок получался не простой, не из тех штудий уличных художников, которые передают прежде всего внешнее сходство с оригиналом. У Звонцова как бы само собой выходило нечто концептуальное: на портрете в лице хоть и пожилого, но не столь уж дряхлого и совсем не изможденного тяжелым недугом господина явно проступали признаки агонии, будто изображаемый лежал на смертном одре и жить ему оставалось считанные минуты: запавшие глаза мутно глядели из-под полуприкрытых отяжелевших век, крупный нос заострился, нижняя челюсть безвольно утонула в двойном подбородке, рот искривился судорожной гримасой. Конечно, рисунок был чересчур мрачным и не имел видимого отношения к реальности, но страдание, возможно, предугаданное, «подсмотренное» в будущем, добавляло трагической значительности образу немца. Трагической в античном, Софокловом понимании.
Тут Звонцов заметил, как один из ссорившихся немцев, в необъятном чреве которого плескалось теперь еще больше пива, подошел к его столику. Русский гость смутился, решив, что тот разгадал его сатирический «антигерманский» замысел, и, не желая лишних неприятностей, порвал портрет профессора в клочки. Горожанину, однако, хотелось совсем другого:
– Мое почтение, приятель! Ловко у тебя получается, смотри-ка! Ха-ха! – он подмигнул рисовальщику, пьяно ухмыляясь. – А ты мог бы меня уважить: изобразить моего дружка посаженным на кол, а? Я тебе заплачу, не сомневайся – у меня в кошельке еще кое-что осталось. Очень хотелось бы посмотреть, как Ганс будет выглядеть в таком положении. По-моему, забавно выйдет, ей-Богу!
Звонцову такая идея понравилась: «Мефистофеля уже припечатал. Почему бы не разделаться таким образом еще с одним колбасником и не заработать заодно на кружку баварского?» Он быстро справился с новым портретом испускающего дух. Предсмертные муки собутыльника заказчика выглядели достоверно, и последний заплатил, как обещал, после чего под раскатистый бюргерский хохот подарил рисунок Гансу. Тут уже решил посмеяться сам Ганс:
– Мастер, сделайте теперь так, чтобы этот жирный пьяница болтался в петле! Не хочу оставаться в долгу – пусть покорчится на потеху добрым бюргерам! Плачу вдвойне!
Вячеслав исполнил и этот заказ, после чего посетители погребка по очереди стали заказывать брутальные изображения друг друга. К удивлению Вячеслава, один оригинал захотел видеть себя заколотым кухонным ножом. «O-la-la!» – только и мог произнести он, оценивая готовый рисунок.
Бюргер достал из кошелька несколько серебряных рейхсмарок, попросил кельнера принести вина, да покрепче, буквально потребовал Звонцова «Bruderschaft trinken» [48]48
Пить на брудершафт (нем.).
[Закрыть]. Звонцов исполнил требование с удовольствием и не преминул отдать рисунок немцу. Тут же подошел какой-то местный завсегдатай, добрый приятель только что изображенного господина, и тот стал хвастаться: вот, мол, какие чудеса выделывает «Herr Maler» [49]49
Господин художник (нем.).
[Закрыть]. Через какое-то время вокруг Вячеслава царил ажиотаж, он был в центре внимания всех ночных посетителей ресторана. Многим из них показалось забавным иметь портрет своего будущего, ведь ни одна цыганка в округе не была способна на столь зримое, в буквальном смысле «очевидное» предсказание. Закосневшим в обыденной, пресной жизни бюргерам подобные «художества» были в диковинку, но и для самого Звонцова первопричина рождения этих портретов была необъяснима, оставалась тайной за семью печатями. Он только фиксировал на бумаге зрительные образы, возникавшие при виде реальных людей в его подсознании. Вячеслав чувствовал себя каким-то медиумом. Горячительное, которое заказывали Звонцову в качестве не то чтобы оплаты – скорее, в знак уважения к его необычному дару, делало его профессиональный взгляд все безжалостней (сказалась здесь и неприязнь скульптора к немцам). Далее молодых и пышущих здоровьем людей беспристрастный карандаш превращал в ветхих старцев. Он делал все более и более мрачные рисунки. На листах звонцовского блокнота появлялись то искаженные гримасой немыслимой боли лица жертв войны, то посиневшие, с глазами навыкате, с пеной у рта и вывалившимся языком физиономии злодеев, закончивших грешную жизнь в петле, то изъязвленные, но тем не менее узнаваемые, лица несчастных инвалидов. Все они, отмеченные печатью смерти, были исполнены запредельной глубины, неотмирной законченности. В этих потрясающих ликах искушенный в живописи глаз мог бы уловить выкристаллизованное благородство врубелевского Демона или гармонизированную античными ваятелями смертную муку Лаокоона.
А горка серебра перед Вячеславом все росла и росла, и количество выпитого им все увеличивалось. В какой-то момент он наконец опьянел настолько, что почти потерял память: дальнейшее возлияние, игра в кости с новоприобретенными немецкими «приятелями» проходили в каком-то полусне. Потом ему смутно вспоминалось липкое от пролитого вина и пива дерево стола, подбадривающие фразы наблюдающих за игрой, чей-то смех. Проиграл он, кажется, все, что заработал.
Арсений нашел Звонцова довольно скоро. К его удивлению, скульптор был основательно пьян («Откуда взялись деньги?») и уже начинал буянить. Ночные посетители разошлись, и Звонцов в окружении персонала кричал что-то маловразумительное (то была неповторимая смесь непристойных русских и немецких выражений) и вряд ли был способен что-то воспринимать. Сеню он едва узнал, зато тут же вспомнил о злополучной пуговке от костюма, но опять увяз в собственной ругани. Хозяин заведения страшно обрадовался: наконец кто-то пришел за этим странным русским! Он стал скороговоркой объясняться с Арсением, того же интересовало одно:
– Ради Бога, скажите скорее, во что нам все это обойдется. Принесите счет!
Немец заулыбался, сказал, что за все уплачено. «Ну, это в духе Звонцова! Уболтал какого-нибудь Ганса, а тот его напоил из гостеприимства», – сообразил Сеня. Вячеслав к этому времени совсем обмяк и заснул. Друг хотел было взвалить его на плечи и вынести на воздух, правда, понятия не имел, где оставить. Помог ресторатор. Он предложил уложить русского художника на кухне, пускай, дескать, проспится, официанты за ним присмотрят и передадут ему, чтобы ждал Арсения.
«На улицу нельзя! У господина могут возникнуть неприятности с полицией», – объяснил немец. Десницын обрадовался, поблагодарил за участие и пошел дописывать этюд – солнце уже стояло высоко. «Закончу картину, продам ее, и тогда будут деньги на обратную дорогу», – рассчитывал Сеня. Хозяин проводил его до самого выхода, не переставая довольно улыбаться и все вспоминая, как ресторанчик превратился на целую ночь в художественное ателье: «Все-таки талантливы эти русские – такой мастер! Выпил-то, по правде, не так уж и много – наши завсегдатаи по этой части еще хлеще… По крайней мере, репутация моего заведения теперь должна повыситься».
Арсений устроился заново на памятном перекрестке. Несмотря на то, что Роттенбург теперь уже проснулся и жил своей размеренной жизнью маленького, но все-таки города, ничто не мешало работе художника. Редкие прохожие почти не обращали на него внимания: мужчины считали ниже своего достоинства замечать уличного художника. («Эка невидаль! Вот, говорят, вчера за полночь в ресторане один рисовальщик из России просто чудеса творил, а тут – какой-то студент на этюдах. Подумаешь…») Женщин вообще не интересовала живопись: они спешили на рынок, по хозяйственным делам, да еще надо было успеть заглянуть в кирху, встретить там товарок и заодно отстоять утреннюю мессу. Писал Сеня с удовольствием, и теперь его уже не смущало, что это тот самый перекресток: «Просто чудесное воспоминание о детстве. Просто добрый знак».
Он и сам не заметил, как закончил работу. Результат превзошел его ожидания: думал написать заурядный этюд, а вышел довольно занятный пейзаж в духе старых мастеров. «В столь короткий срок написать картину – это удача, – подумал Арсений, – вот только бы найти покупателя – можно выручить приличные деньги». Он невольно залюбовался колоритной красотой окружающего пейзажа, внимательно проверил все детали – не упустил ли что-нибудь в работе. Ничто не было упущено, а монограмма «КД» на золоченом гербе была так четко прописана, что авторская подпись оказалась бы просто лишней, к тому же стоило только ее поставить, жди тогда очередных насмешек чванливого «друга» – скульптора. Тут из-за угла выбежала уже знакомая девчушка. Она смотрела на него своими голубыми глазенками безо всякого удивления, будто отлучилась на каких-то пять минут и художник за прошедшее время никуда подеваться не мог. Теперь маленькая немочка уже не сосала палец, а указывала им на картину и, недолго думая, попросила… продать. Арсений был ошарашен подобным предложением от ребенка: это, конечно, выглядело вполне по-немецки, но все равно неприятно было сознавать, что даже обаятельная девчушка так же прагматична, как и ее взрослые соотечественники, и готова, наверное, торговаться с «дядей». Он так расстроился, что все немецкие языковые конструкции мигом вылетели у него из головы и только недоуменный смех послужил ответом дерзкой девочке.
Она повернулась и потопала по булыжнику домой, но тут художника кто-то словно толкнул под локоть. То ли русская широта и бесшабашность проснулась в нем – да забирай даром, знай, дескать, наших; то ли интеллигентское, уже, пожалуй, интернациональное нежелание обидеть дитя. Арсений и сам не знал, почему он вдруг снял работу с этюдника, догнал девочку и, чему-то радуясь, отдал ей. Так или иначе, поступок был совершенно неразумный и несвоевременный. Опомнился Сеня, когда ноги сами несли его к ресторанчику. «Прямо наваждение какое-то! Как я мог сейчас так вот просто отдать картину? Опростоволосился, тряпка! Теперь все – взять денег неоткуда. Как же назад-то ехать?»
Протрезвевший Звонцов ждал его на пороге заведения. Он ходил взад-вперед, посасывая сигару (кто-то из ночных «моделей» угостил), и нервно покашливал в кулак. Уже по одному его виду можно было понять, что он заждался и страшно раздражен. Только бы не проговориться о картине, и вообще ничего не надо рассказывать о воплотившемся сне. «Разве потом как-нибудь?» – сообразил Десницын, хотя его так и подмывало поделиться впечатлениями.
– Ну куда ты запропастился? Я тебя уже битый час тут жду! – накинулся на него ваятель-дворянин. – Уедем мы вообще отсюда когда-нибудь?
Арсений виновато пробубнил:
– Ты же знаешь, что денег у нас нет и взять негде. Если немка действительно пошлет за нами…
Звонцов резко его оборвал:
– Никого она не пошлет, и ты сам это знаешь!
Тут его точно осенило:
– Подожди-ка, подожди-ка… Я сейчас!
И Звонцов скрылся за кованой дверью ресторанчика. Он вернулся через полчаса в радостном возбуждении, вытирая пот со лба. Оказалось, немец-ресторатор дал Вячеславу денег на поезд!
– Представляешь, – рассказывал он по пути к вокзалу, – я вдруг подумал, что это единственный человек в городишке, к которому можно было бы попробовать обратиться за помощью, который хоть немного знает нас. Конечно, я почти не надеялся, но думал – а вдруг? И вот я объяснил ему, какой конфуз с нами вышел, попросил в долг, предъявил документы. Даже дал ему слово русского дворянина, что мы вернем все до пфеннига. И тут вижу – подействовало! Этот колбасник, не требуя больше никаких объяснений, протягивает деньги, да с таким видом, будто это он мне должен! Я собрался было писать долговую расписку, а тот и слышать ничего не хочет, машет руками, лопочет по-своему: «Спасибо вам, господин художник! Вы оказали нам большую честь – я всегда знал, что Россия богата талантами, но никогда не думал, что такой человек будет гостем нашего маленького городка!» Ты представляешь – это он мне говорит! Оказалось, что я ночью рисовал в ресторане портреты бюргеров, чуть не всех местных завсегдатаев перерисовал, – они-то меня и напоили до поросячьего визга. Все были в восторге! А я почти ничего не помню, какие-то страшные рожи, покойники ходячие… Ну ладно. Главное, что теперь мы можем ехать в Веймар. Да, мне этот немец напоследок вот еще что сказал: «Господин художник, это я ваш должник – теперь в моем скромном учреждении не будет отбоя от посетителей. По крайней мере, до Рождества. Здесь такие события случаются чрезвычайно редко – на моей памяти, вы первый русский, посетивший Роттенбург». Понимаешь, я, Вячеслав Звонцов, оказал им честь своим «визитом»! Как сиятельный князь или даже король… – При слове «король» Сеня вздрогнул.
XII
В поезде по дороге в Веймар утомленные бедолаги не разговаривали, обоих клонило в сон. Звонцов первый стал клевать носом, закрыв глаза, пытался восстановить в памяти события двух последних, таких суматошных дней, но выходило с трудом. «Хорошенько отоспаться бы сейчас в каком-нибудь дорогом отеле, а после выпить крепчайшего кофе и ощутить себя новым человеком», – мечтал Вячеслав. В полудреме он услышал немецкую речь, напряг слух: Арсений разговаривал с попутчиком. Он лениво приоткрыл один глаз: напротив Арсения сидел пастор в черном одеянии со стоячим узеньким белым воротничком, без наперсного креста, и этот седой худощавый старик, медленно перебирая четки, столь же размеренно говорил:
– Я служу настоятелем небольшой кладбищенской кирхи. У нас в роду все были служителями Господа: мой отец, дед, прадед… Хочу заметить, все служили в этой маленькой кирхе, вероятно, уже лет триста, и все лежат теперь за ее алтарем. А саму кирху, если верить средневековым манускриптам, перестроили из римской базилики при ком-то из Гогенштауфенов [50]50
Гогенштауфены – немецкая династия, управлявшая Священной Римской империей в Средневековье.
[Закрыть], и с тех пор, говорят, она так и не меняла внешний вид. Вы. наверное, думаете – седая древность? Это правда так, но в Германии подобное вовсе не редкость: у нас очень многое сохранилось от тех времен, несмотря на все междоусобицы, эпидемии, Реформацию. Мы бережно относимся к своему прошлому, взять, к примеру, кладбище, где мой приход: по нему можно изучать историю наших мест за последние шесть веков. На самой старой могильной плите значится, что под ней лежит лекарь, который погиб во время грозы в 1360 году. Представляете: в те годы по всей Европе свирепствовала чума, а врач умер от удара молнии! Воистину, никому не дано знать, когда придет его последний час. Кладбищенский сторож поддерживает у нас образцовый порядок. Большую часть года кладбище представляет собой настоящий цветник. И родственники заботятся о могилах предков, жертвуют на обновление склепов и цветников, на ремонт кирхи. Например, есть у нас древняя капелла, склеп известного на всю Германию баронского рода. Первым там был похоронен рыцарь, умерший по дороге из крестового похода от полученных ран. Потом там хоронили его потомков из века в век, и даже теперь его родственники, которые живут то ли в Гамбурге, то ли в Кенигсберге, регулярно навещают место упокоения предков, хотя им приходится ездить через всю страну. А если, не дай Бог, род их пресечется, я думаю, что могилы все равно не останутся без ухода – так ведь принято у всех добрых христиан, верно?
– Конечно! – поспешил ответить Арсений.
Пастор сошел с поезда в каком-то маленьком городке, учтиво поблагодарив русских попутчиков за то, что так внимательно его слушали, а вот Звонцов уснуть уже не мог. Ему тоже вспомнилось одно кладбище, совсем не такое ухоженное, как то, о котором рассказывал немец: «Поведай я святому отцу, что там натворил, он счел бы меня настоящим вандалом».
Еще на первом курсе в Академии, выезжая с этюдником за город, в петербургские предместья. Вячеслав однажды попал на старое кладбище. В тот день паровичок повез его за Невскую заставу, от кольца побрел он дальше по Шлиссельбургскому тракту, желая скорее отыскать место, где наконец кончатся заводы и безликие деревянные дома и можно будет писать. Так студент добрел до какой-то церкви с колокольней, возле которой в тени деревьев виднелись могильные кресты, колонки, какие-то затейливые надгробия. «Церкви на вид лет двести – интересное местечко. А куда это я вообще попал?» – соображал Звонцов. Прохожая старушка, совсем уездного вида, на вопросы художника отвечала: «Это, батюшка, Фарфоровская. И кладбище тоже Фарфоровское… Старинное, всенепременно! Сызмальства здесь живу, а оно всегда здесь было. Тут разный люд хоронют: и заводских наших, мастеровых по фарфору, и военных, и благородные всякие разные тоже тут покоются. А оно так и идет, за Щемиловку-улицу… Чудно – грамотный господин, а Фарфоровскую не знаете…» Сунув бабке гривенник, Звонцов решил прогуляться но живописному месту. Он обошел церковь, углубился в зеленые заросли. Кладбище было сильно запущено, некоторые памятники повалены, многие мраморные кресты варварски разбиты, кованые оградки погнуты, а то и совсем поломаны. Кое-где валялись пустые бутылки, осколки стекла. «Эх, люди! Прекрасно „ведают, что творят“, а ведь творят. И не все же бродяги да темные личности, наверное, те же местные „мастеровые“ пьянствуют здесь и куролесят! Пролетариат! Городового к каждому не приставить, а в умах теперь полный разброд…» – сокрушался Вячеслав.
Утешало то, что вокруг была настоящая живописная натура, и оставалось только найти наиболее выразительный уголок. Здесь действительно сохранилось немало художественных надгробий. Звонцова особенно удивило, что среди привычных восьмиконечных крестов хорошей работы то тут, то там попадались странные по символике памятники. Перевернутые, потушенные факелы, античные урны он, конечно, видел и в других местах, но здесь были нарочито изваянные сломанными коринфские капители, какие-то атрибуты архитектуры, циркули, кувалды, непонятные геометрические узоры, вырезанные на каменных плитах и саркофагах. Эпитафии попадались тоже, по меньшей мере, странные. В памяти скульптора сохранились такие заумные строки:
Служилъ я Благоденствію,
Какъ Богу —
святоши, уступите
мнҍ дорогу!
Когда же Вячеслав увидел бронзовую скульптуру неизвестной богини, окруженную львами и совами, на пьедестале без надписи, он на какое-то время словно прирос к месту, а потом понял, что именно это он и будет рисовать. Анонимное надгробие так выразительно смотрелось на фоне старой согбенной ивы! Вячеслав сделал наброски в разных ракурсах. Рисунки получились неплохие, по всем правилам академизма. Но по-настоящему выдающимися Звонцов их не посчитал (его увлекла сама необычная скульптура), и пылились они в мастерской среди прочих студенческих штудий в полузабытой папке. За Невскую заставу скульптора больше не заносило. И возможно, история эта забылась бы со временем, если бы не престижный конкурс, проводившийся в «aima mater». Тот самый, по результатам которого Звонцов оказался в Германии.
Вышло так, что германские меценаты, господа из «Общества Гёте» во главе с передовой дамой фрау Флейшхауэр, решили удостоить стипендии и возможности обучения в лучших немецких университетах наиболее одаренных выпускников Российской Императорской Академии художеств, а также Санкт-Петербургских университета и консерватории. Окончательное решение при выборе счастливчиков принимала после соответствующих просмотров, собеседований и прослушиваний самолично госпожа Флейшхауэр. Узнав о готовящемся конкурсе, Звонцов понял, что непременно должен в нем участвовать и победить: «Только в Европе меня научат чеканить из искусства звонкую монету. Уж там-то знают, что такое алхимия творчества и как обратить камень или холст в золото!» В Академии Вячеслав был на лучшем счету, и его без труда представили на «соискание». Комиссия с немецкой стороны начала обход мастерских молодых дарований. Дошла очередь и до скульптора Звонцова – он должен был выставить на обозрение свои лучшие работы – пластику различных форм и масштабов. Фрау Флейшхауэр со свитой искусствоведов посетила «студию» Вячеслава. Важные иностранцы с трудом поместились в мансарде, сплошь уставленной звонцовскими творениями. Подражания титаноподобным мужам Буонарроти оставили компетентную комиссию абсолютно равнодушной. Такое они видели в каждой второй мастерской. Немцев и в особенности саму госпожу Флейшхауэр интересовало что-нибудь оригинальное, доказывающее неординарность личности автора. Вот так пытливая фрау и отыскала наброски с того самого злосчастного надгробия. Она заметила пухлую папку, лежавшую под спудом других бумаг, попросила Звонцова показать содержимое. Тот стал демонстрировать рисунки, Флейшхауэр жестом показывала – мол, дальше. Наконец в глазах ее вспыхнули, как показалось Вячеславу, хищные искры, и она остановила руку скульптора:
– Вот-вот! Вот это как раз то, что нужно. Какая прелесть, Вячеслав! Это рисунки вашей работы? Где вы нашли такой редкий сюжет? Это подлинно уникальная вещь, с ней вы можете претендовать на победу в конкурсе. Но где же сама работа? Ее вы обязательно должны взять с собой.
– Конечно, фрау! Оригинал, правда, уничтожен, но осталась форма. Я отолью скульптуру заново и обязательно привезу ее в Германию, – Звонцову не оставалось ничего другого.
Немка со свитой интеллектуалов уехала nach Vaterland [51]51
На родину, домой (нем.).
[Закрыть], оставив Звонцова мучиться бессонницей.
Конкурс он выдержал, но создание новой скульптуры по эскизам и наброскам представлялось проблематичным: это потребовало бы много времени. Звонцов очень сожалел о том, что не владеет сложной техникой гальванопластики и у него нет соответствующих условий для физико-химических работ, позволяющих создать электролитическим способом почти невесомую копию (для этого нужна была еще как минимум сама кладбищенская статуя!). Отливка же скульптуры целиком из бронзы была весьма дорога, а денег Звонцову было жалко всегда, даже когда они у него имелись.
Тут-то молодого скульптора бес и попутал: «И чего мучиться? Могила заброшена. Если я сниму памятник, никто даже не хватится о пропаже – он наверняка нигде не учтен! А что до моральной стороны вопроса, так, может, там вообще какой-нибудь негодяй похоронен? Кругом-то явно не праведники покоятся – «святоши, уступите мне доро1у»! Нечего и думать, надо снимать!» И ведь подсуетился, снял!
В сумерках без особых усилий отковырнул «богиню» от постамента обычным ломом (никто и не думал охранять старый, полузабытый «некрополь»). К счастью, скульптура оказалась полая (отлита была неведомо каким способом) и совсем не тяжелая. Пришлось только, во избежание любопытных взглядов, обернуть ее куском холста, а дотащить добычу до Шлиссельбургского тракта и нанять извозчика вообще не составляло труда.
За оставшееся до отъезда время новоявленный воришка, радуясь удачному решению, так отчистил и отреставрировал неведомую «богиню», что любой принял бы скульптуру за новенькую, свежеотлитую. Вид отреставрированной статуи даже умилил Звонцова, и усыпленная было совесть стала нашептывать ему: «А если вернуть ее теперь на место? Надо только снять форму, не пожалеть средств, и, возможно, еще хватит времени отлить дубликат для Флейшхауэр!» В благородном порыве он сделал по всем правилам детальные гипсовые слепки с оригинала и уже начал готовиться к новой отливке, но опять в нем заговорил авантюрист-прагматик: «Да брось ты, в конце концов, эти бабьи благоглупости! Скульптура в твоих руках, она куда легче, чем можно было предполагать, – зачем тебе еще какая-то возня, пустые траты? По возвращении будут деньги – отольешь другую и вернешь на законное место. И упрекать себя незачем! Невелик грех – ты не какой-нибудь гробокопатель, осквернитель бренных останков и разрушитель пирамид. Сейчас нужно в Германию собираться, а все прочее – к черту!»
Новенькая форма так и осталась ждать, когда скульптор соблаговолит к ней вернуться, а Вячеслав опять сосредоточился на кладбищенском раритете. От подписи автора там давно не осталось и следа, зато звонцовская фантазия разыгралась: ничтоже сумняшеся он выдолбил возле одной из сов инициалы «КД», то есть монограмму Арсения, и дату «сотворения» – пару лет назад. Теперь Вячеслав мог представить вместе со скульптурой и десницынские картины как работы одного автора, то есть собственные – Вячеслава Меркурьевича Звонцова.
Поезд трясся, огибая Тюрингский лес, как двое суток назад, только теперь в обратном направлении. Звонцов все продолжал мысленно пребывать в прошлом. Теперь ему вспомнилось, сколько нервов отняла у него перевозка злосчастной «железной бабы» через границу.
По сути, Арсения Десницына Звонцов взял с собой, так сказать, для прикрытия. Стипендиат перестраховывался: побаивался, что в скульптуре, выдаваемой за современную работу, наметанный глаз таможенника распознает старинный раритет, и мало того, что не пропустят статую, так еще могут задержать и живописный цикл, предназначенный для выставки-продажи. Тогда было бы не миновать крупного скандала и наполеоновские планы «родового дворянина» Звонцова покорить Европу рухнули бы, зачеркнув и будущую карьеру в России. Звонцов предложил документально оформить бронзовую «богиню» как произведение Арсения, прекрасно понимая, что тому и в голову не придет предъявлять какие-либо авторские права. Дееницын был только рад помочь другу и выдать себя на таможне за ваятеля, довольствуясь объяснением, что это «необходимо для их общего успеха» (истинное происхождение скульптуры Звонцов, разумеется, от него скрыл).








