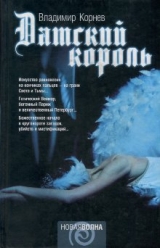
Текст книги "Датский король"
Автор книги: Владимир Корнев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 52 страниц)
Жаль только, на привычном месте в партере не было князя. Кланяясь, она с грустью заглянула в оркестровую яму: ей так захотелось, чтобы он присутствовал на ее триумфе, но – увы! – это были только мечты. Впрочем, балерине сразу стало радостно от одной мысли о благой причине отсутствия Евгения Петровича и о том, что, возможно, как раз в эти часы он стоял всенощную в какой-нибудь афонской обители и молился о ее успехе.
Когда зал утих, Ксения облегченно вздохнула, но дружные аплодисменты вдруг раздались у нее за спиной. Девушка растерянно обернулась. Весь кордебалет, участвующий в первой части представления и стоявшие за кулисами репетиторы, гримеры, костюмеры – с сияющими лицами чествовали «огненную испанку» Светозарову. Это был самый приятный момент за весь мучительный вечер, щедрый, утешительный дар родственных душ. «Спасибо, господа, спасибо, друзья… Спасибо вам!» – смущенно кивала счастливая Ксения. Но одновременно она заметила, что лишь на лице ее партнера нет и тени радости. Впрочем, Ксения была так довольна удавшимся выступлением, что странное поведение Иноходцева на подмостках и за кулисами, ни на миг не сомневаясь, объяснила для себя передавшимся от нее самой во время танца излишним волнением, да и по своему характеру ей было свойственно очень скоро забывать досадные недоразумения и легко прощать обиды. Всем, конечно, была известна такая незлопамятность Светозаровой, чем, признаться, многие беззастенчиво пользовались в своих целях. А Ксения, благодарная за поддержку, за удавшееся выступление, поддавшись чувству, в антракте даже чуть было не кинулась на шею партнеру, но Иноходцев оставался все так же безразлично холоден. Вместо эмоциональных поздравлений он с трудом выжал из себя дежурно короткое: «Благодарю за спектакль», – тут же повернулся и ушел, не проявив ни малейшего желания обменяться впечатлениями. Балерине было неприятно сознавать, что за подобной холодностью кроется банальная ревность к чьему-то успеху, так часто поражающая сердце артиста. Подумалось: «Но ведь это и его успех тоже! Неужели он не понимает? Может быть, я обидела его неосторожным словом или еще чем-то случайно задела?» Ксения успокоила себя тем, что, в конце концов, повод для примирения она найдет обязательно.
XXIII
Собрав со сцены букеты цветов и признательно улыбаясь поздравлявшим ее поклонникам, балерина направилась в гримуборную. Только теперь, постепенно выходя из образа, возвращаясь к реальности от священнодействия творчества, Ксения вдруг осознала, что нет ровно никакой боли в ноге, и мало того – ее не было уже в конце спектакля, не было на поклонах! Боль совершенно исчезла, улетучилась В такое чудесное исцеление верилось с трудом, но все-таки оно произошло – балерина чувствовала себя как никогда легко и свободно. А за сценой царила антрактная суета, обычная рабочая спешка. Все куда-то торопились с озабоченным видом. Ксения, спрятав лицо в благоухающую прохладу роз и лилий, пробиралась к себе. Едва различая дорогу из-за огромных зеленых листьев и пестроты соцветий, она вдруг столкнулась с кем-то в тесноте. Смутившись и спеша извиниться, девушка взглянула на встречного, вернее, встречную. Слова так и застыли в горле, замороженные ледяным взглядом Капитолины.
– Совсем нос задрала, выскочка! Под ноги смотреть надо! – прошипела сквозь зубы обиженная Коринфская, нарочито поджимая якобы сильно придавленную ногу.
– Ну да, ведь Жизель-то нашу теперь только там и можно отыскать… – усмехнулся местный острослов-солист, видя смятение Ксении и желая выразить ей свою искреннюю симпатию. Приглушенный смех окружающих означал, что шутку оценили – уж очень точно в ней отразилось отношение труппы к заносчивой Коринфской. В глазах «оскорбленной» сверкнули молнии. Удаляясь в темноту кулис и бормоча в ответ какие-то проклятия, балерина резко обернулась, желая напоследок испепелить взглядом юную победительницу. В то же мгновение все услышали сдавленный крик, но это не был голос Ксении – Коринфская сидела на полу в проходе за сценой, держась за глаз (в этой неуклюжей позе, в белом воздушном платье она напоминала сломанную куклу), а в двух шагах от нее испуганно замерла пожилая уборщица со шваброй в руках. Послышались взволнованные возгласы: «Врача скорей! Нужен врач!» Помощь не заставила себя ждать, кто-то с медицинским саквояжиком уже пробирался сквозь толпу, а собравшиеся оживленно, хотя и негромко, обсуждали версии случившегося:
– Как же это ее угораздило?
– Да, говорят, на швабру наступила…
– А где она ее «отыскала»?!
– Наверное, бабуля эта – Соня, уборщица наша, забыла на сцене…
– Точно! Вон она стоит ни жива ни мертва… Что-то теперь ей будет?
– Ну как же так? Палкой прямо в глаз угораздило… Сама*то тоже хороша! Куда смотрела, спрашивается?
– Уж не знаю куда, только вот танцевать теперь придется почти вслепую…
– Ой, с глазом-то что, смотреть страшно – гляньте, весь опух, покраснел и слезится!
– Бог ее наказал, интриганку, нечего злобу всюду сеять! Это ей за Ксению нашу, – подвел кто-то логическую черту.
Сама Ксения ничего этого не слышала и не видела: почти сразу после того, как Капитолина попыталась устроить очередной скандал, она поспешила своей дорогой, даже не оглядываясь назад, в сторону кулис. Фактически инцидент со шваброй помог ей беспрепятственно достичь спасительной комнаты № 1 (этот номер значился на двери ее уборной). Оказавшись в уединении (никто не мог входить к Светозаровой без стука, кроме Серафимы), мертвенно-бледная балерина сделала еще пару шагов и обессиленно упала в мягкое, обитое синим бархатом кресло. Она закрыла глаза и ощутила странное чувство – еще не до конца осознанную радость преодоленного испытания перекрывала отчетливая горечь от столкновения с беспочвенной человеческой обидой и гибельной ненавистью, а главное – с настоящей, непоправимой бедой. Одним словом, это было какое-то внутреннее опустошение.
Голова Ксении налилась свинцом. Шпильки и заколки, закреплявшие прическу и украшение на ней, казались острыми шипами, терниями. Руки настолько отяжелели, затекли, что не хватало сил даже справиться с узелками на пуантах. Обрывки мыслей проносились в сознании беспорядочным потоком: «Слава Тебе, Господи! Неужели все это закончилось?! Будто камень с души… Почему же не болит лодыжка? Жаль, что Иноходцев обиделся… Визитка другая, а инициалы те же. А цветы князь все-таки не забыл прислать – как мило… Но все же, почему визитка другая? Как горят ноги… Что же все-таки случилось с Тимошей? Неужели правда?! Мама, мамочка, видишь ли ты сейчас свою дочь оттуда? Как мне тяжело без тебя… »
Чуть скрипнув, точно извиняясь, приоткрылась дверь и в гримерную заглянула Серафима.
– Там визитеры осаждают – серьезные господа, а никакого понятия! – прошептала она. – Я их, Ксеничка, пожалуй, попрошу сегодня не беспокоить…
– Да, уж ты извинись за меня, голубушка. Я что-то неважно себя чувствую.
Серафима деликатно удалилась и через минуту, неслышная, словно тень, появилась вновь. Ксения была рада, что ее мудрой театральной няне ничего не нужно объяснять: все-то она предугадывала заранее с чуткостью поистине материнской. Вот и теперь, едва прикасаясь проворными, добрыми руками, Серафима постепенно освободила измученную девушку от оков балетного искусства – разула и разобрала прическу. Теплая нянина рука ласково гладила распущенные волосы «Ксенички», и взрослая Ксеничка расплакалась, как в детстве:
– Никак ты плакать вздумала? Ну не надо, незачем это – заживет ножка до свадьбы-то…
– Какая еще свадьба! – продолжила всхлипывать Ксения. – Вот вы зачем меня обманули? Тимоша «остепенился»… Нехорошо, Серафима Ивановна… Мне уже рассказали – жалко так! Даже не верится…
Серафима не могла скрыть досады:
– Нашлись, значит, «добрые» люди! Ну что ж, удавился Тимофей, что теперь скрывать. Сам ведь в петлю полез, этакий грех совершил! А как бы вы на сцену вышли, когда бы я призналась? Узнали теперь, и что, легче стало?
– Нет, какое там, он у меня перед глазами как живой! Но скажи, Серафимушка, почему все так выходит? Хорошему человеку такой страшный конец! Искушение это или наказание, а если наказание, то за что? Мне вот теперь кажется, будто и я перед ним виновата. ..
Серафима опять гладила девушку по голове:
– И не думай – ни в чем ты, девочка моя, не виновата. Я тебе ведь тогда еще говорила – забудь о нем совсем, а ты не послушала. Такова судьба! Как это произошло, никто не знает. Может, был он в умопомрачении. Одному Boiy это известно. Не терзай себя, Ксеничка, покой тебе сейчас нужен…
– Все равно я молиться за него буду – Господь и там его не оставит! А еще я непременно узнаю, где его похоронили, – решительно объявила Ксения, глядя в глаза своей старенькой наперснице и помощнице.
– Помолись, милая, конечно, помолись: грешникам, говорят, в аду облегчение, когда за них молятся. Только сейчас соснула бы часок-другой. Спи, милая, спи…
Через десять минут убаюканная балерина мирно спала прямо в кресле.
Итак, завершающим, вторым актом представления в соответствии с программой значилась «Жизель» Адана в ностальгической постановке изысканного модерниста Михаила Фокина. В этом случае никаких затруднений не ожидалось: главная партия была давно освоена Коринфской, так сказать, заучена наизусть, с формой у нее все вроде бы было в порядке. Однако неожиданный триумф Светозаровой в «Пахите» настолько разозлил бывшую фаворитку, что она совсем утратила контроль над собой и стала наотрез отказываться выступать теперь уже в своей привычной, наигранной роли. Только после настойчивых уговоров Капитолина «соблаговолила» выйти на сцену. Сегодня она была на редкость неловкой, неповоротливой. Сначала эта история со шваброй в антракте, чуть не лишившая сумасбродную мадам глаза. Потом, во время спектакля, «фокусы» стали продолжаться: танцуя мазурку, балерина то и дело наседала на партнера, просто отдавила ему носки, а один раз так неудачно повернулась, что со всего маху угодила танцовщику локтем прямо в лицо (Иноходцев в сердцах обругал ее: «Ах ты…! Хочешь, чтобы и я окосел?»). В зале, конечно, не слышно, что артисты говорят друг другу вполголоса, но зато прекрасно видны все огрехи в танце.
Директор, нервно наблюдавший за всем этим из своей ложи, то и дело скрывался от стыда за тяжелый занавес и там, устало шепча: «М-да-с, ну и денек!», всякий раз вытирал платком пот со лба и даже глотал лавровишневые капли.
В середине «Жизели» Императорская чета вместе с французской делегацией покинула театр, выразив таким образом явное неудовольствие, следом за ними зал покинула свита. Оставшиеся зрители по разным причинам не уходили: кто-то решил до конца соблюсти правила хорошего тона, кто-то поддался любопытству увидеть своими глазами, чем же закончится и так уже провалившееся выступление, а некоторые не могли уйти из зала, ибо всегда находились здесь только по долгу своей очень серьезной службы.
«Это все Светозарова – сама выкрутилась, а меня сглазила, дрянная девчонка!» – проклинала соперницу Коринфская, выходя на фуэте. Провал был уже налицо, и теперь ее вообще стало раздражать все вокруг: декадентский антураж на сцене, кладбищенская декорация, в каждом зрителе виделся личный враг, желающий позора «заслуженной» балерины. Иноходцев и тот не оправдал доверия, а ведь сам вызвался оскандалить Ксению: «Меня бы так хоть когда-нибудь оскандалил!» – Капитолина неистовствовала на сцене, рассекая воздух подобно пушечному ядру. В этот вечер зрителям предстала тень Жизели, ее противоположность, пугающе-непримиримая и жестокая. Казалось, будто произошла таинственная подмена беспощадной властительницы девичьих душ Мирты и ее кроткой, смиренной пленницы. Всю обиду, всю желчь, ее переполнявшую, Коринфская выплеснула на сидящих в зале. Она кружилась в фуэте, как испорченная юла, периодически сбиваясь с ритма, и вдруг с ужасом заметила, что пол уходит у нее из-под ног! Причины такого ощущения Капитолина не могла понять, пока наконец не увидела, что вращается как раз в центре коммуникационного люка и крышка его фатально оседает вниз! Балерина еще успела соскочить с трещащей крышки и продолжила танец рядом, из последних сил одолевая испуг, но, видно, ей было суждено по-настоящему пострадать в этот вечер. Софиту, своевольничавшему в первом отделении и угрожавшему еще Ксении, теперь, вероятно, вовсе надоело обслуживать сцену, и он, сорвавшись с подвески, попал прямо в несчастную балерину, та же, оглушенная, рухнула в люк, к тому моменту уже открытый. Из зала все выглядело так, будто совсем обезумевшая Жизель угодила во внезапно разверзшуюся могилу, что совершенно не соответствовало ни либретто, ни замыслу постановщика, а, по сути, было настоящим несчастьем: Коринфская получила такие серьезные травмы, что была выведена из строя и потом с трудом вернула форму.
Из зависти к Светозаровой, которую буквально засыпали цветами после каждого спектакля, да и просто из тщеславия, Капитолина постоянно нанимала клакеров. которые не только усердно отбивали ладоши после ее выступлений, но преподносили ей не меньшее, а часто большее количество букетов. Правда, смотрелись эти розы и хризантемы, самой же Коринфской оплаченные и ею же «нашпигованные» визитками высокопоставленных лиц, всегда как-то нелепо, бледно и чем-то напоминали грустные, похоронные венки. В этот вечер заказные букеты вообще не пришлись ко двору…
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Король Дании
I
Арсений оторвал голову от подушки, оглядел комнату: шкаф с реактивами был раскрыт настежь, на столе стояли откупоренные пузырьки, а рядом бутылка с остатками «Смирновской». К нему стала возвращаться память: «Скотина братец: „лечить“ меня вздумал водкой, а потом еще и реактивы спутал – спирт, видно, искал. Чудом на тот свет меня не отправил, горе-лекарь! Да и я хорош тоже: оставил на столе целую алхимическую лабораторию. Наверное, он все вылакал, пропойца! За этим Иваном глаз да глаз, а я еще должен за него беспокоиться, то исчез, то опять вот появился».
Арсений попытался было встать, но, почувствовав острую боль в ноге, охнул и опустился обратно на диван. Нога опухла и имела крайне нездоровый вид. Удивительно. что вчера на спектакль он буквально бежал, а обратно уже плелся, прихрамывая на левую ногу.
Память тотчас перечислила все поразительные события, напасти и радости, произошедшие с ним в последнее время: целая авантюрная эпопея с написанием портрета, неожиданно нарушившая его одиночество любовью к балерине Светозаровой; рождение в порывистом, нераздельном слиянии молитвенной надежды и безрассудной страсти иконы, чудным промыслом оказавшейся в храме и пославшей ему все-таки знакомство с ней – той единственной, чистой, для кого и был задуман этот безусловно дерзостный творческий ход; отвратительно жуткая история с ожившей, взбесившейся скульптурой собаки, которую пришлось убить; страсть к стихосложению, мучительно-сладкая.
открывшаяся у него подозрительно внезапно, как чахотка (одной любовной лирики, написанной за это время, хватило бы на целый большой цикл!), и наконец настоящее недомогание – эта нелепая травма ноги! Столько разных, на первый взгляд, разрозненных фактов вызывали у Арсения единственный вопрос: «Из рога ли изобилия или из рокового ящика Пандоры все это просыпалось – дело даже не в этом, непонятно только, почему именно на мою бедную голову, почему одно за другим – возможно ли, чтобы все произошло просто так, без какой-то подспудной связи?»
Он поворочался на диване, ища удобную позу, чтобы обрести душевное равновесие, но когда замер, прикрыв глаза, мысли все так же обгоняли друг друга, к тому же не прекращалось жжение в лодыжке. Сеня осторожно приподнялся, опираясь на спинку, и, дотянувшись до стола, взял в руки приобретенную на днях книжицу. Это был поэтический дебют, сборник некоего Рюрика Ивнева, только что вышедший из печати. Прежде Арсений поэзией мало интересовался, читал разве что общепризнанных классических авторов, а к литературным новшествам и вовсе относился с подозрением. Сборник имел интригующе двусмысленное название – «Самосожжение». Именно название, кричащее с картонной обложки крупными красными буквами, заставило художника купить сочинения неизвестного «стихотворца», возможно, неистового старообрядца или же спешащего заявить о своей непохожести на всех прочих поэтов молодого буяна-футуриста.
Открыв книжицу наугад, Сеня прочел нараспев, дабы оценить музыкальные достоинства стиха:
Еще недавно – камни, пыль и зной.
Теперь – прохлада ключевой воды.
И кажется, что вот – передо мной
Раскинулись не крыши, а сады.
Так вырастают крылья на горбе,
А мертвый сон становится живым.
Я засыпаю с мыслью о тебе
И просыпаюсь с именем твоим.
Он не поверил своим ушам, медленно перечитал восьмистишие, впиваясь глазами в каждую строчку, каждое слово. Вне всякого сомнения, это сочинил он сам – здесь, на подоконнике, совсем недавно, глядя на припорошенные снегом василеостровские крыши! Ничего не понимая, Арсений нервно перелистнул страницу, и там было тоже знакомое, до боли выстраданное – из его цикла, посвященного балерине.
Наитие, истинное вдохновение водило Сениной рукой тогда, возле окна: именно причудливый зимний узор, иней на стекле напомнил ему яблоневый сад в цвету, окружавший давно проданный за бесценок отчий дом, такой ветхий, что новый хозяин земли сразу распорядился сломать его. Сене нестерпимо захотелось постелить под ноги возлюбленной кипенно-белый ковер из лепестков мая, расцветшего среди зимы, осуществить это хотя бы в поэтической форме. Так у него возник завершающий стих первой строфы, когда второй еще не родился. Четвертый сам должен был подсказать Арсению единственный созвучный образ и точную рифму. Последняя не заставила себя ждать – «сады – воды», но повисла в воздухе, потому что наполнится содержанием ямбическая строка не спешила. Колыхалась в подсознании какая-то неопределенная водная стихия, пока наконец не пробилось искомое – конечно же, ледяной, бодрящий родник, ключ! И хотя в реальном десницынском саду не было никакого ключа, Сеня тогда понял: вот как раз то, что нужно, образы перекликаются в своей звонкой свежести, непременно должен быть этот ключ – символ искренности детских воспоминаний и чистой возвышенной любви! Вторую строфу он написал на одном дыхании, уже не задумываясь…
Теперь Десницын заставил себя встать, несмотря на боль в ноге, кинулся искать черновики – да вот же они, все стадии творческого процесса налицо! Зримое свидетельство того, что память не обманула и он не бредит. Тогда каким образом его стихи, о существовании которых не могла знать ни одна душа, оказались напечатанными в чужом сборнике?! В телепатию, точную передачу мыслей и образов на расстоянии, Арсений не то что бы отказывался верить, но считал ее явлением исключительно редким и уж точно безблагодатным, откровенными происками темных сил. Он не столько испугался, сколько был обескуражен и возмущен: «Это моя любовь, мои ощущения, мой внутренний мир – как посмел кто-то бесцеремонно вторгнуться в него?! Разве я не сторонился всегда сомнительных новомодных увлечений – спиритизма, астрологии, буддийской философии? Разве я не искренне верую. .. или душа моя уже не принадлежит целиком Господу?!» Последняя мысль заставила Сеню содрогнуться: он быстро пролистал весь сборник – вдруг еще попадутся его стихи? Ничего своего он больше не обнаружил, даже наоборот – остальные вирши не соответствовали его вкусу и творческим принципам, в них то и дело проскальзывали вызывающая пошлость и цинизм, истерическая, натужная религиозность сочеталась с откровенным богохульством. «Значит, все-таки мелкий плагиат? Поэтому и подлинное имя скрыл: Рюрик Ивнев – типично богемный псевдоним с намеком на благородство происхождения и утонченность натуры. Звонцов такое любит… Зачем только футуристу этому понадобились мои стихи? Собственных анархических опусов мало показалось, решил чужими разбавить… Да Бог с ним, мальчишка какой-нибудь, перебесится еще, но откуда он их мог взять?! Может, и спирит, конечно, – теперь ведь все точно с ума посходили, каждая вторая гимназистка тарелки вращает и с духами общается… Только бы не сойти с ума от этих стихов – „Дар напрасный, дар случайный. .Такой ли уж случайный… Нет, все-таки я решительно ничего не понимаю!»
Трескучий звонок в прихожей заглушил этот почти беспомощный вопль души. Дверь открыл проснувшийся Иван. Оказалось, почтальон принес последний номер литературно-художественного журнала «Аполлон». Десницын выписывал его из-за серьезных монографий по искусствоведению, обзоров художественных выставок. Как художнику ему были во многом близки эстетические установки «Аполлона», стремление к «прекрасной ясности» и «стройности» классических образцов. Он любил полистать изящно изданный и прекрасно иллюстрированный альманах, а с некоторых пор стал неравнодушен и к поэтическим публикациям. Здесь никогда не печатали стремящихся к эпатажу и откровенно не признающих авторитеты молодых бунтарей вроде того, чей сборник только что обескуражил Десницына, смутив душу жутковатыми подозрениями.
Арсений с надеждой раскрыл художественный раздел и не ошибся – попалась замечательная статья о Боттичелли. Он читал о своем, возможно, самом любимом живописце, непревзойденном лирике кватроченто, и чувствовал, как становится легче и светлее, как успокаиваются нервы. Увлекшись, решил поискать еще что-нибудь подобное. Вот стихотворная подборка Максимилиана Волошина. Фамилия была на слуху – известный поэт, но вышло так, что до сих пор Арсений не был знаком с его творчеством. Подумалось: «Это может быть любопытно. Наверстаю-ка я упущенное!» «Corona astralis [192]192
Звездный венец (лат.).
[Закрыть], Венок сонетов», – прочитал он заглавие, а последние строфы точно обожгли мозг:
В мирах любви – неверные кометы, —
Закрыт нам путь проверенных орбит!
Фантазия поэта расцветала на нескольких страницах. Пятнадцать сонетов, четырнадцать из которых начинались строками завершающего, изысканно развивая скрытый смысл, свернувшийся в него, как в тугой бутон. «Бутон» был тот самый сонет, который родился у Сени после памятной встречи с балериной Светозаровой – его первый поэтический опыт! Он точно помнил дату написания – такое не забывается. А в «Аполлоне» черным по белому было напечатано: «Август 1909 года. Коктебель» «Что же получается? Волошин написал это почти пять лет назад в полумифическом селении со странным названием, да еще так блестяще развернул идею…» Арсений поймал себя на том, что остальные четырнадцать стихотворений до сих пор таились где-то в неисповедимых извивах его души и что если бы он написал их тоже, то получилось бы точь-в-точь как у Волошина, слово в слово!!! Не сиди он в эти минуты на диване, наверняка не выдержал бы и упал без чувств. Теперь выходило, что он, Арсений Десницын, украл произведение у известного поэта! «Но это неправда, это невозможно! Я впервые в жизни сочинил стихи, моя любовь вдохновляла меня, моя муза диктовала их… А если допустить, что я в наваждении, кто же тогда меня морочит?»
Тут он мысленно вернулся на несколько лет назад: Германия, пустой коридор Йенского университета, покойник Ауэрбах, суливший русскому «стипендиату» дар Гёте. «Неужели старик успел совершить свой эксперимент, свой магический ритуал, и вот я унаследовал.. .Чепуха – самое важное не подтверждается! Почему, к примеру, это не проявилось сразу? Он ведь говорил тогда: «Наутро будете писать и думать как Иоганн Вольфганг, продолжите его дело». Ничего подобного не происходит и сейчас – стиль и дух моих стихов чей угодно, но не гётевский! Но что же делать-то? Где причина напасти, в каком мелком бесе? Грех, грех на мне большой – икона давит, Николай Угодник не узнает свой образ! Единожды впал в искушение, вот и расплата наступает… Но никогда ведь не поздно все исправить, отмолить! Только научил бы, наставил Господь, помог бы разобраться хоть в самом себе…». Сеня сделал первое же, что пришло в голову, схватил со стола пачку черновиков, тут же разорвал и в гневном порыве бросил на пол: «Лучше бы мне было совсем их не писать!»
Немного придя в себя, художник все же встал, чтобы навести в мастерской хотя бы видимость порядка. Голова все еще шла кругом, подташнивало, и тут он увидел среди стеклянных емкостей кусок картона с… громадной светящейся пуговицей. «Галлюцинация», – подумал он, подошел ближе – пуговица заметно уменьшилась и стала такого размера, как и была нарисована вчера, но тогда она не светилась, а была заурядной живописной миниатюрой. Когда же Арсений стал отходить – эффект увеличения и свечения становился все больше. Создавалось впечатление, что на светящемся кусочке картона лежит такая здоровенная светящаяся пуговица. После чего Арсений поспешно вернулся на диван, уткнулся лицом в спинку и из этого «убежища» испуганно спросил вошедшего Ивана:
– Что это там, на столе? Прошу, подойди поближе, посмотри, а?
Брат склонился над столом:
– Светится что-то – ты, наверное, фосфор в краски добавил. Слушай, тут просто пуговица на картонке нарисована.
– А почему большая такая?
– Не выдумывай: пуговица как пуговица… – ответил было брат, но, отойдя от стола, спохватился. – Нет, погоди-ка: она увеличивается на расстоянии и вроде больше фосфоресцирует.
Арсений подумал: «Ничего тут удивительного: оптический эффект, к тому же испарения могут действовать как наркотик, вот и кажется, что пуговица растет. Элементарный обман зрения плюс действие ядовитых паров».
– Закрой-ка эти флакончики от греха подальше! И окно открой… – попросил Арсений брата.
Иван со знанием дела стал закупоривать пузырьки и убирать в шкаф, допив под шумок водку.








