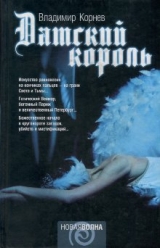
Текст книги "Датский король"
Автор книги: Владимир Корнев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 52 страниц)
Асанов в ответ мог лишь пожать плечами: когда-то, в корпусе, он, разумеется, изучал основы естественных наук, но это было давно, да и не настолько глубоко, чтобы разбираться в сложных вопросах строения вещества и неведомых пластических экспериментах.
– Ток – явление сугубо физическое, любезнейший. А когда речь идет о чуде (вы ведь сами говорили), никакой физикой его не объяснишь.
– Да разве ж я спорю? Просто узнать хотел, как образованному человеку мое разумение покажется: не свихнулся ли старик. Ну, значит, и верно – не в технике здесь дело! А земля слухом полнится, как говорится. потому народу могилки никогда не убывает. Приходят сюда старые и малые, и господа, и попроще люд. Верят, что место святое. Пророческое, так сказать. Иногда часами простаивают: все ждут, когда статуя повернется, да как, да куда рукой укажет, а после толкуют, что бы это значило. Если еще и голову поднимет, то, значит, знак чрезвычайно важный: нужно успеть угадать, что у нее во взгляде – доброе знамение или жди несчастья (но ее вообще-то благой заступницей считают). Записок с просьбами здесь столько собираю – целые вороха порой! Я их не читаю, худого не подумайте, и батюшке тоже боязно отдавать – он считает за суеверие, но я свое придумал – сжигаю их за алтарем, с молитвой, когда не видит никто, – получается с уважением, вроде как она сама прочла… Много по России несчастья-то, так к ней горемыки, паломники разные даже из дальних губерний частенько со своими бедами приезжают. Случается, и помогает – по вере, видать, воздается…
Тут унтер, не вытерпев, с чувством заметил:
– Так точно! Вся жисть наша ею держится, отец, с ней и помирать не страшно! Кто не верует – дрянь человек, шалопут, и кончает плохо.
Тем временем в хмуром ноябрьском небе возник ясный просвет, солнце неожиданно выглянуло из-за рваного полога туч. Собравшиеся вокруг «святого места» оживились, многие принялись молиться, и все в напряженном ожидании наблюдали за скульптурой. Сторож сам подошел ближе, жестами увлек за собой военных:
– Быстрей, быстрее же, господа! Погода переменилась, сейчас, может, и вы что увидите – как раз оно всегда так и случается. Только следите со вниманием, ваше благородие!
И тут полковник, приложивший ладонь козырьком ко лбу, чтобы необычно яркое солнце не слепило глаза, явственно разглядел, как голова танцовщицы, украшенная стефаной, медленно приподнялась – словно бы спящая красавица очнулась от сна, и одухотворенное лицо ее обратилось на восток, куда были устремлены лучи небесного света, скрещенные же руки так и остались лежать на груди (Асанову показалось только, что она с благоговейной покорностью прижала ладони к плечам, как это принято делать перед Причастием). Владимир Аскольдович уловил направление взгляда балерины, увидел, что она смотрит прямо на блистающий позолотой крест часовни!
– Ну, что я говорил, господа хорошие! Теперь сами видите – чудо и есть! – прошептал старик и широко осенил себя крестным знамением. Присутствовавшие ощутили то же самое: солнечный свет преобразился в незримое, неизреченное сияние, озарившее жаждущие откровения, животворного тепла души. Теперь все вокруг уже крестились, и даже у мужчин на глазах показались очищающие слезы. «Удивительная все-таки была женщина, вне сомнения, чистое сердце! – убеждался Асанов, приходя в себя после увиденного. – И это несомненно доброе предзнаменование, как благословение в обратный путь».
Паломники же, тоже придя в себя, заметили, в свою очередь, двух военных – явно «оттуда», с полей, о которых регулярно сообщают скупые газетные сводки. Немногочисленные сугубо штатские мужчины недовольно, а может, и виновато потупили взоры, женщины смотрели с грустью – наверное, вспомнились родные, которые тоже сейчас были «там» и терпели лишения. Какая-то дама в крестоносном капоре сестры милосердия, призывая сограждан к сознательности, точно скомандовала:
– Да расступитесь же! Разве не видите, господа офицеры с фронта? Дайте же дорогу, сограждане!
Она и за ней остальные решили, видимо, что полковник с унтером тоже привезли цветы к могиле всеобщей петербургской любимицы.
– Да уж будто мы совсем ничего и не понимаем! Что ж мы, не русские, что ли? Тоже понимаем, кому теперь всего тяжелее: храни вас Господь, ратники Христовы! – сочувствующе, с некоторым даже надрывом, защебетала богомолка, недавно еще тихо молившаяся в стороне, и широко перекрестила молчавших военных. Старик-сторож, зная свое дело, важно двинулся с корзиной вперед, Асанов же с ординарцем, не видя смысла объяснять кому-либо, что никакого отношения к цветам не имеют, только поспешили за ним. Вокруг могилы было так много букетов, цветочных корзин и венков, что даже разобрать надпись на постаменте не представлялось никакой возможности.
Егор, у которого всегда было что на уме, то и на языке, вполне естественно выдал откровение в духе «окопной» правды:
– Эх, мать честная, и сколь же за все это уплочено! Братцам бы нашим, Царствие им Небесное, хотя б одну вот такую охапку… А и зачем, спрашивается? Этак подумаешь, что живыми-то цветами мертвую воскресить можно! Коли б оно так и было, а то ить… Какие деньжищи за одно украшение – эхма!
Командир одернул за рукав раздосадованного ординарца, но оказалось уже поздно: за правым плечом у него густой, низкий голос, природную мощь которого невозможно было убавить, произнес:
– В «Креди-Лионе» лежат 150 тысяч 256 рублей золотом, а проценты обращаются в это вот самое «украшение», как вы только что заметили. Такова, знать, воля Божия, дети мои!
Тотчас обернувшись, Асанов увидел полного священника средних лет, с проницательным взглядом и уже совершенно седой, по грудь, бородой: седина серебрилась под стать наперсному кресту и затейливо вышитой епитрахили, одновременно контрастируя с длинным черным подрясником. Словом, весь вид его вызывал доверительное почтение, к тому же поразило столь точное – до рубля! – знание суммы вклада, будто батюшка сегодня справился об этом в банковской конторе. Полковник покорно склонился под благословение, за ним и унтер. Офицер хотел представиться по всей форме:
– Ударного пехотного N-ского полка командир… – Но почувствовал, что это не совсем уместно, и изменил тон: – раб Божий Владимир. Нам, ваше преподобие, как раз очень нужен священник! Панихиду бы отслужить по боевым товарищам, в двух шагах отсюда. Я давно уж собирался, да вот только сейчас выпала возможность, а завтра опять в полк…
Батюшка сокрушенно заизвинялся:
– Ну право же. сейчас никакой возможности нет – треба за требой, с ног уж сбился, любезные мои! Только что нескольких отпели, да теперь вот венчание идет – отец настоятель чин отправляет, но я уж обещал в конце помочь – жених с невестой еще и молебствие заказали. Никак не могу, вы уж простите грешного иерея Антипу!
Егор проворчал что-то под нос, Асанов сам едва подавил чувство досады.
– Ну вы уж отслужите потом, когда будет время, отец Антипа, я ведь обет дал помянуть по всем правилам. Вот вам деньги – я бы очень хотел исполнить долг памяти. Долг офицера, поймите. И на храм вот тоже примите…
– Бог благословит вашу жертву! Все понимаю – святое дело, – закивал священник. – Непременно отслужу, только укажите где.
Расторопный Егор отвел батюшку к символическому захоронению, а у Владимира Аскольдовича душа нуждалась хоть в каком-то утешении, облегчении: он стал безотчетно раздавать милостыню, тем более что нищие и калеки, безошибочно угадывающие подобные душевные порывы прохожих господ, уже отовсюду тя нули руки к щедрому «их благородию». Полковник сам не заметил, как раздал практически все, что у него было при себе. Тут опять послышался бас отца Антипы, уже направившегося было к церкви, но внезапно окликнувшего одного из «убогих»:
– А, ну-ка, сын мой, подойди-ка сюда! Сейчас тебе говорю – подойди! Ты что ж это, Христа ради просишь, а сам Господа обмануть вздумал?!
Тот остолбенел, открыв от удивления рот, в котором поблескивали золотые коронки.
– У тебя ж. раб Божий, в суме четвертная лежит, да не одна, я-то знаю! У других и того нет, а не просят. И не стыдно тебе честных людей в соблазн вводить? Не стыдно защитников своих обирать? Сам-то, небось, белый билет себе справил, чтобы от воинского долга отлынивать, а? Ну, пошел прочь, лукавец!
Жалкий попрошайка, отмахиваясь, со всех ног бросился прочь, как черт от ладана, и, словно настоящая нечисть, растаял среди крестов. Отец Антипа строго взглянул и на офицера:
– А вы тоже хороши, господин полковник, раб Божий Владимир, себе и вовсе ничего не оставили? И в милостыни меру нужно знать!
Асанов окончательно убедился, что перед ним не просто священник, кладбищенского прихода, а прозорливый пастырь, к которому можно обратиться не только для отправления требы, но и за мудрым советом.
Отец Антипа на самом деле был опытный духовник и жизнь вел, можно сказать, подвижническую.
– Ваше преподобие! – снова заговорил Асанов, обеспокоенный тем, что батюшка сейчас уйдет, так и не услышав главного. – У нас ведь к вам есть дело особой важности, вопрос духовного свойства. Мы хотели обратиться прямо в консисторию, но теперь, я думаю, что и ваше слово, ваше мнение на этот счет поможет нам преодолеть сомненья, я бы сказал, просветит нас…
– Что же это за дело неотложное и многознаменательное, любезные мои? – с доброй иронией вопросил иерей, увлекая военных за собой с намерением попутно узнать, что могло так их озаботить.
– Видите ли, отец Антипа, я повторюсь, вопрос очень деликатный… В нашей части имело место, как мне кажется, настоящее чудо, иначе не скажешь. Понимаете, мы готовы свидетельствовать перед Крестом и Евангелием, что событие, произошедшее на позициях вверенного моему командованию полка, можно рассматривать только в свете религиозном, промыслительном, так сказать, в противном случае оно просто необъяснимо! Мы даже решили сначала, что это было явление нового чудотворца и хотели хлопотать о его причислении к лику святых, теперь, правда, обстоятельства несколько изменились и…
– Послушайте, господин полковник, давайте все по порядку, – остановил офицера батюшка. – Не волнуйтесь и рассказывайте спокойно. Значит, вы говорите о некоем необычном явлении. Где это случилось? При каких обстоятельствах?
– В начале этого года мой ударный полк был направлен на Юго-Западный фронт, в Галицию, в район Луцка. Там на позициях тогда были серьезные беспорядки из-за нового пополнения. Представьте, все наши силы готовятся к наступлению, а на одном участке настоящая смута – позор! Да, сказать правду, если бы только в одной части… Потери на фронте, увы, серьезные, и, что всего печальнее, – гибнут наиболее отважные, всё лучшие бойцы, а пополнение зачастую ненадежное – сначала студентов мобилизовали, а теперь и вовсе придумали для оборонных работ целые роты наскоро формировать из настоящих арестантов. Уголовный элемент даже, политические преступники попадают в действующую армию! Тот, кто это придумал (там, наверху), или безумец, или… Впрочем, не мне судить – эти люди когда-нибудь ответят перед Государем, перед Богом. Так вот, в подобной роте вспыхнули беспорядки: политические распропагандировали конвойный взвод, воры, разумеется, тоже не остались в стороне. Сначала солдаты отказались нести охрану, потом вместе с арестантами устроили «братание» с противником… Арестовали офицеров, и, если бы не мои ударники, вряд ли пощадили бы – сбесившаяся чернь! У нас-то с ними разговор был короткий, по законам военного времени – к дезертирам и преступникам снисхождения не проявляю… и приказ у меня имелся недвусмысленный – усмирить любой ценой, покарать!
Священник помрачнел:
– Казнили… Неужели всех?!
– Да в том-то и дело, что не всех. Здесь как раз начинается главное, то, что трудно истолковать иначе как высший промысл. Негодяи они, разумеется, были отпетые и проклинали все и вся. Даже перед смертью только единицы каялись по-христиански, но за одного просили, как сговорились. Заявили, что он, мол, в бунте никакого участия не принимал (это, кстати, и офицеры сразу подтвердили), осужден «невинно», будто бы даже других отговаривал, будто бы он для них не свой (так и говорили!), какой-то «блаженный», и даже прозвище его «Арсений – Божий человек». Сам этот Арсений – ни слова в свою защиту, только все молился. Я потом уже заметил, что Псалтырь он едва ли не наизусть знает!
– А ведь я, любезные мои, грешным делом сам иногда путаюсь в священных текстах, – признался отец Антипа, – Редкий дар у вашего солдата – видимо, из духовного звания!
– А вот и нет! Я в спецотделе при штабе армии справлялся: по документам – художник без образования, самоучка из небогатой семьи, хотя род, правда, древний, имеет дворянские корни. Из него, кстати, о прошлом слова было не вытянуть. Улыбался, действительно, как-то блаженно и говорил: «Да вы ведь и сами все знаете, ваше высокоблагородие. Что мне рассказывать?» Статья у него, между прочим, весьма серьезная была, политическая! Теперь я и сам думаю, что по ошибке осудили, а тогда сомневался, только все же решил не расстреливать, учитывая такое массовое заступничество, да и человека я в нем увидел сразу не «отпетого», как остальные, понимаете, батюшка? Первое время просто не знали, что с этим «Божьим человеком» делать, держали под арестом. Потом я все же приказал его выпустить, а в конце мая, когда наступление началось и полк стал нести потери, тогда и ему нашлось место в санчасти медбратом. Тут сразу и выяснилось, что у Арсения Десницына настоящий дар исцеления. Безо всяких специальных навыков начал такие чудеса в лазарете творить – ну просто кудесник какой-то! Я о медицине имею некоторое представление, еще на Японской насмотрелся всяческих ран и человеческих мук, видел операции в полевых условиях, но то, что творил он, раньше даже и представить себе не мог – не поверил бы, если бы своими глазами не увидел. Помолится, и за дело: пули «вытягивал» прямо через входное отверстие, без всякой хирургии – у него пальцы уникальными магнетическими свойствами обладали, необъяснимой тягой какой-то. Он ими и рваные раны от осколков заживлял. Казалось бы, сплошное месиво, а Десницын сведет руками края кожи, ловко так, прочитает при этом «Живый в помощи», и все на глазах затягивается. даже рубца не оставалось! Потом раненые признавались, что боли при этом никакой не испытывали – только тепло и сразу прилив сил. Да что говорить – я на себе его целительную силу испытал. У меня контузия была, еще с маньчжурских боев, с головой иногда творилось не передать что – врачи плохо помогали, а когда молва пошла про этого Арсения, подумал: «Может, и мне поможет». Объяснил ему свой, выражаясь языком медицины, анамнез, а он зачем-то попросил меня снять «шапку». Я не понял ничего, но просьбу исполнил. Взяв папаху, тот принялся нещадно колотить ее первой попавшейся палкой, приговаривая: «Болит не голова, а шапка, шапка, а не голова!» Я сначала оторопел, по-прежнему ничего не понятно. «Спятил он, что ли?» – думаю, но тут вдруг боль как рукой сняло; шум в ушах прекратился, равновесие восстановилось, и так посвежело в мозгу, будто родился заново. Десницын мне и говорит тоном проповедника: «Физическая рана, ваше высокоблагородие, – ничто по сравнению с душевной. По-настоящему кровоточит душевная рана, хотя это мало кому дано видеть. А боль необходимо только нарисовать и отпустить: нарисуешь реку – и боль по ней тут же утечет, изобразишь, скажем, воздушный шар, она взмоет с ним под облака и растает. Я давно это знаю, а откуда, сам не могу объяснить». Из этих слов я понял только, что он на самом деле может «укрощать» болезни. Егор вон тоже может свидетельствовать.
– Так точно, – охотно подтвердил ординарец. – Вы. батюшка, еще на мои зубы посмотрите – как у кавказца, чистый миндаль, а ить выбито было сколь – служба солдатская, всякое случается. И тоже «блаженный» заново вырастил, коренные, – не шучу! У нас одному ефрейтору палец оторвало, так Арсений ему новый нарастил, ей-Богу! – Он даже перекрестился для убедительности.
Отец Антипа задумался, стал разглаживать рукой бороду:
– По-научному, выходит, регенерация мышечной и костной тканей, так, что ли? Хм… Беспримерный случай! Нет, случается, конечно, вот Иоанн Дамаскин умолил Матерь Божию. и Та прирастила ему руку, но ведь то какой светильник веры был. великий преподобный, только здесь уж больно сомнительно… – И добавил строго: – А ты, сыне, не дерзай именем Божиим клясться, всуе не поминай – сам знаешь, грешно это!
– И все-таки, батюшка, не судите так строго, – заметил Асанов. – Он ведь правду рассказал.
Иерей, не в первый раз уже приложив руки ко кресту, отвечал с настороженной недоговоренностью:
– Ведь то-то и оно, сын мой, что на заговор похоже. Заговор вводит во искушение и соблазн. Уж больно сомнительное чудо, я мыслю, не от лукавого ли? А может, это просто знахарство?
– Ручаюсь, что не знахарство. Он так и светился истинною верою, отец Антипа. Никогда не замечал в этом «блаженном» лукавства, а вы бы видели, как он стоял на молитве, глаза бы его видели! У него над койкой в изголовье всегда висели иконки, особенно я запомнил образок Ангела-Хранителя. Ни у кого такого не видел, овальной формы на перламутре. Он говорил, что родительское благословение. Но, правда, пускался он порой в странные споры, мне самому это казалось искусительным и вредным – негодовал часто по поводу несправедливости в мире, говорил о чрезмерном богатстве одних и унизительной нищете других. Я, бывало, даже припугну его: «Это что ж ты, говорю, братец, революционную агитацию разводишь? Недаром ты по политической статье проходил, с огнем играешь, Десницын!» А он всегда одно отвечал: еще Христос проповедовал, ваше благородие: «не войти богатому в Царство Небесное, как верблюду в игольное ушко», и спор на этом заканчивался – не мог же я отрицать слова Самого Спасителя… Нет, ваше преподобие, человек то был православный, вне сомнения. Да и доказал это всем потом так, что всю жизнь будем помнить, – в противном случае мы бы к вам за советом не обратились…
– Ну, рассказывайте, рассказывайте тогда самую суть: чем же так прославился ваш подвижник? У меня не много времени, но, раз уж такое дело, я вас внимательно выслушаю, дети мои.
Владимир Аскольдович кашлянул, перевел дыхание и снова заговорил – видно было, что с волнением ему трудно справляться:
– Ну-с вот! Э-э-э… Произошло то, о чем я сейчас расскажу, в конце сентября после брусиловского прорыва – вы о нем, батюшка, не могли не слышать, тогда все газеты были полны победных реляций. Так вот, полк мой в эти дни находился под Жидачовом – есть, представьте себе, такое местечко в Карпатах, южнее Львова, хотя, сказать по чести, лучше бы его совсем не было и я никогда бы не узнал о его существовании, потому что именно там мы угодили в настоящую ловушку: зажали нас в ущелье – с одной стороны австрияки недобитые, с другой – германцы. Положение сложилось критическое, хуже некуда. Как в тихом омуте – полная блокада, а боеприпасы и провиант кончались, и самое главное – запас воды иссякал день ото дня. За всю войну такого цейтнота не помню! Солдаты хоть и не роптали, но отчаялись, стали пить какую-то болотную гниль, прямо под ногами черпали, процеживали. Сначала этим спасались, а потом началась дизентерия. Соседи наши на выручку не шли – черт знает, как сквозь землю провалились… Простите, батюшка! Прорыв был невозможен: или верная смерть, или верный плен. Вся надежда осталась только на небесное заступничество, но люди ведь тоже не из железа – офицеры, те, что помоложе, стали самообладание терять, а на фронте ничего хуже нет, когда у командиров сдают нервы. Один молоденький прапор, из мобилизованных, не кадровый, не выдержал – пулю в лоб пустил. Я ломаю голову, вспоминаю похожие переделки, в которых бывал, а выхода не могу найти – неужели, думаю, конец пришел моему ударному полку? Огонь и воду прошли, а тут, похоже, конец! Я, ваше преподобие, особенно Николая Угодника почитаю и в те дни взял за правило ежедневно читать ему акафист, а личному составу приказал каждый вечер перед сном возносить ему молитву – единственная надежда у нас тогда оставалась. Вот так и ждали, как наша участь разрешится, надеялись…
Я ведь регулярно отправлял разведчиков в расположение противника, но эти вылазки не приносили почти никаких результатов, а тут вдруг удача – взяли языка, да не кого попало, а старшего офицера из австрийского штаба и целую фуру с продовольствием, с которой он, по счастью для нас, следовал на позиции. Допросил его лично (язык, надо сказать, перепугался здорово), и выяснилось интересное обстоятельство: их кавалерийская бригада не имела постоянной связи с немцами, обложившими нас с другой стороны ущелья, и о планах друг друга они имели весьма условное представление, о том, что у нас все припасы на исходе и положение отчаянное, им тоже известно не было. Если бы я располагал большими силами, не раздумывая пошел бы со своими молодцами на прорыв, зная, что нам никто не ударит в тыл, но у нас в строю набиралось не более восьмисот штыков, а противника (я располагал проверенными данными) и с той, и с другой стороны по нескольку тысяч, да еще отборные части! В то же время нужно ведь было что-то решать. Собрались на совет с офицерами и решили все же прорываться с боем через австрияков: их было все ж меньше, чем германской пехоты, да и вояки они давно уже не те, что прежде. Зато мои солдаты набрались физических сил, а это чрезвычайно важно перед тяжелой схваткой и тоже делало наши шансы на успех не столь уж призрачными. На вечерней поверке личному составу было объявлено о предстоящем решающем бое как о единственной возможности выйти из окружения. Я сказал перед строем, что задача трудная, но ее нужно выполнить любой ценой – русскому солдату лучше умереть с честью, с оружием в руках за Царя и Отечество, чем от голода и болезней в этой западне, или, что всего позорнее, не сегодня-завтра оказаться в плену; в общем, приказал точить штыки и готовить чистые рубахи. Ударники мои не робкого десятка, но все давно устали от обреченности, а как услышали боевой приказ, сразу духом воспрянули – ответили дружным «ура!». И тут выходит из строя тишайший санитар Десницын, обращается по форме и объясняет, что напрасные жертвы ни к чему, а он «лично» берется устроить так, что вся операция пройдет без капли крови!
– Братцы-солдаты даже возмутились тогда, – снова не утерпел горячий ординарец, – дескать, выискался Аника-воин – погибнет не ровен час, а кто нас целить будет?
Асанов на сей раз строго прикрикнул:
– Не перебивай, Егор, взял моду! Откуда у тебя такая прыть? Раньше ты себе такого не позволял! Итак, ваше преподобие, я и сам такой дерзости даже не ожидал, но решил выслушать совета – «блаженный» как-никак. Арсений быстро рассказал, что задумал: он, дескать, переоденется в австрийский офицерский мундир и тогда спокойно заявится к немцам, объявив, будто послан австрийским штабом с известием о скоплении в долине больших русских сил и уполномочен передать, что его бригада уже сдалась в полном составе в плен и теперь всякое сопротивление бессмысленно, а для сохранения жизни германских солдат им, дескать, разумнее всего сложить оружие в определенном месте, у входа в ущелье, на берегу озера, поднять белый флаг и в назначенный час ждать, когда русское командование примет эту почетную сдачу. Предложение, безусловно, выглядело авантюрным, но в полку все знали, что Арсений прекрасно владеет немецким и основания сомневаться в том, что противник вполне может поверить в его «легенду», не было; к тому же я, признаться, сторонник дерзких авантюрных шагов, если того требует ситуация. В тот момент я объявил, что это предложение стоит обсудить.
После отбоя офицеры снова явились в мой блиндаж предупредить, что политическому преступнику доверять нельзя, мол, он задумал перейти на сторону противника, чтобы выдать плачевность нашего положения и таким образом сдать полк. Можете себе представить, какие сомнения меня терзали всю ночь, но в полусне точно какой-то голос все время нашептывал, что «Божий человек» также спасет часть от гибели, выведет из западни. Знаете, я тогда положился именно на этот голос – со мной бывало, что Господь вразумлял таким образом. Словом, проснулся уже безо всяких сомнений. С вечера нарядили Десницына во вражеский мундир и отправили с Богом к германским позициям под мое личное ручательство, чтобы уже в полдень встретить его с обезоруженными пленными на берегу озера. Я сам зарядил пистолет одним патроном, дал ему на случай неудачи, и еще помню, перекрестил перед дорогой для пущей верности. Потом наказал личному составу с особым рвением молиться о нашем скором спасении. Утром полк оставил лагерь и в двенадцать ноль-ноль мы подтянулись к условленному месту, но ни белого флага, ни обезоруженных пленных там в помине не было. Смотрим, только вдоль самой кромки воды бродит одинокий медведь, а в воде по пояс стоит наш «блаженный»… Помнишь, Егор?
– Еще бы такое забыть! В руке револьвер, а сам и застыл как вкопанный – мертвый, значит, уже, а не падает! Видать, загнал его медведь в озеро, а он от испуга помер или закоченел – вода-то холодная, до Покрова уж недалеко было. Что за смерть такая несуразная?
– Рассуждать ты, братец, горазд, о чем понятия не имеешь! – Владимир Аскольдович рассердился на ординарца. – Может быть, и мне о том не дано судить, только знаете, отец Антипа, последствия как раз позволяют видеть высокую закономерность и в этой смерти. А то, что оружие осталось заряженным, так Арсений, по-моему, и не собирался стрелять – даже хищному зверю не желал смерти. Ну что ж, пришлось нам самим медведя застрелить, а то он нас к мертвому Десницыну ни на шаг не подпускал. Дозоры срочно выставили, а как только вытащили тело, решили и похоронить тут же. Закопали мы его на виду, там такой бугорок приметный, глиняный – готовое место было для могилы. Крест солдаты из лиственницы срубили – благородная древесина, я его лично установил и панихиду по памяти спели как могли – сумбурно, конечно, вышло, канона наизусть никто не знал… Очень пожалели тогда, что полкового священника с нами нет – его перед этими событиями, как нарочно, перевели в штаб фронта на повышение, а замену так и не успели прислать! Если бы он оказался всему свидетелем, нам не пришлось бы сейчас доказывать по церковным инстанциям, что все произошедшее имело высший смысл, что воочию был явлен Промысл Божий… Да я ведь опять уклонился от сути: а случилось, батюшка, самое страшное, собственно, то, чего и следовало ожидать. На склонах послышался шум – противник ринулся в атаку всеми силами. У штатского человека нервы вряд ли выдержали бы: с одной стороны цепями немецкие егеря спускаются, с другой – гусары-венгры с гиканьем, шашки наголо! Ну, думаю, будет сейчас такая бойня, что все мы здесь лежать останемся. Приказал я занять круговую оборону как раз вокруг горки с могилой. Выдвинули пулеметы, ощерились штыками, мы бы свои жизни даром не отдали! И тут буквально с ясного неба спустился туман на горы и в ущелье – своих еще видно, а противника уже нет, точно молоком вокруг все заволокло. Только крест на могиле вдруг как засияет! Бойцы мои обернулись на него, вижу, опешили, не знают, как себя вести, и туту меня точно молния в мозгу: «Сим знамением победиши!»
– С нами крестная сила! – кричу. – Плотнее, братцы, выдержим теперь, молитесь только!
По команде целый полк вокруг креста сгрудился, все на колени и запели, сначала нестройно, а потом не хуже иного церковного хора: «Спаси, Господи, люди Твоя!» Вот так молимся в голос, а в тумане звуки настоящего боя, немецкие стоны и брань. Это всего удивительнее – с кем может идти бой, если ударники мои, как один, на молитве, в поле зрения? А граница непроницаемая образовала четкий круг. Продолжалось такое невиданное противостояние ровно три часа – по моим карманным (я-то все это время сам непрестанно молил о спасении Николая Угодника и святого мученика Арсения). И все прекратилось так же внезапно, как наступило. Муть рассеялась, солнце выглянуло сразу, и тогда прогремело полковое «ура!», а кто-то даже от радости заплакал – склоны ущелья оказались сплошь усыпаны вражескими телами. Лежат вперемешку австрияки.
германцы – перебили друг друга в неразберихе, или умопомрачение нашло на них с этим туманом, но только мы потом даже раненого ни одного не нашли – даже в плен для порядку некого было взять! Никто не сомневался, что чудо, то, о чем раньше слышали из проповедей и житий, с нами произошло, понимаете, отец Антипа?!
Иерей развел руками:
– Дивен Бог, и неисповедимы пути его! – Казалось, смысл этого восклицания был определенный. – История замечательная и подтверждает величие Творца, но ведь мне, священнику, не нужно доказывать, что Он – всемогущ и вездесущ.
Асанову, однако, хотелось слышать в пастырском слове нечто большее.
– Путей небесных нам не постичь, пока Он к себе не призовет, – несомненно так, ваше преподобие, есть ведь и такие слова: дивен Бог во святых своих! Разве они не имеют отношения к моему рассказу? Если нужны еще свидетельства, извольте: были в моем полку атеисты, чего греха таить, их теперь вокруг вон сколько, но после того исключительного факта спасения все во Христа уверовали.
– Готов от себя их благородие поддержать! – пришел на выручку унтер. – Я сам, батюшка, правду сказать, в церкву редко ходил и с начала войны не причащался, а на днях наконец сподобился, как камень с души, – тоже ить неспроста!
Отец Антипа, до сих пор слушавший военных на ходу, впервые остановился, присел на ближайшую скамеечку возле чьего-то семейного места. После минуты молчания, показавшейся Асанову вечностью, батюшка с глубоким вздохом произнес:
– Ох, господа, совсем вы меня запутали! Сначала сами предупредили, что вопрос о причислении к лику святых не ставите, а теперь, как я понимаю, стараетесь меня убедить в святости «блаженного» Арсения. Кажется, дети мои, вы сами не сознаете, о каком серьезнейшем, сложнейшем деле зашла речь! Возможно, то.
что вы рассказали, – правда, лично у меня, например, ваши свидетельства сомнений не вызывают, более того, в первую очередь Сам Господь-Вседержитель прославляет человеков, особо ему угодивших подвигами благочестия, исповедничества, и в этом смысле ваш герой уже пребывает в сонме небесных заступников Земли Русской, но ведь есть, позволю себе казенно выразиться, институт церкви, в котором процедура канонизации нового святого длится, как правило, многие, многие годы. Так ведется испокон веков! Сначала в отдельной веси православным открываются мощи подвижника веры, по молитвам к нему происходят исцеления, прочие чудеса, тогда через какое-то время он объявляется местнопочитаемым святым такой-то епархии. Возьмите – в любой губернии, уездах даже, подобных угодников Божиих великое множество – потому и говорят ведь – Святая Русь! Что за примером далеко ходить: даже здесь на кладбище покоится такая блаженная странница, которую в Петербурге почитают уже больше ста лет. Над гробницей, можно сказать, каменную церковь выстроили, и дом трудолюбия ее памяти при кладбище числится, а до сих пор все местопочитаемая! Тккое правило: необходимо, чтобы по всей Империи церковный люд признал ее святость, затем постановление нужно соответствующее самого Святейшего Синода! Патриарха Ермогена вспомните – беспримерный мученик был за Отечество, мудрейший Святитель, и подвизался когда еще – в XVII веке, но канонизировали во всей славе только к Трехсотлетию Царствующего Дома – такова была воля Божья. А вы, судари, торопите события, смириться бы надо!








