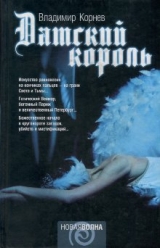
Текст книги "Датский король"
Автор книги: Владимир Корнев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 52 страниц)
II
К вечеру в мастерской стало по-зимнему холодно, но, подкошенный усталостью, Арсений спал мертвым сном, и только за полночь холод разбудил его. Художник тут же поднялся, собираясь закрыть окно, да так и застыл на полдороге, точнее, посередине комнаты – против реставрируемой картины.
Расчищенный холст выглядел не просто обновленным, но словно бы преображенным, ожившим в неожиданной полноте и многомерности. Теперь от него струился мягкий, перламутровый свет, наполняя таинственной энергией окружающее пространство: возникал эффект абсолютной перспективы: граница, отделявшая живопись, декорацию от реальности, исчезала, и хотелось просто засунуть руку, «войти» в картину, ибо некая сокровенная дверца в зазеркальный мир неслышно открылась.
Это действительно представлялось каким-то чудом! В предзимнем мраке дремлющей петербургской мансарды, куда никогда не досягало уличное освещение, возник вдруг лучезарный, пряно пахнущий южным морем, лавром и цветущим миртом то ли греческий, то ли апулийский [193]193
Апулия – юго-восточная Италия, в древности колонизированная греками.
[Закрыть]ландшафт. Высоко в небесную синь были устремлены изумрудно-зеленые свечи кипарисов, охряно-желтая раскаленная солнцем каменистая дорога уводила в элегическую даль, к скалам белого песчаника с благородными руинами античных портиков и к бескрайнему, сливавшемуся с фантастически лазурным небом понту [194]194
Море (греч.).
[Закрыть]– там растворялся горизонт и все, что отягощало душу зачарованного зрителя. Полное ощущение гармонической реальности, какого не дала бы никакая самая современная оптика, – только кисть живописца, искушенного в недоступной рассудку магии универсальных красок. Вот такой идеал художественного изображения. Это был именно тот результат, которого он добивался, – холст буквально стал реальностью! Причем самое интересное, что манеру исполнения нельзя было назвать реалистичной – декоративная, свободно решенная работа… И откуда только вместо ученического этюда баварского городка, писанного с претензией на новизну, возник перед Арсением этот объемный пейзаж эллинистического Средиземноморья? Такой вот феномен и абсолютный идеал живописного изображения…
Сеня снял картину со станка, приложил к стене и вот уже сам очутился в ином мифопоэтическом мире. Сколько же времени Арсений простоял таким образом – час, сутки, а может… тысячелетие?! Он не знал, только зачарованно следил, как постепенно менялась эта волшебная реальность: на глазах медленно разрушался античный портик, мрамор постепенно приобретал благородный желтый оттенок, углубления в камне покрывались мхом, ветшающий карниз «обрастал» ласточкиными гнездами, трескались и стирались аккуратно выточенные ступени, буйная трава прорастала между камнями дороги, небо то хмурилось, то яснело, солнце то заходило, то снова поднималось над горизонтом… Художник стоял и думал: понадобится много времени, чтобы выяснить, из-за чего это происходит, возможно, на разгадку уйдет вся жизнь. «А вдруг все это только воздействие химикатов на психику? Но ведь, ей-Богу, больше это, чем бредовый дурман! Нет-нет, это не может быть просто видением!» Сеня вдруг спохватился, что так и не закрыл окно на улицу, что надо бы скорей это сделать: «Даже если все галлюцинация от испарений, пусть иллюзия длится как можно дольше, а то ведь „выветрится“ – чудо исчезнет».
Знать бы ему еще, что у других зрителей – пристрастных к личности автора романтиков или циников-зоилов [195]195
Придирчивый, несправедливый критик.
[Закрыть]– все равно в соответствии с их скрытыми ассоциациями и аллюзиями будут возникать образы, дополняющие и даже вовсе изменяющие первоначально изображенное. Все увидят десницынский пейзаж по-разному, но никому не будет дано разгадать тайну возникшего в душе восхищения или негодования. «Невероятное сочетание внутреннего свечения холста и зрительно осязаемой объемности предметов», – признает потом мэтр искусствоведения в одном из номеров элитарного «Аполлона». И только-то!
III
Вячеслав Меркурьевич Звонцов обожал синема, не пропускал ни одной новой фильмы, «крутившейся» в петербургских кинематографах (при этом его интересовала вся разномастная продукция, будь то «Пате» или «Ханжонков»), Всем многочисленным заведениям, где демонстрировали синема, от природы хоть и скуповатый, он все же предпочитал фешенебельное «Пиккадилли» – на своих страстях Звонцов не экономил. При этом мог посетить и несколько кинематографов за день, посмотреть фильмы, казалось бы, несовместимые: в его сумбурном «восприятии» французские «авантюры с продолжением», «погони за полицейскими» уживались с немецкими мистическими драмами на сюжеты из Шницлера и даже с патриотической эпопеей «Оборона Севастополя». Художественное чутье подсказывало: перед ним новый вид искусства или то, что непременно когда-нибудь станет большим искусством. Его поражали «живые картины», суетящиеся на экране фигуры, сменяющиеся зрительные планы, тем более что техническую сторону кинематографа понять Звонцову было не дано в силу принципиальной удаленности типичного гуманитария от техники. Те же ощущения он испытывал, когда игла опускалась на граммофонную пластинку, а из трубы доносился оперный бас, или когда нажимал кнопку электрического выключателя и тут же «загоралась» стеклянная лампочка. Во всем этом было притягательное ощущение благоговейного страха. Вячеславу Меркурьевичу казалось, что он созерцает чудо зримое и повседневное в отличие от религиозных чудес, которых он, полувер, не наблюдал никогда, за исключением случая с лепкой собаки, который не укладывался у него в голове.
Однажды в уютном партере «Пиккадилли», пока Арсений исполнял за него пресловутый заказ, Звонцов, уже успев посетить ресторан и основательно заложить за галстук, тешил взор первым просмотром декадентской фильмы из дворянского быта, представляя себя жирной каплей настоящих сливок общества. По белому полотну под звуки музыкальных импровизаций (ушлый тапер сплетал в единую звуковую ткань шопеновские этюды, вальсы Штрауса, внезапно оглушая зал не вполне уместными фортиссимо в духе Бетховена и Вагнера) в ускоренном темпе, зато с породистым достоинством, фланировали князья и графини, камергеры в орденах и статс-дамы в алмазных россыпях.
Они одинаково красиво изъяснялись в любви и плели головокружительные интриги, упоительно осушали бокал «аи» и вдыхали модный кокаин, картинно стрелялись на дуэлях и застывали в огромных лужах крови, о чем посасывающему бон-бон [196]196
Конфеты, карамель ( фр.).
[Закрыть]зрителю сообщали бесстрастные титры (впрочем, зритель с воображением, каковым, безусловно, был Звонцов, мог бы обойтись и без комментариев). Образный ряд настолько запомнился скульптору, что даже на Невском некоторые эпизоды все еще мелькали перед его мысленным взором.
Он вдруг вспомнил странное совпадение: при просмотре одного эпизода, разыгранного в логове маньяка, мечтавшего завладеть всем миром, ему показалось, что среди антуража мелькнул силуэт той самой скульптуры, которая принесла ему столько бед и неприятностей. В тот момент он даже протер глаза от неожиданности, но место действия на экране уже сменилось.
Озадаченный Вячеслав Меркурьевич решил прогуляться пешком до самого дома. Он свернул на Садовую и медленно пошел в направлении своей Коломны, однако в витрине какого-то кинематографа увидел броскую афишу последнего «шедевра» режиссера картины, только что просмотренной в «Пиккадилли». Удержаться от соблазна Звонцов не мог – «великий немой» опять заключил его в свои объятья. Новая фильма явно оставила бы киноэстета в разочаровании (схожий сюжет, те же актеры, словом, режиссер вышел в тираж), если бы опять не одна взволновавшая Звонцова деталь интерьера – выразительная статуя на заднем плане в комнате благообразного священника.
Этот причудливый силуэт был неизгладим из памяти ваятеля: все тот же кладбищенский образ, фигура, с которой начались все звонцовские злоключения, точно дежа вю схваченного цепким взглядом час назад в другом фильме, в принципиально иной мизансцене. Звонцов окончательно протрезвел и помчался назад – на очередной сеанс в «Пиккадили». Он вперился в экран ради единственного момента, когда же дождался, остатки сомнений развеялись: скульптура была точь-в-точь «валькирия», только размер ее отличался от «оригинала», украденного им со старинного надгробия.
С этого вечера ваятель точно обезумел: на каждую фильму он сходил по семь раз, желая снова и снова удостовериться, не придумал ли он что-нибудь, не показалось ли ему. Нет, Звонцов ничего не перепутал, хотя теперь, пожалуй, уже был бы рад убедиться в своей ошибке. Проклятая статуя неотступно стояла у него перед глазами, ясная до мельчайших деталей, и в беспокойной голове Вячеслава Меркурьевича скоро оформилась сумасшедшая мысль, idée fixe – СТАТУЯ ЕГО ПРЕСЛЕДУЕТ.
На исходе того же дня, сидя по обыкновению в трактире наедине с заветным графинчиком и надеясь простейшим способом прогнать от себя беспокойные мысли, он «высидел» из них, как курица из яйца, очередной авантюрный прожект. «Человек падок до всего модного и оригинального, даже не обязательно, чтобы это было оригинально, – нужно уметь создать моду! Вот фильмы эти, например, смотрят миллионы и скульптуру эту видят, значит, она остается, отпечатывается в глубинах их памяти, в каких-то тайниках мозга, о существовании которых они и сами не догадываются, но стоит вылепить серию таких вот скульптур одного и того же силуэта, пустить в продажу, и цены им не будет, ведь люди сразу все вспомнят. Это станет символом роскошной, дорогой, вожделенной для обывателя жизни, но подобная жизнь доступна единицам, а мои работы смогут приобрести многие… Может, во мне открылся гений «публичного» искусства? Может, я нашел наконец свою „золотую песнь“ в скульптуре?! А вдруг она станет для меня в буквальном смысле золотой!» У Вячеслава Меркурьевича голова пошла кругом, и он… запил от предчувствия грядущего триумфа. Каждый вечер Звонцов просиживал в недорогих ресторанчиках и трактирах, лелея вылупившийся из его существа «эпохальный» замысел, а днем, когда приходил в рабочее состояние, без конца рисовал кладбищенскую статую. вписывая в ее очертания разные формы – титаноподобных монстров, сложные композиции (композиции были разные, но сюжет оставался все тот же, неизменный), читал почти забытые, пылившиеся на полках со студенческих времен классические труды по ваянию. Наконец, он решился ухватить «сфотографированный» сознанием силуэт, абрис, и потом по этому лекалу лепить и лепить. «Может, это магический силуэт», – рассуждал Звонцов вечерами за трактирной стойкой.
В общем, теперь ему только оставалось перейти от теоретических изысканий к реальному воплощению идеи.
IV
Вернувшись из кабака, куда завернул после кинематографа, он застал у дверей Ивана, тот давно уже ждал ваятеля-синемана. Он был сильно возбужден. Внешний облик Десницына-старшего отражал небывалую агрессию, буквально распиравшую его изнутри. Сумбурно-пестрым облачением Иван напоминал бойцовского петуха или индюка, на нем был дворянский картуз с околышем и переломленным чернолаковым козырьком, синяя студенческая тужурка, явно чужая, расходившаяся по швам на молодецких плечах, нелепые парусиновые штаны, которые носят портовые грузчики, в пятнах масла и мазута, заправленные в щегольские, бутылками, сапоги-прахаря. В его оттопыренном ухе тускло блестела серьга, а вокруг шеи хищно обвился вязаный красный шарф, что-то отчаянно-вызывающее было в этом образе: то ли моряк, не раз прошедший экватор, то ли ушкуйник разинской вольницы, но точнее всего – золоторотец из какого-нибудь «Порт-Артура» [197]197
«Порт-Артур» – дом дешевых квартир за Обводным каналом в конце Заозерной улицы, имевший скандальную славу дурного, злачного места.
[Закрыть].
Изрядно потрепанный и обрюзгший в полном соответствии с образом жизни, который вел, Иван, однако, грозно щурил и без того заплывшие от водки глаза: он пришел за своим, тем, что ему причиталось по воровскому праву. Сплюнув прямо на пол, он поднес к лицу Звонцова кулак, на костяшках которого еще с каторжных времен значилась татуировка с его именем, и рыкнул:
– Что же ты, Звонцов, слова не держишь, дворянин, черт тебя побери. Обещал ведь мне… Объегорить решил, что ли? Шалишь, брат, я не задаром для тебя шкурой рисковал! Картина-то написана, значит, гонорар ты получил, деньги есть, так что теперь изволь рассчитаться – свое прошу, все, что за металл полагается. Давай деньги, и мы с тобой незнакомы! Будь проклят этот Питер, не город – обман один, все мы здесь проклятые. «Сюда я больше не ездок!» И я, Звонцов, через тебя это проклятие получил, беду эту через твои творческие идейки, едри их мать! Мало у меня греха было на душе, так теперь вовсе свет белый с овчинку кажется. Раньше хоть от водки легчало, а теперь сколь бы ни выпил – ни в одном глазу, только вокруг посмотришь – все будто пьяные, один я трезвый, что святой угодник, хотя все сущая фикция… На детишек смотрю – и те пьяные, как сапожники. Вот ты, к примеру, тоже пьянющий сейчас, а я ведь знаю – потому только, что я пил. И не могу я больше зелье это в себя вливать: что у водки, что у вина дорогого даже! – вкус крови у всего пойла… Да ты, Звонцов, не веришь, что ли? Говорю тебе – ты меня вконец сгубил святотатствами своими…
– С каких это пор ты в Бога уверовал, кудеяр? – вопросил удивленный Звонцов.
– Пошел ты со своим… Не верую я ни в Бога, ни в черта давным-давно, но пока с тобой не связался, так с души не воротило от собственной жизни… А никак окажется, что Он и есть? А вдруг? Тебе вот не страшно, смеешься, а меня чуть не колотит, точно с похмелья. Перед Ним ответ держать, небось не в участке кочевряжиться! И за душу мою тоже стребуют – заплатишь, не денешься никуда. А то, смотри, как бы не пожалел, ваятель хренов! Вон в газетах уже пишут. Полюбуйся, говорю, что пишут-то!
Иван пихнул ему в руки пахнущий типографской краской номер «Речи» [198]198
Петербургская кадетская газета, обычное чтение интеллигенции и студенчества.
[Закрыть]и раздраженно ткнул заскорузлым пальцем со сломанным ногтем прямо в заголовок статьи так, что Звонцову показалось, что у него в ушах зазвенело. На самом деле металлический звон исходил от незваного гостя (за время работы на кладбищах он приобрел привычку собирать с могил мелочь, оставляемую, по обычаю, суеверными посетителями, так что в карманах необъятных Ивановых штанов нет-нет да и позванивали медь и серебро). Статья, которую он указывал Звонцову, имела красноречивое название «Печали и скорби петербургского некрополя», и автор ее, возмущенный участившимися жалобами общественности и лично некоторых пострадавших представителей знатных родов Империи на постыдное запустение старинных кладбищ города и в особенности на воровство памятников и скульптурных деталей с надгробий и склепов Смоленского православного, лютеранского и армянского кладбищ, был сам столичный городской голова. Он уверял петербуржцев, что вопиющее безобразие будет немедленно прекращено и преступники арестованы. Обнадеживая читателей тем, что сведения об этом вандализме дошли до самого Государя и тот намерен лично проконтролировать действия полицейского ведомства по розыску преступников в кратчайший срок, градоначальник призывал сознательных горожан всячески содействовать полиции в поимке злоумышленников, сообщать о подозрительных случаях перемещения и сбыта предметов художественного литья крупных форм, обещая за подобную информацию достойное вознаграждение.
– Ну что, не протрезвели-с еще, господин ваятель? С огнем поиграли и хватит, выхожу я из этого дела, сам выпутывайся теперь.
Заносчивый скульптор опешил, а поставщик сырья продолжал напирать:
– За последнюю партию ты мне гроша не заплатил, а была ведь самая что ни на есть бронза, наилучшая! Зачем я только с тобой связался? Ненадежный ты человек, Звонцов, в России деловые люди по неписаным законам живут, уговор для них дороже денег, а ты не такой. Нерусская у тебя душа, жмот ты и шкурник, никогда богатым не будешь… Были ж у меня предложения от серьезных, фартовых людей – банки брал бы. экс… экспроприировал бы, а тут ты подвернулся со своими могилами, век бы их не видать! Так это вот чего… Я, значит, пойду проветрюсь покуда, чтобы ты тут от выпивки очухался, и давай по-хорошему, Звонцов, когда вернусь, денежки мои вот здесь должны лежать! – Скульптор в это время делал вид, что ищет по карманам ключи. – За все сполна раскошелишься, слышишь? Я тебя в последний раз предупреждаю, фраер, иначе крепко пожалеешь!..
Звонцов успел юркнуть за дверь:
– Иди, иди, проветрись, проклятьем заклеменный. Тебе сейчас как раз о-о-очень полезно! Может, вспомнишь, как мы с тобой вместе металл обратно отвозили. Я сам после этого в убытке остался, так что еще неизвестно, кто кому теперь должен, Ваня.
На лестничной площадке раздались проклятия и угрозы:
– Ну ты гнида, Звонцов! Раздавлю, убью!!!
Бесновался золоторотец недолго, а когда убрался, скульптор окончательно решил: «Придется откупиться, а то ведь действительно зарежет – что ему стоит, каторжной роже?»
Прочие Ивановы откровения Звонцов выкинул из головы, как горячечный бред: «Окончательно спился, подручный из него теперь никакой».
Для умиротворения теперь оставалось только взбодрить себя вином – ну самую малость! Скульптор достал из буфета бутылку кахетинского, ловко откупорил, аппетитно зажарил антрекот, так что получился недурной ужин.
За антрекотом Звонцову вздумалось заглянуть в оставленную Иваном свежую газету. Он мало интересовался происходящим в мире, а тут разобрало любопытство: что там новенького, какие склоки в Империи и за ее пределами, кто с кем воюет? Из городских новостей узнал о беспорядках, имевших место на Обуховском заводе и заводе Польте, о суде над зачинщиками, о каких-то многочисленных стачках и демонстрациях. «Надо же! И все это творится в Петербурге, у меня под носом, а я сижу в мастерской, ничего не знаю». Из Бобруйска сообщали об очередном террористическом акте боевиков-бундовцев, заложивших под кровлю местного православного храма адскую машину, – при взрыве под обломками крыши было погребено тридцать четыре прихожанина, мирно стоявших за воскресной Литургией. «Впрочем, меня это никак не касается, – шумят, и пусть себе шумят!» Любопытнее было узнать заграничные новости. На Балканах по-прежнему пахло порохом: Австро-Венгрия бряцала оружием перед Сербией, воспрянувшей духом после недавней победы над Болгарией; из-за океана сообщали об угольном кризисе и грандиозной забастовке горняков в штате Колорадо – шахтеры воевали с полицией. В обзоре художественной жизни Звонцов обнаружил репортаж из Амстердама с выставки, устроенной Обществом современного искусства. Журналист отмечал успех работ Кончаловского и Машкова. Вячеслава Меркурьевича разобрала зависть: «Всюду-то эти плуты москвичи пролезут! Назвались „Бубновыми валетами“ [199]199
«Бубновый валет» – объединение московских художников 1910–1917 гг.
[Закрыть], пристроились в хвост к Сезанну, пригласили в компанию Матисса, и глядишь – их уже в Европе оценили. Знаем мы все это, наслышаны – примитивный балаган à la russe!» С досады он хотел уже отбросить газету в сторону, но тут увидел крупный заголовок: «Гибель „Голема“ [200]200
Голем – в еврейских фольклорных преданиях, связанных с каббалой, оживляемый магическими средствами глиняный великан. Голем не способен к жизни и не обладает душой. В то же время, обладая нечеловеческой мощью и исполинским ростом, может вырваться из-под контроля человека и растоптать своего создателя (человека).
[Закрыть]– трагическая случайность или роковое предзнаменование?» Это был комментарий к облетевшему мир сообщению агентства Рейтер об ужасающей катастрофе океанского лайнера «Голем» – гордости американского пассажирского флота и последнего слова в мировом гражданском судостроении: «Грандиозный многопалубный корабль, представлявший собой целый плавучий город, оснащенный всеми удобствами, ресторанами, казино и дансинг-холлами. 13 декабря 1913 года столкнулся с айсбергом южнее мыса Доброй Надежды и затонул в течение получаса, став подводной могилой для тысяч пассажиров. Представляется странным, что трагедия произошла в широтах, где появление айсбергов наблюдается чрезвычайно редко, и всего в нескольких милях от берега. При этом из пассажиров спасся только один человек – русский мальчик-гимназист, чудом удержавшийся на воде благодаря спасательному жилету и вынесенный волной на берег спустя несколько часов после крушения. Подросток, сын золотопромышленника, путешествовал вокруг света с родителями и сестрой, которые тоже стали жертвами крупнейшей в истории катастрофы на море. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелый реактивный психоз: православный ребенок не перестает утверждать, что во время гибели „Голема“ в небесах на фоне багрового заката видел Самого Господа Вседержителя, Лик Которого был гневен и взыскующ, а перст грозно указывал в морскую пучину». Автор статьи рассуждал о мрачной символичности катастрофы: корабль-гигант, перевозивший только богатых мира сего, рассматривался им как модель европейской цивилизации, погрязшей в пороках и подошедшей по апокалиптическим пророчествам к своему концу, точно подвергся Божьей каре, рассыпавшись, как глиняный колосс, что только доказывало видение ребенка, по мнению журналиста, не безумного, а лишь получившего религиозно-мистическое откровение. Звонцов, не отрываясь, до конца прочитал отчет о затонувшем лайнере. «Ничего себе! Оказывается, сны у Арсения вещие. Мудр, как царь Соломон, многообразен, как Протей» [201]201
Протей – в греческой мифологии сын Посейдона, морское божество, обладающее способностью принимать облик различных существ. Многознанием скрывает свой пророческий дар от всякого, кто не умеет поймать его истинный облик.
[Закрыть].








