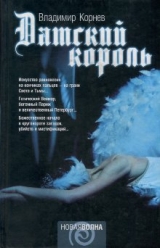
Текст книги "Датский король"
Автор книги: Владимир Корнев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 52 страниц)
XIX
Провожая балерину. Дольской рассуждал о том, какая все же ответственная и почетная миссия быть актером, как трепетно нужно относиться к своему творчеству, как это должно быть увлекательно – воздействовать на души зрителей, до отказа заполняющих огромный зал. Он восхищался настойчивостью и трудолюбием артистов балета… Ксения слушала и ловила себя на том, что теперь определенно не хочется расставаться с Евгением Петровичем: пускай бы он продолжал так вот говорить о вечном и высоком, открывать свою многогранную душу, музицировать, даже читать грустные стихи. В этот вечер таинственный князь произвел на девушку неизгладимое впечатление, вскружил ей голову и, став ближе, почти покорил сердце – никто еще так красиво, романтично не ухаживал за молодой примой. Удивляясь собственной смелости, не допускавшая до сих пор подобных опрометчиво-легкомысленных шагов, она пригласила его к себе домой.
Князь, конечно, не мог упустить удобного повода провести остаток вечера с Ксенией.
В прихожей их никто не встретил.
– А где же ваша горничная? Избаловали вы, однако, прислугу, драгоценнейшая.
– Евгений Петрович, вы не представляете, – продолжала Ксения, – какая умница моя Глаша. У нее в руках все горит: не налюбуешься, когда делает что-нибудь по дому. А кулинарка какая: испечет такую кулебяку, что в лучшем ресторане не подадут! Да она и бисквиты со сливками прекрасно приготовит, и даже безе. Просто прирожденная хозяйка – на ней весь дом держится, и манеры у нее не как у других горничных – от куда что взялось? Она ведь почти девочкой из глухой деревни приехала, а я пожалела – взяла к себе в прислуги…
– Теперь-то, конечно, не жалеете, – хитроумно скаламбурил Дольской и не преминул сделать вывод: – Получается искусница какая-то из афанасьевских сказок – народная умелица! Выходит, не квасные патриоты придумали, что русский народ богат талантами… И это теперь-то, когда в Европе все обыватели стали на одно лицо! Нет, милая, Россия все же не Европа, скажу я вам!
– Я знаю только, Евгений Петрович, что она одна такая, наша Россия, у нее свой образ и душа, и мне вообще не хочется делать какие-то сравнения. Но это истинная правда: таланты – ее главное богатство. Божье благословение, если позволительно так сказать. Взять хоть наш театр, и не труппу даже – артист по своему призванию должен иметь хоть крупицу таланта, – а самых простых служащих, рабочих. Есть у нас совершенно уникальный человек из бутафорского цеха. Был как раз рабочим сцены, а оказался первоклассный краснодеревец, и теперь наша столярная мастерская у него в подчинении. Впрочем, для всех он по-прежнему просто Тимоша. Руки у него золотые – вот кому бы иконостасы резать! Мы с ним задушевные друзья – он добряк, настоящий большой ребенок. Дарит мне иногда свои чудесные поделки: однажды нож для бумаги подарил, с фигурной ручкой в виде крылатого стрельца. «Китоврас» какой-то. Сказал, что этот Китоврас приносит счастье. Что-то древнее-древнее, былинное! А Распятие вырезал на аналой – глаз не оторвать! Я только у староверов видела подобное, но там литье, а это легкое, из обыкновенной липы – Великим Постом на Крестопоклонной мне преподнес. Дивная работа… Да я вам сейчас его покажу!
Балерина пригласила Дольского в уютную гостиную, сама же отлучилась в соседнюю комнату (видимо, в спальню или будуар). Князь принялся разглядывать интерьер – ему давно хотелось побывать здесь, почувствовать дух дома, где живет та единственная на свете женщина, ради которой он был готов на любые благодеяния и преступления, словом – на все. Он увидел на стенах несколько старых портретов: вельможа в парике екатерининских времен с лазоревой Андреевской лентой через плечо, дамы с прическами по моде прошлого века и драгоценными вензелями Императриц и Великих княгинь на корсажах. Здесь же были изображения самих Государей. Два больших дагерротипа в овальных рамах, висевшие рядом, изображали молодого гвардейского офицера в форме времен Александра-Освободителя и красавицу в подвенечном платье. Внешнее сходство не вызывало сомнений – это были родители Ксении в пору, когда самой балерины, очевидно, еще не было на свете. По всей комнате висели фотографии каких-то танцовщиц (некоторые с автографами) в небольших разнообразных рамках, несколько южных пейзажей в духе Сильвестра Щедрина, олеографии и гравированные репродукции шедевров от нежнейшего Боттичелли до лиро-эпического Нестерова, православного, но с явно модернистскими живописными приемами. Один угол комнаты занимал высокий напольный киот: фамильные образа тускло золотились, огонек массивной лампады отражался в желтоватом стекле, отбрасывал теплые блики на чеканные ризы. В простенке между окнами стоял большой книжный шкаф, напоминавший величественное классическое строение. Застекленная дверца, к сожалению, была плотно занавешена зеленой шелковой шторой, так что нельзя было пробежать взглядом по корешкам, но стоявшие наверху мраморный бюст Пушкина и фарфоровый – Чайковского отчасти раскрывали не только литературные, но и музыкальные пристрастия хозяйки квартиры. Когда Ксения вернулась, бережно, на вытянутых руках, неся Тимошино распятие. Дольской остановился возле прекрасного беккеровского фортепиано, отделанного орехом с инкрустацией, с двумя витыми подсвечниками, укрепленными над клавиатурой по сторонам ажурного пюпитра, и, любуясь, провел ладонью по полированной медового цвета крышке.
– Смотрите какое! – благоговейно, точно восторженный ребенок, произнесла Ксения. – Без глубокой веры ничего подобного не сделаешь.
Больше она не сказала ни слова – ей казалось, что князь и сам все видит: распятого, изможденного и в то же время только уснувшего, сокрывшего до поры в своем неотмирном лике Таинство Воскресения Спасителя, ангелов, смиренно ожидающих Великого торжества у подножия Самого Господа Саваофа, наконец, резное узорочье славянской вязи, которой был причудливо разукрашен весь крест. Дольской же коснулся чудесного творения поверхностным, холодным взглядом, произнес что-то неопределенное, вроде: «Да, да. Вижу… Красиво», – и более не возвращался к этому предмету. Балерина еще недоумевала по поводу такой «теплохладности» Евгения Петровича, а он уже углубился в созерцание другой вещи, которая действительно приковала его внимание: это была очень странная картина, стоявшая на пианино прислоненной к стене. Холст был покрыт толстым, небрежно нанесенным слоем кирпичного цвета масляной краски, нарочито пастозными мазками, поверх которого виднелись остатки приклеенной бумаги и две жирные полосы неизвестного белого состава, правильным крестом пересекавшие все полотно! Не менее поразителен был контраст холста и рамы, не какого-нибудь ремесленного багета, а искусной резьбы старинной золоченой рамы стиля рокайль [157]157
Рокайль – от фр.rocaille – «причудливый». Скальный рококо, то же. что стиль Людовика XV – один из самых популярных стилей первой половины XVIII века.
[Закрыть]. Все вместе выглядело очень новаторски – это был яркий пример как раз того искусства, которое так соответствовало внутреннему духу Дольского.
– Я и не знал, что вы тайная поклонница современной живописи, – удовлетворенно заключил князь. – Такая смелая, экспрессивная вещь! Кто же это написал?
Восхищение гостя было так же непонятно Ксении, как и его равнодушие всего какую-то минуту назад:
– Не смейтесь – разве здесь можно что-нибудь разобрать? Это семейная реликвия. Она появилась в семье несколько лет назад, только бабушке чем-то не понравилась. Так уж Господу было угодно, что именно в эти годы умерла моя младшая сестра, а потом сразу мама – нелегко пережить подобную утрату. Бабушка почему-то стала видеть причину всех несчастий в этой картине и приказала замазать краской, а сверху сама наклеила – вот ведь старческая причуда! – афишу Шаляпина. Вскоре и она умерла. Теперь картина здесь, в моей петербургской квартире, но я ее отчистить не могу: афишу кое-как содрала, да толку мало – клей остался, полосы крест-накрест по масляной краске. Отчетливый крест на багровом поле! Теперь уже мне не по себе, когда я смотрю на то, что получилось.
Евгений Петрович наклонился к балерине и, заглядывая в самые глаза, поспешил исправить досадную бестактность:
– Простите, – действительно, вышло как-то нехорошо. Такое несчастье, а я … Не предполагал. Искренне сожалею и соболезную. Вот только мне сейчас пришло в голову: может, это, конечно, и глупость, но вы не допускаете, что так даже лучше, чем было? Приглядитесь, право же, вышла очень занятная вещь! Просто сейчас в моде такая живопись.
Ксения инстинктивно вскочила, гордо выпрямилась:
– Не понимаю, при чем тут мода?! Неуместная, неприличная шутка! Я обратилась к вам как к мастеру за компетентным советом – у меня нет знакомых реставраторов, и мне не до шуток!
Дольской опять убедился, что с Ксенией Светозаровой не поспоришь, да и спорил он только для «куража».
– К чему сердиться, голубушка! Разве я отказываюсь? Наоборот: меня так тронуло ваше доверие! Теперь я готов отреставрировать картину самолично, если, конечно, вы и это мне доверите. Не обещаю, что управлюсь быстро, но ручаюсь, что исполню все с особой тщательностью, как любую вашу просьбу.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Княжеский дар
I
За последнее время Арсений, не помышлявший никогда об иконописании, перекопал массу специальной литературы, изучил лицевые подлинники и прочие собрания изографических канонов. Он обошел множество храмов и часовен, вникая в тонкости изображения Николая Чудотворца, и у него уже сложилось довольно ясное представление о будущем образе (еще бы – сколько святых ликов глядели на него за это время!), но когда светский художник обратился к духовным основам священного письма, тут же убедился, насколько сложнее и глубже, чем казалось поначалу, предстоящее ему дело, какой верой должен обладать простой «богомаз», пишущий по прорисям, не говоря уже о полном удалении от мира и строгой аскезе иконописца-монаха. Арсений не чувствовал себя созревшим для столь «умного» дела: не будучи готовым к «творческому постригу», он в то же время не хотел писать образ в академическом, обмирщенном духе, коих были полны главные соборы столицы Империи. Чудо повергло художника Десницына в тревожные раздумья: «Какая разница, что там за икону вообразил себе Вячеслав, а тем более этот самодур Евграф Силыч, которому, наверное, и котел уже в преисподней приготовлен, – мне-то зачем по своей воле в ту же смолу лезть? Звонцов тоже хорош. Ладно портрет, так я еще икону должен за него писать! Ни опыта, ни покоя в душе… Безумцы, какие безумцы… Только ради этой женщины, ради нее одной!» И он, установив на мольберт очередной холст, забыв обо всем прочем, увлекся изображением прекрасной «модели». Ксения как живая стояла перед мысленным взором Арсения. Лишь изредка приходилось поглядывать на рисунок, чтобы случайно не изменить позу и не упустить что-то из антуража.
Арсения поначалу раздражала однообразная работа над портретом, со временем же он стал находить изысканное удовольствие в том, что на каждом следующем холсте проявляется та или иная едва уловимая черта прекрасной дамы, виденной им всего один раз. У него уже возникло ощущение каждодневного ее присутствия в мастерской. Писал он теперь подсознанием, интуицией: кисть словно бы сама накладывала свежие, новые мазки, и в этой игре света и тени, составляющей почти зеркальную реальность, вот-вот должно было выкристаллизоваться совершенство. Когда Вячеслав принес картину для реставрации и «иконную» доску, извинялся, что у самодура-толстосума одна причуда за другой, «а теперь вот еще и сама эта сентиментальная прима навязала какую-то дилетантскую мазню, будто в ней вообще может быть что-нибудь путное, хоть сколько-нибудь ценное», и не его, дворянина Звонцова, вина, что придется заниматься одновременно портретом, иконой и еще этой «грязной» дерюгой. Арсений улыбнулся улыбкой стоика:
– Значит, так нужно, а там посмотрим… Случайности не существует, Звонцов. – Говоря так, Сеня, примериваясь, уже разглядывал специально заготовленную доску, на которой ему предстояло написать образ Святителя и Чудотворца.
Вячеслав Меркурьевич решил, что друг его совсем спятил – никогда раньше он не замечал в Десницыне смирения на грани тупости. Да и суждение о «случайности» показалось скульптору каким-то странным, но в творческий процесс он не решился вмешиваться.
Передав Звонцову результат очередного «сеанса», Арсений решил отвлечься, отдохнуть. Лучший отдых, как известно, смена работы. Он приготовил растворитель, острый скальпель и, разбираемый любопытством, принялся осторожно снимать толстый слой краски, скрывавшей изображение. Как ни старался художник, краска давала трещины. Естественно, самые крупные и грубые появились как раз там, где темнели клеевые полосы: на алом фоне зажелтел отчетливый крест, теперь уже будто бы резное Распятие. Арсению стало не по себе: «Устал… К чему вся эта мистика? Нет, определенно что-то надо делать с нервами, да только что тут сделаешь, когда работы невпроворот…» Хотелось воздуха, свежего ветра: он открыл настежь окно и рванул глухой ворот косоворотки так, что пуговицы посыпались на пол. Порыв ветра сорвал тряпку, которой была закрыта наконец «обретенная» иконная доска, пока что не тронутая Арсением Он спешно закрыл ее: «Это потом, потом… Богу Богово, кесарю кесарево! А сейчас на улицу, куда угодно: может, успокоюсь».
Арсений вышел по Малому проспекту на набережную и, подставляя лицо приморскому бризу, не обращая внимания на редких прохожих, направился от Тучкова моста к Биржевому, замедлил шаг на Стрелке, любуясь величавой панорамой Дворцовой и широким невским разливом, а после проследовал мимо академических учреждений, с угасающей ностальгией проводил взглядом Академию художеств и застывших перед ней сфинксов, надменными стражами вечности взирающих на щедро позлащенный купол «Исаака-вели-кана» [158]158
Из стихотворения Тютчева.
[Закрыть], и свернул в глубину острова перед Морским кадетским корпусом уже в виду кружевных крестов Киево-Печерского подворья [159]159
Ныне подворье Свято-Введенской Оптиной пустыни на наб. Лейтенанта Шмидта.
[Закрыть]. Не доходя Малого, художник зашел в подворотню и вернулся проходными дворами на 9-ю линию, как раз к своему дому, описав, таким образом, довольно приличный круг. Дома Арсений, однако, опять почувствовал непреодолимое любопытство и опять подступился к старой картине. С осторожностью хирурга он поддел скальпелем посторонний красочный слой справа. Достаточно было легкого прикосновения, чтобы засохшая корка отпала, обнажив четкую подпись: монограмму «КД» на золотом гербе. Именно так и значилось на холсте: «КД»! Тогда, сняв несколько наносных слоев краски, он узнал… часть своей работы, написанной в Баварии, – полузабытый пейзаж средневекового городка Роттенбурга. Ошалевший художник бросился в кухню, открыл до отказа водопроводный кран и подставил голову под мощную ледяную струю. Он не мог взять в толк: как картина, являвшаяся ему еще в сказочных детских сновидениях, только спустя многие годы воплотившаяся в реальность, оказалась у балерины?
II
Арсений не помнил, сколько дней провалялся в постели то в кошмарном сне, то в полусонном состоянии, когда от перенапряжения нервов и смертельной усталости ему не хотелось шевельнуть ни рукой, ни ногой. Снилось, будто он пишет икону Николая Угодника как автопортрет, добавляя детали, которых в его внешности недостает для канонического образа, будто бы он убежден, что Ксения сразу узнает в святом лике его черты и догадается о масонской авантюре – такая вот наивная и отчаянная попытка предостеречь балерину, оградить от нависшей над ней беды. Сон этот все время повторялся, и – что было самым тягостным – художник никак не мог закончить работу. Иногда расслабленного Сеню умудрялся кормить старший брат, но это были эпизоды, потому что он, по обыкновению, пребывал в тяжелом запое и большее время вообще неизвестно где пропадал.
Когда кризис прошел, Арсений пришел в себя и ужаснулся: «Сколько же времени я провалялся в постели? А вся работа стоит!» Поднявшись, он принялся осматривать мастерскую. Больше всего он боялся, не исчезла ли заветная доска, а та, похоже, действительно куда-то запропастилась. Он смотрел во все углы, даже под стол залез и под диваном пошарил: старой, неприметной доски нигде не было! Пошатываясь, Арсений подошел к мольберту и тут увидел то, что искал, но увиденное превзошло все его ожидания: перед ним красовался готовый, еще не просохший от лака образ Архиепископа Мир Ликийских Николая, исполненный по древнему канону, но лик… Сначала Арсений решил, что не окончательно проснулся и грезит в дреме, но тут заметил остолбеневшего Ивана, чей взгляд тоже был прикован к иконе. На пораженных братьев бесстрастно взирал… сам Арсений Десницын. В обрамлении седых волос и окладистой бороды, в окружении золотистого нимба Святителя художник увидел свое собственное лицо!!! «Выходит, это был никакой не сон: я действительно написал в бреду „автопортрет“. Ужас какой! Так ведь и знал – добра от этих звонцовских прожектов не жди! Да еще „благодетель“ его, будь он неладен… Но как так могло получиться? Я ведь попросил благословение – у самого настоятеля Благовещенского храма – на написание образа!» Арсений честно признался себе: в заказной иконе отразились его дерзостные, тщательно скрываемые, мысли и желания. Мучительный соблазн изобразить себя вместо Божьего угодника возник в кошмарном сне.
Мало того, что предстояло написать икону для женщины, чей образ уже жил в его сердце, и что им была послана встреча в храме, так теперь выходило – их судьбы переплелись еще раньше, когда десницынский пейзаж неисповедимыми путями попал в ее семью! Последний «сюрприз» с реставрацией только окончательно убедил художника, что все это куда больше, чем набор совпадений, – это уже судьба. Промысл.
«Может быть, это единственный способ напомнить ей обо мне, намекнуть. Вдруг она узнает незнакомца из Николаевской церкви, вдруг воспоминание будет ей приятно?! Может быть, тогда… Нет, это невозможно, немыслимо написать такое! Это непростительно!» До сих пор не мог Арсений примириться с безумной идеей, но теперь оказался перед свершившимся фактом, да еще свидетель Иван стоял рядом. Внезапно отрезвевший, он осторожно потрогал младшего брата за плечо:
– Знаешь, Сеня, я пойду, пожалуй? – Иван смотрел на художника глазами, в которых читались недоумение и растерянность.
– Скажи, Ваня, – тихо спросил тот, – совсем я с пути сбился?
«Ваня» же смог вымолвить лишь одно:
– Совершенно ничего в ваших чудесах не понимаю, ты же знаешь. Спроси вон у Бога своего, а я тебе здесь не советчик – уж не обессудь.
Оставшись в одиночестве, новоявленный богомаз Десницын воззрился на скромный образ Вседержителя, едва приметный в дальнем углу комнаты: «Господи, что же Ты молчишь?! Я знать должен, угодно ли Тебе то, что я натворил, а если это соблазн, почему Ты, Господи, не удержал меня от соблазна?» Чуда не произошло: полузабытая Арсением икона была все так же сурово тускла и безмолвна. Ничего не прояснялось. Он отошел в сторону, понимая одно: что сделано, то сделано, а за свои поступки следует отвечать.
– Я НЕ ХОЧУ ничего дурного! – вырвалось у него напоследок как оправдание.
Он осторожно запаковал двусмысленный образ и сам принес Звонцову на Лермонтовский. Скульптор был так обрадован скорым исполнением столь сложной работы, что смог вымолвить одно:
– Ну, Сеня, опять ты меня спасаешь просто!
Он даже не удивился, что Арсений уже уходит, даже не развернув пакет, не похваставшись своей удачей, зато успел крикнуть вослед:
– Постарайся, друг, время не терпит, а Вячеслав Звонцов перед тобой в долгу не останется – слово дворянина!
«Знаю цену твоему слову, балабон титулованный», – подумал Десницын, оказавшись на улице. Он почувствовал вдруг, как полегчало на душе: «Пусть теперь делает с образом что угодно, только бы поскорее отдал своему масону… Может. ОНА и догадается?! Но это уж как Бог даст».
А Вячеслав Меркурьевич распаковал тем временем икону и внимательно вгляделся в нее. Он, конечно, был восхищен мастерством друга, даже зависть взяла: «Талантлив Сеня чертовски! Мне бы такой дар, я первым иконописцем был бы в России, а уж деньги сами бы в карманы текли! Да-а-а…» Охваченный бесплодными мечтаниями, продолжая разглядывать шедевр, Звонцов вдруг всплеснул руками: «Ба! Да Никола-то получился вылитый Король Датский!» Факт этот ваятеля позабавил, хотя и не удивил: в истории искусств ему известны были примеры, когда гений так вживался в свое творение, что оно невольно приобретало портретные черты автора, но Звонцов, сам не чуждый тщеславия, злорадно предположил и то, что Арсений сознательно допустил столь дерзостный прием. Выходило, что и Десницын. всегда скромный, стеснявшийся похвалы, наконец-то выдал свою тягу к славе, а значит, в своих приземленных устремлениях он Звонцову сродни!
Не догадывался скульптор о самом главном: для КОГО «чистый» Сеня пошел на такое. Откуда ж ему было знать о том, что произошло в Николаевской единоверческой церкви?








