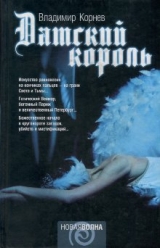
Текст книги "Датский король"
Автор книги: Владимир Корнев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 52 страниц)
– Бог миловал, а если бы и услышал, то мало удивился бы. Я давно замечаю, что в наши безумные времена люди образованные часто готовы ради красного словца не пожалеть родного отца – прискорбно сие и мерзостно!
– …А больше всего, конечно, иудеи восторгались, еврейская молодежь. Мне рассказывали, что главный раввин Хоральной синагоги отрекомендовал эту книгу как «очень своевременную и поучительную». Поверьте, в три дня она исчезла с прилавков, скупили весь тираж! Теперь вот собираются переиздавать в Одессе, в Вильно, кажется, в Варшаве… Благодаря этому опусу я в кратчайший срок разбогател, но проснулась вера, оттаяла душа, и нет мне ни радости от богатства, ни покоя. Выходит, деньги-то эти непростые… Мне все кажется, что заработал я тридцать сребреников!!! – Он уже перешел на шепот и еле ворочал языком, задыхаясь. – Здоровье испарилось, водой сквозь пальцы ушло. Мне с каждым днем все труднее и труднее говорить – волосы во рту растут, батюшка! Это невыносимо… а вдруг я умру? Смерти боюсь, ваше преподобие: каково умирать в тридцать три года? Не хочется! Я, знаете, подумал тут, что, может быть, у меня есть еще надежда… Если пожертвовать всю сумму на ваш приход, на богоугодное дело, тогда, возможно…
– Вот что, сыне, совесть ты покаянием очистил, теперь нужно отмыть руки, лишь тогда ты обретешь покой, – спору нет, но здесь искариотские деньги не нужны! Отнеси их, пожалуй, в синагогу… Нет, погоди, это уж слишком! Смущаешь ты меня, я же в коммерции несведущ, сомнительное это дело, но мыслю: раздай-ка ты, что осталось от гонорара, нищим. А в Одессу или еще там куда лучше всего сообщи, что от авторства своего отказываешься раз и навсегда! Такое будет мое последнее пастырское слово. Решайся, раб Божий, и иного совета от меня не жди.
После благословения измученный прозаик, похожий на Христа, удалился с заботой на лице, а переволновавшийся отец Феогност почувствовал определенно: «Еще одно подобное откровение, и сил моих больше не хватит».
X
В эти же минуты в главном приделе, неподалеку от Царских врат и от гроба, в котором, дожидаясь отпевания, покоилось тело его убиенного брата, погруженный в безмолвие, застыл Арсений Десницын. «В Божьем мире ничто не случайно: все по Промыслу!» – эту жизненную аксиому Сеня познал с детства, хотя и не в гимназическом классе. В назидание любимому внуку ее часто повторяла покойница-бабушка, известная на весь уезд толковательница Екклезиаста и Апокалипсиса (потом уж из бабушкиного завещания выяснилось, что всю жизнь она тайно держалась старой веры и хоронили ее по древнему обряду). Не просто так художник полюбил этот храм с образами старинного письма, с чинным знаменным распевом длинных богослужений, и когда однажды увидал свою икону пожертвованной именно в этот приход, только лишний раз убедился – случайностей не бывает. «Поддался искушению в мастерской, а грех мой все равно предстал перед церковным престолом в том храме, куда я не раз приходил с покаянием. Можно было это предвидеть, но тогда вообще незачем было так писать. Что сделано, то сделано: я не хотел дурного, Господи!» Поэтому же у Арсения не было сомнений, где отпевать брата: «Должно проводить Ивана в мир иной, как положено христианину, чтобы облегчить мытарства грешника за гробом, и кто знает, может быть, тогда под этими сводами Он и с меня снимет хоть часть вины за дерзость, допущенную в строгом священнодействии иконописи». Настоятелю тоже не пришлось долго объяснять, почему для отпевания Арсений выбрал единоверческую церковь:
– Понимаю, сыне, что выбор для тебя многознаменательный, вера твоя, мнится мне, из самого сердца идет. А ты, может, думал, я считаю себя вправе отказать, не позволю винопийцу убиенного отпеть? Крещеный ведь он, для Бога же все равны.
Сейчас немигающий взгляд Десницына был прикован к месту, где вот-вот начнется печальный обряд, но он ничего не видел, только в памяти сплошной вереницей чудовищных нелепостей, каких-то кошмарных фактов пронеслись последние дни: Звонцова, его ближайшего и единственного друга, обвиняли в убийстве Вани, и он сознался – тот якобы был среди налетчиков, которые недавно ограбили его мастерскую и на которых он сразу же заявил в полицию, и вот теперь Иван лежит в глазетовом гробу, а Звонцов ждет приговора в тюремной камере! Подобное просто не укладывалось в десницынской голове, к тому же его доводило до бешенства то обстоятельство, что на похороны, Бог весть откуда, в немалом количестве собрались родственники, казалось бы, давно предавшие сбившегося с пути Ивана семейному проклятию, а самому Арсению, тоже, по их мнению, несостоявшемуся в жизни, напоминавшие о себе дежурными открытками не чаще двух раз в год – на Пасху и Рождество (в день именин он не получал и открыток). И это еще при том, что отец с матушкой и вся ближайшая родня давно уже покоились в земле, зато отовсюду съехались те, кого в разговоре принято, пусть неучтиво, но метко, называть седьмой водой на киселе. «Как они любят эти «съезды» на свадьбы, крестины или похороны. Какая именно из перечисленных причин имеет место, им абсолютно все равно. Да! Ведь это же еще удобный повод лишний раз выбраться в столицу, посмотреть, что тут новенького, и себя показать!» Художник выслушал сегодня уже не одно «искреннее» соболезнование, а сколько еще предстояло вытерпеть «прочувствованных» тостов с постной миной на лице и слезой в голосе во время застолья, которое наверняка с удовольствием предвкушают эти почти незнакомые ему люди, стоящие у гроба: «Родственники, свойственники… Все пустое – ничего, кроме житейского лицемерия. К чему устраивать поминки – для того лишь, чтобы потешить кучку фарисеев?! Не желаю! Достаточно суеты и греха вокруг этого события».
В сознании Арсения в который раз вспыхнула жгучая мысль: на нем ответственность за гибель заблудшего Ивана, это он должен был во что бы то ни стало привести брата в храм, пробудить в его душе веру, и тогда, конечно, не случилось бы трагедии. Слова из «Покаянного канона» теперь буквально преследовали Десницына-младшего: «Како не имам плакатися, егда помышляю смерть? Видех бо во гробе брата моего безславна и безобразна. Что убо чаю и на что надеюся? Токмо даждь ми, Господи, прежде конца покаяние». Неожиданно в самую ткань молитвы вплелся и прорвал ее надтреснутый голос одной из «скорбящих и соболезнующих» – двоюродной тетушки (Сеня даже не помнил, с отцовской или материнской стороны, потому что видел это подрумяненное старушечье личико захудалой помещицы из среднерусской губернии всего несколько раз, да и то в нежном возрасте). Поправив траурные кружева на голове, пряча жиденькие седые локоны, тетушка произнесла «утешительное»:
– Право, не стоит так сокрушаться, дружочек: его беспутная жизнь рано или поздно должна была оборваться. Умер беглый каторжник – ну и что ж, что умер? Лишь бы ты был здоров…
– Убит, – в сердцах поправил художник, – убит, а не умер!
Старушка метнулась в сторону как ошпаренная, предпочитая больше не трогать и без того взвинченного Арсения, впрочем, он тут же услышал еще ложно многозначительную реплику кого-то из родственников: «Как-то беспокойно без него и страшно, но вместе с тем необъяснимым образом чудесно, ставшего драгоценным для меня переживанием». Этого запутанного языкового ребуса художник разгадать не смог и никак не прореагировал на него. «Подумать только, двоюродная тетка побеспокоилась о моем здоровье! Раньше нужно было беспокоиться – о состоянии Ивана! – Сеня едва выдерживал внутренне напряжение. – Они, видите ли, предполагали, что он умрет, вернее сказать, ожидали его окончательной нравственной и физической гибели, а теперь еще имеют совесть разглагольствовать о неизбежности такого исхода!» Возможно, от обиды и отчаяния в эти минуты в мозгу Десницына как бы сама собой оформилась заманчивая, но слишком наивная теория: вот если смерть одного родного, близкого человека можно было бы, так сказать, расчленить на малые недуги и поделить между многочисленной родней – кому-то достанется безобидная простуда, кому-то мозоль или флюс, или царапина какая-нибудь, со временем все выздоровеют, тогда безносая тень отступит от того, кому угрожала, над кем занесла было свою косу, извечная губительница жизни будет побеждена! «Пожалуй, такое чудо могло бы произойти лишь при одном условии – родных этого человека должна связывать жертвенная любовь и единая Вера, – рассуждал Арсений, однако сделанное допущение его не утешило. – Здесь о подобном условии и говорить не приходится: только кровь общая, а это ровно ничего не значит, когда каждый себе на уме». Собравшиеся шептались о чем-то постороннем, житейском. Это навязчивое, точно мушиное, жужжание и мрачный поток собственного сознания просто лишали Арсения возможности сосредоточиться на молитве. Ему было не побороть рассеянность потому еще, что в одном из боковых приделов исповедь шла на повышенных тонах: капризные женские голоса перебивал непривычно громкий, с торгашескими интонациями, голос батюшки, который давал наставления в духе модной тибетской медицины: «А я уверяю – это все идет от живота, нужно очистить свои чакры и все выпустить наружу». От православного пастыря Десницын такое услышать никак не ожидал. Обескураженный, он посмотрел в сторону, чтобы разглядеть странного пастыря. Священник был курчавый жгучий брюнет с какой-то ветхозаветной бородой, с игривой хитрецой в ассирийских глазах. Фантазия художника сразу породила ассоциации одновременно с хищной черной птицей и лисой – очень неприятные ассоциации. Он также почувствовал доносившийся из того же придела сильный чесночный дух: его не мог перебить даже запах ладана. Сене хотелось думать, что наелась чеснока какая-нибудь прихожанка, которой по простоте душевной и в голову не пришло, что в храме, да еще на исповеди, подобное амбре будет неуместно, но эти домыслы стали абсолютно не важны на фоне следующего откровения, прозвучавшего из уст батюшки: «Ей же Богу – это очень хорошая пилюля, и стоит не так дорого. Скажу вам больше – не у всякого аптекаря найдете, а у меня – пожалуйста! Это будет как частный визит к Господу. Эффект гарантирую: вы поцелуете солнце и попробуете на вкус радугу».
Всегда относившийся к священству с глубоким почтением и почитанием, художник не желал верить своим ушам: батюшка, вместо того чтобы врачевать страждущие души истиной Христовой, предлагает прихожанке вызывающее галлюцинации средство, предлагает КУПИТЬ У НЕГО НАРКОТИК!!! Художник старался насильно убедить себя, что это послышалось или он сам уже галлюцинирует, но нервы его сдали окончательно: так и не дождавшись начала отпевания. в полном расстройстве чувств, в каком-то мистическом страхе Арсению Десницыну пришлось покинуть храм. Отец Феогност все продолжал исповедовать, и ему некогда было задумываться, как проводит таинство Юзефович, подвергается ли напастям и достойно ли противостоит искушениям. Он сам не заметил, как подошла к аналою худенькая болезненная девушка с непокрытой головой, вероятно, еще гимназистка, с приметной красной ленточкой на шее. Священнику эта ленточка показалась вызывающе легкомысленной, нехорошее, знакомое по прошлому разу предчувствие посетило его, пробежав холодком по спине: «К чему эта неуместная повязка? Неужели сейчас придется терпеть новые непотребства?!»
Опасливо, но строго отец Феогност вопросил:
– Как твое имя, дочь моя? Не Капито…
– Меня зовут Мария, – не дослушав вопроса и точно в лунатическом сне, уставившись в пространство, медленно вещала странная гимназистка, – я молилась, долго и усердно молилась, молилась всегда, до изнеможения, впадая в экстаз… Так я дошла до страшного греха. Сохраняя девственность, однажды почувствовала, что беременна, и, не колеблясь, сделала аборт. Потом мне открылся весь ужас моего греха: ведь я зачала от Святого Духа и, значит, убила Святой плод! О-о-о, это смертный грех! Я пришла покаяться… Каюсь и жду наказания! Накажите меня, батюшка! О-о-о!
Вялая исповедь лунатички перешла в бурные, истерические рыдания и дрожь. Преодолевая слезы и судороги, назвавшаяся Марией продолжала нести свое:
– А-а-а! Я знаю! Вы думаете, у меня падучая? Вы мне не верите – я вижу! Ночью я сплю, потому что веду богобоязненный праведный образ жизни… И я не могу спать, потому… потому что я тайно любила вас… И сейчас люблю только вас! А-а-а-а!!!
Она сползла на пол, хватаясь руками за бороду, за ризу бедного протоиерея, который сам едва стоял на ногах – грудная жаба сдавила сердце. Девица никак не могла остановиться и теперь уже, что называется, порола горячку:
– Оскорбил меня, больно так. Боже мой… Как же мне больно, Господи! Как вы меня замучили… Вы мне не духовный отец… Вы отец мой по плоти, вы отец моей матери, вы меня обезличили… И оставьте, в конце концов, мать мою в покое… вы слышите? Не сожительствуйте больше с ней, не смейте. «Не прелюбы сотвори…» Заповедь… Я еще помню заповедь, а вы?
Она уже блажила на весь храм, как будто нарочно хотела привлечь к себе внимание:
– Я ненавижу всех вас, вы все должны отравиться, даже в церкви отравленный воздух… Женщину оскорбили… твари подлые, лживые твари, гадкие… Вы га-а-адкие! Все люди терпеть вас не могут, все – спросите их! Вы ни женщин не любите, ни детей… Вы грубый и невоспитанный человек… Ненавижу! Но вы ответите мне, сейчас ответите…
Из глаз отца Феогноста тоже брызнули слезы – он не мог их сдерживать, слезы стекали по щекам, искрились в бороде… Богохульство, невиданная агрессивность бесноватой девицы, ощущение того, что все силы зла ополчились на него, воплотившись в этом на первый взгляд безобидном существе, наконец, сознание собственной беспомощности, стыда перед Создателем за то, что он, убеленный сединами слуга престола Божия, настолько душевно и физически изнемог и сейчас не в состоянии противодействовать этому сатанинскому нападению, привели священника в совершенную растерянность. Прикрыв одной рукой лицо, а другой держась за сердце, шатаясь из стороны в сторону, как очутившийся в лесных дебрях, он направился вперед к иконостасу, в алтарь к Свету Незаходимому. «Оставьте, оставьте меня все… Ангел мой, не отступи от меня, Господи, спаси и сохрани!» – еле слышно повторял он на этом пути. Иерей Николай, видевший, что творится с отцом настоятелем и боявшийся остаться без духовной поддержки последнего, прервав уже начатое отпевание, кинулся ему наперерез, стал умолять, увещевать:
– Куда же вы, отче! Не уходите! Вы послушали эту бесстыдницу, сумасшедшую нигилистку, ниспровергательницу всего святого? Это же исчадие ада какое-то, погибшая душа, а вы ее слушаете! Не теряйте себя, батюшка, держитесь!
Отец Феогност приостановился, и говорящий поймал взыскующий взгляд из-под бровей, обращенный на него:
– А не ты ли сам подобное мне сегодня говорил после литургии? «Все бессмысленно», «комаров отгоняете» – забыл уже?
Лицо молодого священника пошло пятнами, он принялся виновато заверять:
– Я осознаю, отец настоятель! Бес попутал – впредь не будет такого…
Как раз после этих слов, улучив удобный момент, неистовая Мария бросилась на протоиерея, пытаясь задушить старика своей шейной лентой. Отец Феогност, собрав оставшиеся силы, отстранился от нее и трижды перекрестил, заклиная: «Сгинь, окаянная! Изыди, нечисть!» Девица тут же простерлась на каменном полу и затихла в оцепенении, а протоиерей, не оборачиваясь, все-таки добрался до алтаря, и было понятно, что он не скоро покинет свое убежище.
Отец Николай растерянно смотрел на лежащую «гимназистку», пока не сообразил подозвать какого-то из служек:
– Безобразие! Упала без чувств. Психоз, невроз – поди разбери тут! Надо бы врача вызвать. Сколько психопатов-то развелось!
Только теперь батюшка смог вернуться к прерванному отпеванию, но то, что он увидел, лишало смысла сам обряд – покойник ожил вопреки всякой логике! «Убиенный», здоровый детина, как ни в чем не бывало сел в гробу, расправил плечи и потянулся, точно спросонья: поднявшись на ноги, он даже не посмотрел по сторонам на родственников, которые, похоже, были совсем не рады его «чудесному воскресению» из мертвых, сами до смерти перепуганные. Затем Иван двинулся прямиком к почитаемому образу Николая Чудотворца в богатейшей, сверкающей драгоценными камнями серебряной ризе. Не раздумывая, безо всяких видимых усилий и ухищрений он открыл дверцу киота, одним ловким движением вынул из него икону и сунул за пазуху, несмотря на ее немалые размеры, после чего на глазах у всех, прямо в саване, преспокойно вышел из храма. Никто и не пытался ему помешать: все произошло, как гром среди ясного неба, в считанные мгновения. Только через несколько минут в храме поднялась всеобщая суматоха. Женщины большей частью попадали в обморок, а те, кто не потерял сознания, подняли визг, мужчины же засуетились, не зная, что предпринять – то ли пуститься вдогонку, то ли поостеречься и положиться на волю Господню: все-таки вор-то – оживший мертвец, а значит, дело нечистое и просто так его не изловить. Отец Николай и вовсе затрепетал, как осиновый лист, упав на колени, принялся скороговоркой перечислять имена всех угодников Божиих, которые помнил, только молитву творил не заздравную, а какую-то заупокойную литию, и вышло так, что он с перепугу отпел всех святых, да еще не по одному разу. Ни один из присутствовавших в такой суете и внимания не обратил на произнесенную отцом Николаем после Иванова ухода странную фразу:
«Я понял наконец все. Я должен соблюдать диету, заниматься французской гимнастикой и больше ходить пешком. Все это кастрально-церетальные штуки, обман зрения».
XI
«Николин день», «Никола зимний» был для Ксении одним из любимых праздников: в роду Светозаровых великого угодника Божия почитали особо. 6 декабря прямо в усадебном доме всегда служился особый молебен с акафистом и водоосвящением. В памяти девочки отпечатались чудесные, незабываемые подробности тех торжественных служб: фимиам по всем комнатам, то, как батюшка щедро кропил «Никольской» водицей всех присутствовавших. По семейному преданию, заветный медный образ Николы Можайского-воителя оборонил далекого пращура Ксении в битве с крымчаками – татарская стрела попала в самый складень. И недаром, еще учась в Хореографическом училище, прикипела Ксения именно к Николаевской единоверческой церкви: благой чин и строгость в обрядах здесь соблюдались «сугубо», не так, как в других петербургских храмах. В канун престольного праздника здесь было заведено непременно читать древний акафист Мирликийскому Чудотворцу на знаменный распев, «по крюкам», как велось еще при Сергии Преподобном и до него. Службу возглавлял сам настоятель. Собирались не только все постоянные прихожане, но и множество любителей старинного пения, даже консерваторские профессора, которые окормлялись в других приходах. В тот год балерина пришла в храм заранее (ей еще нужно было непременно подать записку на завтрашнюю литургию о здравии «болящей Марии» – у старшей подруги внезапно открылась нервная горячка, – успеть помолиться «Скоропослушнице» за отчаявшуюся артистку Капитолину Коринфскую, у которой в злополучный день травмы вдобавок сгорела только что отстроенная дача в Озерках, хотелось поверить Святителю и свое, сокровенное, пока не началась служба), но привычной торжественности, большого стечения народа в церковной ограде она не увидела. На паперти вообще никого не было. Удивленная, Ксения поднялась было по ступенькам к входным дверям, но те оказались плотно закрыты. Стучать она не осмелилась и была только еще больше озадачена. В часовне на углу Кузнечного было жарко натоплено, перед множеством потемневших, старого письма образов теплились лампады. Здесь, слава Богу, нашлась свечница, сплошь закутанная в черное немолодая женщина. Карие глаза строго смотрели из-под монашеского платка. Ксения метнулась к ней, желая узнать, что происходит, но та упредила ее:
– Храм сегодня закрыт, матушка! Завтра, завтра в сам праздник на литургию приходите! И крестный ход будет…
– А как же молебен с акафистом? Сейчас ведь должны служить… Всегда ведь, каждый год… – Ксения не могла поверить, что добрая традиция нарушена, не понимала, по какой причине.
Монашка точно застеснялась, не глядя важной госпоже в глаза, произнесла:
– Нынче Господь не благословил, – и спешно скрылась в каморке за свечным прилавком.
Обескураженная балерина вышла на улицу, повторяя про себя глубокомысленную фразу: «Господь не благословил…». Предпраздничное настроение развеялось, как череда образов все более удаляющегося детства. Она подумала о Дольском, от которого не было вестей уже несколько недель, ей вдруг стало нестерпимо жалко его, себя, тут же Ксения вспомнила, что даже свечку забыла поставить, но видеться во второй раз со свечницей ей совсем не хотелось. Теперь ее переполняло внезапно возникшее беспокойство о князе: «Как он, что с ним, может, уже вернулся из своего паломничества, тогда почему не сообщил? А, что, если он болен или, не дай Бог, еще какие-нибудь непредвиденные обстоятельства? Бедный Евгений Петрович! Нужно немедленно ехать на Петербургскую сторону, выяснить все самой – ведь я же его обидела тогда, ведь на нем просто лица не было. Решено: еду сейчас к нему, а обратной дорогой загляну в часовню на мосту [207]207
Часовня постройки Штакеншнейдера на Николаевском мосту через Неву, приписанная к Андреевскому собору, с мозаичным образом Николая Угодника, исполненным в Риме русскими мастерами.
[Закрыть]или в Морской собор Святителя Николая, если еще не закроют. Только не нужно так волноваться… Святителю отче Николае, прииди мне в помощь, моли Бога о нас!»
Извозчика не пришлось поторапливать – ему точно передался порыв молодой дамы. Позади остался залитый светом, визжащий клаксонами авто вечерний Невский с бесконечной толпой-муравейником, растаяла в снежной дымке неоклассическая громада Скетинг-ринга [208]208
Крытое здание катка с увеселительными заведениями, стоявшее на Марсовом поле и снесенное в годы революции.
[Закрыть]; перелетев по иллюминированной металлической дуге Троицкого моста через Неву, возок помчал по роскошному Каменноостровскому, обгоняя спешащих на Острова и в заведения Новой Деревни столичных гуляк. Вот уже и тихая Лицейская улица, и вдали окна княжеского особняка, а в них отблески света! Сердце Ксении тревожно забилось. Подъехали к дому: нет, это не фонари отражались в больших остекленных поверхностях фасада – свет шел изнутри и как бы указывал на присутствие хозяина! Балерина торопливо рассчиталась с извозчиком, дав ему впопыхах какую-то крупную купюру, и тот мгновенно исчез, а она остановилась перед кованой калиткой, приводя в порядок мысли: «Замечательно! Значит, он все-таки приехал, совсем недавно, наверное… Как здорово, что я застала его – это Николай Угодник все устроил!» Ксения собралась сказать князю то, о чем думала в эти бесконечно тянувшиеся недели разлуки, а потом они вдвоем поедут в храм, вместе отстоят вечерню… Калитка не была закрыта, да и входные двери, высокие и прозрачные, в хитросплетении цветочных гирлянд, искусно исполненных из желтого металла, оказались незапертыми. С трудом сдерживая порыв радости, Ксения соблюла приличия – все же позвонила. Один раз, потом еще – на звонок никто не откликался, прислуга как сквозь землю провалилась.








