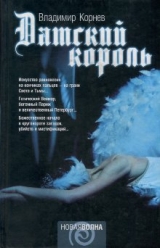
Текст книги "Датский король"
Автор книги: Владимир Корнев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 52 страниц)
Поезд, который был в каких-то десяти минутах ходу от пограничной станции, на его счастье притормозил. Открыть двери оказалось несложно, и тогда горе-ваятель, мысленно пожелав себе ни пуха ни пера, прыгнул навстречу полной неопределенности. «А эта проклятая скульптура – для чего же мне теперь? Никаких мертвецов не было и нет!!! – осенило Звонцова в момент полета. – Зачем я рвался сюда, зачем искал ее? Зачем вообще все это?!»
IX
Заставить себя добраться до Мариинского балерине стоило немалых волевых усилий. Казенное кожаное кресло в директорской приемной в тот день показалось Ксении чрезвычайно жестким – раньше она этого не замечала. От сильного волнения ее мутило, сдавливало виски, кисти рук холодели. «Господи, к Тебе прибехох, научи мя творити волю Твою!» – с молитвой на уме, готовая ко всему, Ксения без приглашения вошла в кабинет. Руководитель Императорского театра, напряженно разглядывающий бронзовую лиру – деталь претенциозного подарочного письменного прибора, украшавшего внушительных размеров рабочий стол, завидев приму, едва приподнялся с места и небрежным жестом предложил даме сесть, однако по его забегавшим маленьким глазкам нетрудно было заметить, что визита этого он дожидался с большим нетерпением, балерине же не дал и рта раскрыть.
– Наслышан о вашем недомогании, Ксения Павловна, но, к счастью, вижу, что слухи были слишком преувеличены. Правда, Чайковского вчера пришлось отменить… Впрочем, это не страшно. Сегодня вы выглядите даже лучше прежнего – некоторая бледность вам определенно к липу! Ну-с, теперь о главной причине срочного вызова. Многие зрители (среди них. заметим, весьма важные персоны!) очень огорчены, что спектакль не состоялся, но мы с главой балетной труппы подумали и сошлись во мнении: сегодняшнее «окно» в репертуаре можно заполнить «Дон Кихотом», дабы не пропали билеты на «Лебединое». Не беспокойтесь – для вашей роли уже найдена другая балерина. Мы же вас ценим и понимаем, что партию Китри целиком вам тяжело будет осилить – пять актов, не шутка! – но и вы нас тоже должны понять. Накануне билеты были куплены на Светозарову, так что, Ксения Павловна, придется вам исполнить перед спектаклем «Умирающего лебедя». Всего-то один короткий номер, зато зритель увидит желаемое – свою любимицу, и вчерашний конфуз забудется ко всеобщему удовольствию.
Балерина была обескуражена: логично было бы предполагать строгую нотацию, вплоть до гнева патрона, но она и не догадывалась заранее, что будет поставлена перед фактом – танцевать во что бы то ни стало, независимо, готова она к подобной «импровизации» или нет. Нужно было постараться объяснить, что она еще не настолько хорошо себя чувствует, не пришла в должную форму, наконец, совсем не репетировала и поэтому сложную миниатюру Сен-Санса не сможет исполнить так, как подобает балерине ее уровня. Ксения попыталась робко возразить:
– Но ваше превосходительство, это невозможно…
Директор в ранге действительного статского советника был непреклонен в своем решении:
– Госпожа Светозарова, я настойчиво прошу Вас проследовать в гримерную и готовиться к выступлению, – он демонстративно бросил взгляд на золотой брегет – дар Государя, – Осталось ровно два часа до вашего выхода. Не тратьте время даром – еще успеете порепетировать, войти в образ. Ступайте же!
Ксения поняла, что попала в ловушку, выход из которой один – на сцену. Кому-то из завистников, без сомнения, очень хотелось позорного провала примы Светозаровой на глазах у всей столичной публики – это могло бы означать конец ее блестящего творческого полета. «Пускай мне недостает сейчас собственных сил – нужно тогда во всем положиться на силы небесные!» – подсказывал Ксении голос христианки – души. Вспомнились детские годы: лето на море в Крыму, возле Инкермана, где ее учили плавать. Там было синее, синее небо, кресты древнего пещерного монастыря над головой в высокой отвесной скале и голос отца, наставлявший маленькую Ксюшу: «Не бойся, дочка: ляг на воду свободно, а она сама будет тебя держать, ты только разводи в стороны ручками и ножками. Море доброе!» С этим мудрым родительским напутствием из вечно милого прошлого балерина и «выплыла» на сцену в голубоватом свете софитов под льющиеся звуки виолончели и арфы. Гипнотическая музыка Сен-Санса бережно, точно легкий морской прибой, сама подхватила ее, обволакивая тело и растворяясь во всем существе, увлекла за собой. Но вряд ли кто-нибудь из сидящих в мягких креслах партера и бенуара мог почувствовать малую толику той боли, с которой давались Ксении Светозаровой в этот вечер виртуозные pas de boure [280]280
Переступающий, дробный шаг на одних кончиках пальцев – сложный хореографический прием.
[Закрыть], эти точечные неслышные касания пола: они лишь с нескрываемым любопытством наблюдали в свои бинокли и монокли за творимым у них на глазах священнодействием танца. Отрешившаяся от реальности балерина, как сомнамбула, подчиняясь роковой мелодии, ступала, подобно андерсеновской русалочке, по остриям лезвий – ей было и больно, и сладко, и, что оказалось поразительным для нее самой, – это не походило ни на одно из предыдущих исполнений маленького французского шедевра. Раньше она всегда страшно переживала, если перед «Умирающим лебедем» исполнялся какой-нибудь мажорный, веселый, почти развлекательный номер (и такое случалось по воле постановщиков). Порой ей приходилось даже затыкать уши и закрывать глаза, искать укромный уголок, какое-нибудь темное место за кулисами, где можно было окунуться в сосредоточенную, нездешнюю тишину, чтобы de profundis [281]281
Букв, «из глубины» (лат.)– начало покаянного псалма, по католическим канонам, читающегося над умершим.
[Закрыть]услышать первые начальные Сен-Сансовы аккорды, и как же она радовалась, если концерт был выстроен безупречно, так что предшествовавший ее «Лебедю» номер соответствовал необходимой трагической гармонии.
В этот раз Ксения не столкнулась с подобным казусом – все-таки выступала первой, но была ведь и другая «благоприятная» причина – сами события, гнетущая атмосфера перед спектаклем определенно настраивала на скорбную ноту. Балерина открыла залу трагедию своей души, собственное состояние – в ее танце не было и малой толики искусственности. Теперь она воистину танцевала самое себя! Сейчас Ксении казалось, что руки существуют, творят свой филигранный, прихотливый рисунок отдельно от нее. Это именно им, рукам, суждено было вышивать по канве импрессионистической мелодии, выпевать непокорную смерти лебединую песнь песней. Иногда в них, гибких и бледных до белизны, чудились клонившиеся к озерной глади шеи величаво-грациозных птиц, и в подобном преображении трудно было понять: то ли эти трепетные руки, стремительно разлетавшиеся и снова сходившиеся в едином порыве, – гордая лебединая пара, ведущая страстно-противоречивый диалог между собой, то ли сама кудесница-балерина буквально обернулась царевной-лебедью старинных сказаний. Впечатлительному эстету-визионеру, еще недавнему посетителю ивановской «Башни» и незабываемых «сред» [282]282
Знаменитая «Башня» поэта символиста и философа – Вячеслава Иванова (на углу Таврической и Тверской улиц) была крупнейшим литературно-художественным салоном Петербурга, где в девятисотых годах регулярно проводились так называемые «среды», привлекавшие весь цвет рафинированной культуры Серебряного века.
[Закрыть], выбиравшему вторую образную версию, тотчас виделись «мечты одной два трепетных крыла» и даже «две руки единого Креста» [283]283
Цитата из «Венка сонетов» Вяч. Иванова, вошедшего в книгу «Cor ardens» («Пылающее сердце») (1911).
[Закрыть]. Самой Ксении последнее сравнение наверняка показалось бы непозволительно дерзостным: она просто безоглядно следовала некому велению свыше, исповедовалась языком хореографии. Она в то же время как никогда глубоко постигла драматический символизм картины гибнущего совершенного создания неба, сознающего не только свою участь, но и то, что принять ее следует как положено эстетически безупречному творению. Лебединые крылья с последней надеждой взметались ввысь, и даже в том, как они тут же простирались долу, была не жалкая пассивность умирания, а лишь пауза перед очередной попыткой вырваться из вязкого болотного морока земли; по телу до самых кончиков пальцев ног все заметнее пробегала конвульсивная дрожь, ритмически подчеркивая напряжение еще пульсирующей, не сдающейся жизни, доведенное до предела, – это дрожал натянутой струной нерв балетного действа, которое и самый въедливый зоил назвал бы идеальным. Подсознание Ксении вызвало из памяти поразившие ее когда-то строки еще одного гениального француза, поэта [284]284
Стефан Малларме (1842–1898).
[Закрыть]. Эта поэтическая пьеса, болезненно утонченная, была неразрывно переплетена с пронзительной музыкальной пьесой:
Бессмертный, девственный властитель красоты.
Ликующим крылом ты разобьешь ли ныне
Былое озеро, где спит, окован в иней.
Полетов ясный лед. не знавших высоты!
О. лебедь прошлых дней, ты помнишь: это ты!
Но тщетно, царственный, ты борешься с пустыней:
Уже блестит зима безжизненных уныний,
А стран, где жить тебе, не создали мечты.
Белеющую смерть твоя колеблет шея.
Пространство властное ты отрицаешь, но
В их ужасы крыло зажато, все слабея… [285]285
Перевод В. Брюсова («Лебедь»).
[Закрыть]
Силы покидали балерину с каждой секундой – по капле, по крупице утекали неведомо куда. Внезапно мутнеющее уже сознание Ксении озарилось: «Господи, завтра ведь мой День Ангела! И я могла забыть?! Это он сам мне сейчас напомнил, он ведь где-то рядом – как всегда…». Никому не заметная, мгновенная улыбка коснулась губ Ксении. В этот миг она отчетливо увидела со стороны: теперь на сцене священнодействовала уже не балерина Светозарова, а ее светозарный Ангел-Хранитель! Исполнен последний оборот, последний воздушный взмах крыльев, вот крылья-руки сложились за спиной, и наконец сама птица-балерина простерлась на сцене, уронив голову на неподвижные руки, вытянувшиеся перед ней с достоинством и покорностью высшему началу. Затих последний струнный аккорд. Трехминутный номер закончился. Невесомое перышко отделилось от ослепительно белоснежной пачки Ксении и унеслось в воздушном потоке, взметенном опускающимся занавесом. Когда через минуту он снова поднялся, повинуясь несмолкающим овациям публики, Ксения оставалась в той же позе лежать посередине сцены, но теперь все увидели не мертвого лебедя, а застывшее тело молодой женщины! Беспокойный ропот прокатился по залу, потрясенные зрители повскакивали с мест. К недвижимой уже бежал врач и кто-то из «балетных». Не нащупав пульс, врач поднес к губам балерины зеркальце – оно осталось незамутненным. С точки зрения медицины все было совершенно ясно. В огромном пространстве театрального зала воцарилась оглушительная давящая тишина и всеобщее оцепенение. Даже женских всхлипов не было слышно, только по прекрасному уже фарфорово-холодному лицу, точно из открывшейся смертельной раны души, струились горячие слезы искупительной жертвы.
ЭПИЛОГ
В один из промозглых дней ноября 1916 года часа в два пополудни возле нового участка Смоленского кладбища, что ближе к Гавани, остановилась извозчичья пролетка. Средних лет полковник с уже заметной проседью в усах, задремавший было от размеренной езды, очнулся при стуке копыт четверки лошадей, влачивших посреди неведомой похоронной процессии громоздкий катафалк. Он открыл глаза, провел ладонью по лицу, поглядел по сторонам, пытаясь сориентироваться спросонья, осведомился у сходившего с подножки ординарца:
– Где это мы? Неужели приехали?
– Так точно, ваше высокоблагородие: все по Малому проспекту ехали, как было приказано.
Офицер, расплатившись, отпустил пролетку, продолжая присматриваться к местности:
– Давненько тут не бывал, пожалуй, что лет восемь! Изменилось все порядком – прирастает, братец, скорбная нива.
Подтянутый унтер охотно согласился:
– A-то как же-с! Жизнь жизнью, а смерть – она того, всегда свое возьмет, и не только у нас на позициях. Всякому человеку свой срок определен, все мы в земельку-то ляжем. Я понимаю, это еще счастье, когда так-то вот – по обряду христианскому.
– Правильно понимаешь, Егор, ты, оказывается, философ… Только как там мои орлы в маньчжурском песке лежат – Бог весть! Может, и могил не осталось уже…
Холодный ветер с залива налетал порывами; от этого, наверное, слезились глаза. Полковник поднял воротник походной шинели, поежился:
– Ну пойдем, братец. Далеко он нас все-таки завез. Придется, чувствую, место поискать!
Не доходя до неприметной простой решетки, обозначающей кладбищенскую границу, он вынужден был все же остановиться. На расстоянии от ограды среди чертополоха высился одинокий памятник – мимо такого надгробия трудно было пройти, не задержавшись. Оно точно притягивало своей необычностью любопытного прохожего; можно сказать, это был выдающийся образец ваяния в классическом стиле вековой давности, а то и более раннего времени. На гранитном монолите стояла небольшая бронзовая женская фигура – само воплощение темного, рокового начала в женщине; не библейская Ева, а какая-то апокрифическая, отвергнутая Богом Лилит – с горящим взглядом – матерь демонов (полковник был не просто глубоко, традиционно верующий, но к тому же всесторонне образованный человек и знал многое из того, о чем неискушенный, доверчивый россиянин зачастую даже не догадывается). Красота ее будила откровенно животные чувства, грубые инстинкты – слишком плотская красота, зовущая в некую бездну. Офицер всегда испытывал к подобным существам противоположного пола два чувства: врожденную брезгливость дворянина, воспитанного в становившемся анахронизмом духе целомудренного благородства, и вдобавок сожаление православного русского человека о том, как все же лукавы эстетические каноны. диктуемые необузданной страстью. Даже у Егора вырвалось:
– Ну и баба! Как есть ведьма – такую не то что нагайкой, колом осиновым уму-разуму не выучишь!
Офицер все еще созерцал уникум со скорбной миной, сложив руки на груди. В скульптуре сочеталось множество грозных, хищных черт: устрашающе раскинутые крылья и когтистые лапы, как у степного стервятника, какой-то варварский аркан в руках, да к тому же эта фурия была окружена свитой из свирепых львов и нахохленных сов, готовых вонзить свои крючковатые клювы в любого, на кого укажет им могущественная повелительница. «Вот красота, губящая все живое и чистое на своем пути, уничтожающая стихия, настоящий бич рода человеческого! Ничего себе птичка – просто олицетворенное зло! [286]286
Лилит действительно является в иудейской талмудической демонологии духом зла. В еврейской традиции овладевает мужчинами против их воли, известна также как волосатая («Эрубин». 186) и крылатая («Нидда», 246), вредительница деторождения.
[Закрыть]– с ужасом думал полковник. – Кто же это, интересно, „удостоился“ такого надгробного памятника?» Он нагнулся, раздвинул сорную траву, прищурившись, разобрал надпись на камне, но ни фамилия, ни имя не вызвали у него ровно никаких ассоциаций – погребенный ничем известен не был. Внутренне сожалея, что зря потрачено время, полковник устремился прочь от «зачумленного» места, в глубь кладбища. Верный ординарец, поминая «бронзовую бабу» недобрым словом, едва поспевал за «его высокородием».
Это был бы замечательный сюжет для художника-жанриста из «Товарищества передвижных выставок»: двое военных – крепкий, приземистый полковник, перетянутый ремнями, с черно-оранжевой ленточкой у борта шинели, в серебристой смушковой папахе, и долговязый унтер-ординарец с двумя «Георгиями», знаками солдатской доблести напоказ, блуждающие между покосившихся ажурных крестов, меж усыпанных бурой листвой могил под оголенными кронами почтенных кленов и осин, наподобие траурного кружева вдовьей шали раскинувшихся по небесному холсту. Не терявшиеся в бою фронтовики почувствовали себя беспомощными на огромном, пустынном в этот будний день столичном погосте. «Корниловская дорожка, корниловская дорожка… » – как заклинание твердил офицер, подходя то к одной, то к другой могиле, а нужной найти не мог. Сбитые с толку, в зарослях кустарника ударники [287]287
Ударники – бойцы ударных фронтовых частей, во множестве создававшихся в Первую мировую и Гражданскую войны.
[Закрыть]наткнулись на братское захоронение моряков миноносца «Дельфин», погибших, как значилось на надгробных плитах, в июне 1904 года.
– И мои солдаты тогда же полегли… А я вот совсем, похоже, запутался, – посетовал озадаченный полковник. – Память после контузии никуда… Ведь где-нибудь рядом, наверняка!
– Нет, ваше высокородие, чую, не здесь это, – Егор помог командиру освободить полу шинели, зацепившуюся за пику ограды. – Надо отсюдова выбираться – я точно помню, вы мне говорили: там какая-то часовня недалеко была, а в этой глуши даже склепов не видать.
Солдат и офицер поворотили в другую сторону к центру кладбища, где, скорее всего, должна была находиться запомнившаяся последнему часовня и затерянный могильный холмик. Так они вышли на широкую дорогу, вымощенную каменными плитами. Молодой, зоркий унтер издалека увидел большую гранитную пирамиду, увенчанную восьмиконечным крестом:
– А вот – часом не она, господин полковник? Я себе аккурат такую махину представлял!
– Да нет. На подобный монумент мы всем полком, при всем благородстве замысла, денег не собрали бы, тем более я один. Здесь, братец, герои повыше рангом покоятся – лейб-гвардейцы.
Когда поравнялись с памятником, украшенным металлическими лавровыми и дубовыми ветвями, рельефно-выпуклыми картушами с искусно высеченной в граните эпитафией – славянским плетением словес, полковой командир рассказал о взрыве, устроенном террористом тридцать пять лет назад в Зимнем дворце.
– Государя-Освободителя убить замышлял, а погибли эти финляндцы [288]288
Финляндцы – солдаты лейб-гвардии Финляндского полка.
[Закрыть]. Все нижние чины… Между прочим, находятся до сих пор такие, что считают страдальцем за народ самого бомбиста! – Офицер почувствовал порыв ожесточения, но, выдержав паузу, после спросил вполголоса. – А ты, Егор, как думаешь?
Унтер покраснел, видно было, что его задело за живое:
– Чего ж тут думать?! Обижаете, ваше высокоблагородие, право… Убивец, он и есть убивец, а солдатушки-братцы – мученики они за Царя и Отечество… Истинно так! Верой и правдой служили, долг свой справляли «даже до смерти». Я-то и не знал – жертва ить святая! А смутьянов этих мы ж с вами на позициях в расход – помните, небось? Хуже германца они! Дали бы мне того иуду, уж я бы… Когда еще заповедано: «Не прикасайтеся Помазанному Моему!» Чья рука на Царя подымется – рубить, и весь сказ, не рассуждая. Вот я как думаю, Владимир Аскольдыч.
Кадровый полковник, которого Великая война приучила не всегда доверять солдатам, вместо ответа медленно прочитал одиннадцать простых русских имен, значившихся на камне. Не сговариваясь, забыв о сословном различии и о разнице в званиях, однополчане, как умели, осипшими голосами пропели «Вечную память». Потом, точно по наитию, свернули влево первой же тропой. Через несколько шагов Егор приостановился. обрадованно хлопнув себя по коленкам:
– Часовню вижу – ей-Богу! Смотрите!
Полковник, порядком уже уставший от поисков, тоже разглядел видневшиеся вдалеке между кленовых стволов зеленые стены и шатровый свод с куполком. Вскоре совместными усилиями нашли столбик-указатель «Корниловская дорожка», вот только на знакомом месте Владимир Аскольдович не увидел кованого креста, когда-то им заказанного и в его присутствии установленного. Здесь все было совершенно неузнаваемо: живописно расположенные новые скульптурные надгробия, молодые посадки вдоль образовавшейся аллеи, которую посыпал толченым кирпичом благообразный старичок, с виду кладбищенский сторож. «Наконец-то! Этот поможет». Офицер и рта не успел раскрыть, а сторож сам уже семенил навстречу:
– Что вам угодно, господа хорошие? Могилку какую-либо ищете?
– Видите ли, почтеннейший: лет десять назад где-то здесь был поставлен крест в честь воинов, погибших на японском фронте, а теперь что-то не видно его. Я как командир хотел бы знать…
– Не извольте беспокоиться, господин полковник. Цела могила солдатская и у меня, так сказать, на особой примете – мимо прохожу, всегда за упокой помолюсь. Вот она какая – по заслугам и честь воздана, так сказать! – Точно музейный смотритель, старик почтительно указал на скульптурный памятник, выделявшийся среди прочих особой выразительностью. Само основание надгробия осталось прежнее – четырехгранная тумба серого камня, зато теперь оно служило постаментом для пластической композиции из металла: в жестокой боевой схватке сплелись воедино два человеческих тела. Они намертво вцепились, точно вросли друг в друга, – один крупный и крепкий бородач, другой худощавый, гибкий, невольно напоминающий хищную ящерицу. Только при внимательном рассмотрении можно было различить характерные детали фигур, военной формы: пудовые кулаки крестьянина-скобаря, скрючившиеся тонкие пальцы самурая, русские погоны с полковой шифровкой да ременную бляху с японским солнцем-хризантемой. Единственной отчетливо, удивительно проникновенно и бережно исполненной деталью скульптуры, ее композиционным и смысловым центром был крупный крест с распятием на широкой груди православного воителя в экспрессивно распахнутом вороте рубахи-гимнастерки. Похожий на вериги подвижников Святой Руси, символ Жизни Вечной оправдывал достаточно смелый, модернистский эксперимент ваятеля.
Сердце защемило у полковника Асанова. Он закрыл глаза и тотчас представил унылую маньчжурскую степь, отчаянную штыковую атаку, в которой его третья рота, обеспечив N-скому полку выход на Фын-Хуан-Чен, погибла полностью. Ротный навсегда запомнил лица своих солдат перед тем, последним боем. Именно в память о солдатском подвиге тогда еще молодой поручик Асанов дал обет поставить на собственные средства крест в столице Империи – и поставил при первой же возможности на этом вот самом кладбище. Новое надгробие было несравнимо с прежним, очень непритязательным. Даже на постаменте, помимо старой надписи, скупо сообщавшей о том, кому посвящен этот скорбный кенотаф [289]289
Кенотаф – в античной традиции знак (обычно стела), напоминающий об усопшем, символическая могила, не содержащая останков.
[Закрыть], появились вызолоченные строки из известного всей России пронзительного вальса [290]290
«На сопках Маньчжурии».
[Закрыть]:
Спите, герои Русской земли.
Отчизны своей сыны!
– Я-то решил, здесь крестик простой, а тут натуральное художество – статуя искусная! – изумился ординарец. – Выходит, ваше благородие, вы по скромности не сказали. За то Господь вас наградит всенепременно – не поскупились, такое поминание однополчанам сотворили, на веки вечные…
– Погоди, погоди, Егор… Я сам ничего не понимаю!
Асанов, конечно же, рад был видеть столь чудесное преображение, но даже не мог предположить, откуда взялся настоящий мемориальный памятник, чей это мог быть щедрый дар. Он кликнул сторожа, оставшегося в стороне, спросил, кто же проявил заботу о почти незаметной могиле. Кладбищенский служащий будто только и ждал этого вопроса:
– Так я и говорю, господин полковник, теперь по заслугам и честь! У нас тут несколько лет назад безобразия творились (я тогда еще сторожем не служил): памятники разрушали, грабили. Нехристи какие-то, одним словом. Ваш им тоже чем-то, видать, приглянулся. Целая история была, выяснилось потом – переплавляли их! Так нашелся один меценат, ценитель искусств всяческих и скульптор к тому ж, он и пожертвовал взамен украденных надгробий, так сказать, собственноручные произведения. Извольте видеть – все тут красуются – как на подбор! Родственникам и усопшим радость, да и прохожие обыватели не налюбуются. Большой души человек, по всему видать: ему ж Государь дворянство за такую благотворительность побаловал! А фамилию сейчас вспомню – нерусская фамилия-то – сейчас, погодите… Вспомнил! Яков Шаянович Кричевский. А может, Шиянович? Да что фамилия – главное, дело богоугодное совершил, и все теперь довольны.
Асанов имени скульптора толком не разобрал, а может, просто пропустил мимо ушей. Просветлев лицом, воскликнул:
– Так, значит, жива Россия, старик? Не оскудела еще достойными людьми, теми, кто совесть за презренные сребреники не продал. Так получается, батенька! Значит, живы еще идеалы…
– А то как же – пример-то налицо, так сказать! Пока Вера наша живет, и Россия стоять будет! Село, говорят, не стоит без праведника, а они есть покуда – факт. Да вот вы тоже ведь! Сразу видно защитников наших, георгиевских кавалеров! Кровь за Отечество проливаете, живота своего не щадите третий год уж… А скажите мне – вам в окопах лучше знать – какая там диспозиция, скоро война-то эта проклятая закончится?
Унтер лихо, точно шашкой рубанул воздух:
– Когда в самый Берлин с фанфарами войдем да Вильгельму ихнему башку снесем, тогда и прикончится! Только таким манером, отец.
– Ординарец у меня уж больно горяч, – счел своим долгом добавить Асанов. – Хоть сейчас в атаку готов – молодец хоть куда, рубака… Тяжелое, конечно, положение на театре военных действий, ждем приказов высшего командования – нужно копить силы и надеяться на Господа. В победе я лично не сомневаюсь, старик, – нельзя сомневаться, когда враг перед тобой… да и сзади тоже. Для нас теперь главное – надежный, патриотический тыл, чтобы всякие распоясавшиеся писаки не целили нам в спину. Дух бы народный укрепить и внутреннего врага урезонить, а германца мы непременно побьем – слово офицера, почтеннейший!
– Понятно, господин полковник… – понуро глядя под ноги, сторож со вздохом перекрестился. – На Бога единого только и осталось уповать. Плохи, значит, дела на позициях. Да-а-с… Ну, наше дело известное – молиться за Христолюбивое воинство да надежды не угашать, так сказать… Вы уж простите – стар я стал. Иной раз посмотришь, что кругом творится, такое уныние найдет. И сна нет…
Военные молчали – что было им сказать, когда у самих на душе, по правде говоря, те же кошки скребли. После окопных ужасов, смертей и крови Петербург показался им обезумевшим новым Вавилоном. Здесь день и ночь не закрывались рестораны, кафешантаны, в кинематографах на Невском «крутили» несусветную пошлятину. Это был настоящий пир во время чумы. По городу без толку вольготно разгуливали обнаглевшие дезертиры и солдаты запасных частей, изображавшие из себя бывалых вояк, совершенно здоровые и так нужные фронту; какие-то томные типы с кокаиническим блеском в глазах и дамами полусвета под руку. Всюду только и разговоров было, что о Распутине, причем одна сплетня была гнуснее другой, даже высшее сословие постыдно муссировало слухи о том, что Императрица «слишком» близка с ним. Служилый дворянин Асанов не допускал и мысли о том, что это может быть правдой: он вообще не считал себя вправе в чем-либо осуждать Августейшую семью. Эта тема была для него свята, а любые спекуляции на ней казались дикими и неприемлемыми. Даже Егор, простой мужик, честно заслуживший унтерские лычки и боевые награды, возмущенный разговорами столичных обывателей, самыми последними словами поносил их, умудрившихся «устать от войны, даже не понюхав пороху», не знавших, что такое задыхаться от газов или запаха прелых бинтов, не понимающих даже, кому они обязаны тем, что могут как ни в чем не бывало пить свой кофий и за мадамами ухлестывать.
Первым нарушил молчание полковой командир. Он вынул из портмоне несколько сложенных вдвое кредиток и протянул престарелому кладбищенскому сторожу со словами:
– Спасибо за труды! Вы уж, любезнейший, приглядывайте за нашим памятником. Дело свое вы исполняете примерно и продолжайте ухаживать в том же духе. И имейте в виду, батенька: уныние – вещь скверная, не ровен час запьете. Понимаю отчасти, но не одобряю – удел слабых.
– Да я этим давно не увлекаюсь – ни капли в рот не беру. И не извольте сумневаться, господа хорошие: как раз завтра собирался памятники красить – для блезиру, так сказать, и теперь вашей скульптуре особенное внимание уделю. Бронзовая краска у меня французского производства – люкс, как говорится…
Владимир Аскольдович прервал его заверения:
– Нет уж. Как раз ради нашего удовольствия вы ее для других «ценителей красоты» приберегите. Наш памятник, пожалуйста, не красьте совсем!
Старик пожал плечами: дескать, как скажете, ведь я-то хотел как лучше.
– Послушайте, вы тут по долгу службы наверняка все знаете…
– Ну как же, конечно-с.
– Там, с краю, у Малого проспекта могила есть любопытная. Некого Зайцова, кажется? Старинное надгробие, редкостный курьез, а присмотра за ним.
по-моему, никакого – в удивительном запустении находится.
– Так это Звонцова могила, место знакомое, да нехорошее, скажу я вам, – небрежно бросил старичок. – Чего ж тут удивительного? Самоубийца он был, Звонцов этот, удавился, вроде бы спьяну, за то и лежит теперь, где собак дохлых закапывают и всякую, так сказать, падать, – за оградой! У нас на этот счет строго. Полиция так распорядилась, да и батюшка из Смоленской так говорит: «Самоубийцы, говорит, и трупы их не имеют ничего общего с усопшими по воле Божией православными христианами и их телесами и лишаются христианского погребения и поминания». Правда, памятник, может, и занятный – слыхал я, у бедолаги и денег на похороны не осталось, а статуя эта рядом с ним была, когда его дома удавленным нашли, будто заранее для себя приготовил, ну и решили поставить – может, кто из родных объявится, так и найдет по ней могилку-то.
– Суровый у вас, однако, батюшка, – удивленно заметил полковник.
– Это отец настоятель: у него точно – все по церковному уставу. Другие, положим, помягче будут… Ну не взыщите, ваши благородия, со старика, заговорился – у вас служба, и мое дело тоже ответственное, а я еще порядок не до конца навел. Поторопиться надо бы.
Старичок отправился усердно посыпать дорожки, а военные еще постояли какое-то время у памятника и направились к церкви искать священника, которому можно было бы на месте заказать панихиду «по убиенным воинам, за Веру, Царя и Отечество и за друга своя на поле брани живот свой положившим». Тут только, в конце ухоженной аллеи, полковой командир с ординарцем заметили скопище народу, окружившего, вернее сказать, буквально облепившего обложенный венками и корзинами свежих цветов памятник, изображавший молодую балерину, в порыве танца приподнявшуюся на пуанты и готовую оторваться от земли, но ее изящная головка была опущена на сложенные крестообразно, застывшие на груди в элегической печали руки. Подобная поза одновременно напоминала о трагедии умирания и о христианском смирении перед свершившейся Волей Творца. В стоявших кругом безошибочно угадывались те, кого Сам Спаситель назвал «страждущими и обремененными», – нуждающиеся в помощи, те, над кем тяготела какая-либо беда, и казалось, что они – ожившая часть большой пластической композиции, символического памятника свойственной особенно русскому человеку надежде на лучшее. Среди них выделялось несколько больных, приведенных сюда родными, а также калеки и нищие с паперти. Отдельно стояла совершенно отрешенная, погруженная целиком в себя то ли монашка, то ли просто истовая богомолка-странница, закутанная черным платком на старообрядческий лад, которая, беспрерывно бормоча свое правило, била земные поклоны, как перед чудотворной иконой или иной святыней.
Асанов, боясь нарушить хрупкую гармонию, которая чувствовалась и на расстоянии, не стал подходить близко к собравшимся, к могиле, но снова потревожил сторожа, тот как раз спешил туда с огромным букетом благоухающих южных роз:
– Постой-ка! Что же – и это виденье, этот «гений чистой красоты» – тоже дар того самого благотворителя?
– Нет, ваше высокоблагородие, вернее сказать, не совсем так. Пожертвовал он только те пятнадцать статуй, ну, что я вам уже показывал, а здесь история отдельная. Эта, видать, ему особенно дорогая была – он ее на продажу выставил, а Дирекция Императорских театров сочла своим долгом, купила. Говорят, щедро заплатили, так ведь и есть за что. Произведенье-то, так сказать, совсем не простое, а весьма примечательное! Тут чудо – не чудо, а не иначе Промысл, чего земным умом не осилить – и наука вроде, и материя высшая, так сказать, – старик многозначительно посмотрел на небо. – Вообще-то, господа офицеры, здесь балерина похоронена. Да что я объясняю – и так видать! Ну, скажу я вам, знаменитая балерина была, самого Мариинского театра, как говорится, первая ножка, русский балет за рубежами представляла в наилучшем виде-с! – но уж третий год, как умерла. Вот ведь тоже – молодая, жить бы еще да танцевать, тонкие вкусы тешить, ан Господу-то виднее – прибрал на небеса. Известно: лучшие из нас Ему там нужны, а я, к примеру, старый, и пользы от меня с гулькин нос, да, видно, нагрешил много в жизни, за то и копчу Божий свет… Ну-с вот, судари, с тех пор, как ее похоронили, велено мне приносить сюда самые свежие цветы. Прямо из-за границы доставляют – курьерским ли, а может, морем, того не знаю, но каждое утро они уже в кладбищенской конторе: розы, правда, наши – крымские, что ли? – от Эйлерса и будто только с куста, а мимозы и фиалки, да еще каллы – воронки такие желтоватые, знаете, небось? – это мне доподлинно известно – из самой Франции. Бывают и орхидеи – те вовсе из колоний. Слыхал я, богатый поклонник, кажется, в Америке (в Соединенных Штатах то есть), дорогущую картину продал и средства определил на эти ежедневные букеты к ногам покойницы. Красиво, ничего не скажешь! Но чудо, оно ведь в другом, судари мои. Статуя из какого-то мудреного сплава отлита: погода на нее удивительно действует, особенно наша, петербургская – изменчивая, прямо как на цветок, что ли? То похолодает, то тепло вдруг, солнце из-за тучи, глядишь, покажется, а сплав чувствительный к воздушным переменам, потому балерина вроде как шевелится, положения меняет – голову поднять может или, наоборот, совсем лицо спрячет, руки, бывает, двигаются, а то вдруг возьмет, изогнется вся, будто ей танцевать невтерпеж! Я иногда и думаю: душа на небесах танцует, трепещет, а статуе невидимые какие токи передаются! Верно ли, господин полковник?








