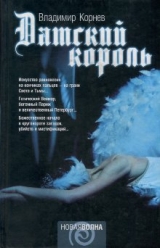
Текст книги "Датский король"
Автор книги: Владимир Корнев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 52 страниц)
XIII
У Звонцова в последнее время так складно пошли дела и улеглись тревоги, что от радости он, типичный маловер-скептик, даже счел своим долгом заглянуть в храм, исполнившись благодарности к неведомой, но предполагаемой Высшей силе. И действительно было за что: от Смолокурова удалось скрыть истинное происхождение «звонцовской» живописи (ушлый заказчик так ничего и не узнал о существовании Арсения Десницына, к тому же он щедро одарил «художника» за то, что тот помог заманить в сети саму недоступную Ксению Светозарову). а с мадам Флейшхауэр, приехавшей в Петербург на какую-то академическую конференцию, Вячеслав Меркурьевич неожиданно легко уладил вопрос о комиссионных, столь болезненный и, казалось бы, неразрешимый. Слухи о том, что новый контракт не состоялся и у Звонцова большие неприятности, до немки дошли почти сразу после приезда, и она. встревоженная и недовольная, решила вызвать «художника» в свой петербургский особняк, чтобы выяснить, как он теперь собирается выплачивать причитающийся ей процент от сделки. Узнав от самого Вячеслава Меркурьевича подробности ограбления, Флейшхауэр разозлилась не на шутку, ее вечная спутница – мерзкая псина Адель – подняла лай и чуть было не покусала Звонцова, но факт присутствия собаки как раз и подсказал находчивому скульптору удобный выход из положения. Уверовавший после разговора в бане в свою гениальность и хорошо запомнивший совет Смолокурова, он тут же предложил меценатке вылепить «замечательный» скульптурный портрет ее четвероногой любимицы. Звонцов рассчитывал, что Флейшхауэр не устоит от соблазна заказать ему целый цикл подобных анималистических скульптур, которые можно было бы выставлять на аукционах. Прямая выгода просчитывалась для обоих, и практичная немка сделала именно такой заказ – звонцовский расчет оправдался! «Теперь-то я смогу отдаться подлинному творчеству! – ликовал скульптор, расплатившийся с множеством мелких кредитов. – Кто говорит, что Звонцов не способен сказать своего веского слова в искусстве? Всем нос утру!» Он явился в Николаевскую церковь, чтобы поставить самую большую свечу именно к тому образу, который написал его безотказный друг и помощник. – сомнения в выборе не было. Не поскупившись, Вячеслав Меркурьевич заказал и благодарственный молебен с акафистом Николаю Чудотворцу перед новой иконой.
Даже Звонцов, сам того не ожидавший, проникся великолепием службы: в душе тоже проснулось что-то светлое из раннего детства, то чувство, которое он обычно определял для себя как «стихийный мистицизм». Его охватило неожиданное давным-давно забытое желание. «А что, если сейчас причаститься? Лет двадцать не причащался! Да ведь говеть положено… Ничего – на исповеди не скажу, откуда тогда поп узнает? Верю я или нет – мое личное дело, а от Причастия не может быть вреда!»
Исповедуясь, Звонцов буквально выдавливал из себя общие фразы: каюсь, мол, грешен, и батюшка, видимо посчитав, что из-за одного нерадивого не пристало задерживать других страждущих, отпустил его с миром. Вячеслав Меркурьевич обрадовался, что «поп» не мучил расспросами, и встал в очередь к Причастию. Он надеялся, что этот «мистический ритуал» обеспечит ему удачу в любом деле. Однако на пути к Святой Чаше возникло неожиданное препятствие: впереди стоял юродивый, показавшийся Звонцову настолько отвратительным, что он чуть ли не отскочил в сторону, будто обжегся. Встав за колонной, брезгливый «христианин» подождал, когда отступило чувство тошноты, и решил, что будет вполне достаточно приложиться к чудотворному образу: «Какая разница – причаститься или поцеловать икону – и то и другое должно действовать одинаково».
Едва ли не впервые в жизни скульптор, силясь изобразить на лице смирение и кротость, умолял Божьего Угодника: «Святой Никола, если ты имеешь такую силу помощи, не откажи и мне: сделай так, чтобы мои работы всегда вызывали у людей удивление, восхищение и почитание!»
Уже на улице, снова став собой прежним, Вячеслав Меркурьевич поражался: «Мог ли я думать, что буду лобызать Сенькину работу, когда приметил его на заводских задворках! Кто б мои скульптуры облобызал… Нет – положительно все это бред и наваждение!»
Тут из-за спины послышался чей-то старческий голос. Оказалось, одна прихожанка наставляла другую, помоложе:
– Как же это, сомневаться? Чудеса Господни кругом, Марфуша. Ты вот Жировицкую икону почитаешь, да не знаешь, видать, того, что однажды сгорел храм, где она хранилась, дотла сгорел, а образ остался невредим – детишки его на руки с пепелища приняли. Потому, голубушка, что образ-то был чудотворный.
«Вот так и возникают сказки в народе, – отметил про себя Звонцов. – Хотя, конечно, прелюбопытно, если такое было в действительности». Очередная дерзкая затея на ходу родилась в звонцовском воображении: можно лепить статуи и статуэтки Девы Марии и святых – у католиков они наверняка будут пользоваться большим спросом.
XIV
Наотрез отказавшийся от гонорара за портрет, осветивший его душу, Арсений в то же время остался без копейки денег. Он был близок к отчаянию, но вспомнил, что как раз сегодня Звонцов обещал вернуть долг – больше трехсот рублей, который брал, когда разграбили его мастерскую. «Все-таки давать в долг иногда полезно», – подумал Сеня и помчался на Лермонтовский, надеясь на природное благородство Вячеслава.
Скульптор в это время уже в полную силу работал над прихотливым заказом своей немецкой патронессы. Десницыну было очень любопытно посмотреть, как Вячеслав Меркурьевич воплотил эту идею, – творческий процесс, по расчетам художника, близился к концу. Звонцов выглядел довольно странно: с одной стороны, он был явно рад приходу друга, но в то же время взволнован и, как показалось Сене, даже чем-то напуган. «Неужели опять в запое?» – предположил Арсений и подумал, что, может, и приходить-то не стоило. Ему уже надоело бороться с пагубными страстями богемного дворянчика.
– Понимаешь, Сеня, – растерянно признался Звонцов. – Глупейшая история – сижу здесь, в прихожей, уже часа полтора, а в мастерскую зайти боюсь. Ты, наверное, решишь, что я сумасшедший… Если бы ты мне не был другом, я и не рассказал бы, что произошло… Да мне все равно никто не поверит, а тебе я просто покажу…
– Да что случилось-то? – недоумевал художник.
– Понимаешь, она оживать стала!
– Кто?!
– Скульптура! Представь себе, я леплю, увлекся, и вдруг голова этой твари начинает оживать! Здоровенная голова, раза в три больше настоящей… Я ведь здесь совсем один, а у нее вдруг глаза засветились, задышала – ужас! Мне даже кажется, она и сейчас рычит…
Лицо у Звонцова было бледное как полотно. Он поспешил предупредить подозрения Арсения:
– С тех пор, как взялся за эту работу, капли себе не позволил – все спешил закончить.
Похоже, Звонцов не шутил – из мастерской доносились какие-то утробные звуки.
– Слышишь? – Его буквально затрясло. – Я туда не пойду. Иди посмотри сам, ради Бога! Только ты накрой потом чем-нибудь эту… животину. Пожалуйста!
Теперь художник сам был озадачен – что же там могло произойти? Он перекрестился («От греха подальше…») и, осторожно приоткрыв дверь, проскользнул в мастерскую. Еще никогда в жизни не видел он столь выразительного «портрета». Образ собаки – скульптурное, на первый взгляд, уподобление натуре, по сути, нельзя было отнести к какой-либо формальной категории изобразительного искусства, и степень мастерства автора тоже выходила за рамки традиционной шкалы оценок. Ясно было одно – Арсений увидел некое мистическое воплощение звериной природы, вызывающее страх в самой глубине существа зрителя. Десницын видел его всего какую-нибудь минуту, но этого хватило для того, чтобы гипнотически воздействовать на сознание, заворожить, запугать человека и почти парализовать его волю. Арсений почувствовал, что и он вот-вот сойдет с ума: «Проклятая тварь – кажется. она действительно не глиняная, а…» Призвав на помощь иссякающее самообладание, художник выскочил в переднюю. Страшное наваждение отпустило, но источник его оставался в мастерской, и было ясно, что нужно избавиться от мерзкого оборотня.
– Святой воды у тебя, конечно, нет? – риторически вопросил Арсений точно прикованного к стулу скульптора. Тот обреченно повел головой из стороны в сторону.
– Очнись! Нужно ее немедленно уничтожить – пойдем вместе! – не отступал Арсений. Решительный призыв друга возымел действие.
Со словами «Ага! Значит, ты тоже увидел!» Звонцов вскочил как ошпаренный.
Художник, недолго думая, схватил массивный шандал на пять свечей из остатков звонцовского наследства. Следуя примеру, Вячеслав Меркурьевич взял со столика для визиток тяжелое бронзовое пресс-папье. В мастерскую вошли на цыпочках, будто скульптура могла что-то услышать, но впечатление было как раз такое, что глиняная собака почуяла неладное и на глазах у них с ней стало происходить невероятное. Звонцов готов был поклясться, что видит, как немецкая псина всем корпусом подалась вперед, устрашающе рыча, как разверзается пасть и с клыков падает слюна, при этом зверюга стала вдруг расти в размерах. Первым среагировал Арсений. Изловчившись, он со всего маху обрушил шандал на голову ожившей скульптуры. Сила удара была столь велика, что подсвечник полностью увяз в глине и наружу осталось торчать только фигурное основание. Друзья одновременно почувствовали брезгливость, после чего наступило ни с чем не сравнимое облегчение.
– Ты знаешь, мне сейчас действительно показалась, что собака живая. А ночью мне приснилось, что собаку Флейшхауэр убили подсвечником.
– А я думал, у меня это по пьяни. А чего ты ко мне пришел?
– У меня совсем не осталось денег. К тому же несколько дней назад у меня пропал брат Иван. И мне приснилось, будто ты его убил и тебя посадили в тюрьму. Ты мне не веришь, я вижу? И вправду, бред какой-то. А мне еще приснилось вот что: в Бобруйске через неделю Господь обрушит крышу на головы тридцати четырем своим приверженцам, поющим воскресный канон; за океаном, в угольных копях Колорадо, произойдет настоящее побоище шахтеров с полицейскими, а у самого мыса Доброй Надежды 13 декабря столкнется с айсбергом и затонет теплоход-гигант «Голем». А в Амстердаме с большим успехом пройдет выставка твоих московских коллег из «Бубнового валета». Никогда такие странные вещи мне не снились. Так ты моего брата не видел?
– Слушай, тебе вещие сны снятся. Как раз заходил сюда утром! Жив еще, курилка, хотя и пьян был мертвецки, зато с какой-то мамзелью. Еще на выпивку попросил. Не поверишь – пятьдесят целковых ему понадобилось на водку! Наверное, целую казенную лавку решил купить…
«Сочиняет или правда?» – задумался Арсений.
– Да ты не беспокойся, я ведь не жадный – дал ему, что просил. Только, выходит, тебе я остался должен на пятьдесят рублей меньше – бухгалтерия дело строгое, точность любит.
XV
– Скажи на милость, отец Феогност, а отчего это так неожиданно к нам едет сам Владыка? – простодушный отец Антипа периодически обращался к настоятелю на «ты», и тот уже даже привык к подобной вольности сослуживца.
– Официальные причины ты знаешь – в целях соборного единения, да заодно с инспекцией – проверить соответствие церковного обихода всем каноническим правилам. Но главное, он хотел лицезреть…
– Икону?
– Произволением Божием о ней уже и в консистории известно, хотя рапорт в Святейший Синод я пока не представлял. Повезло тебе, такая честь…
– Если бы я это понял в то утро. Так уж случайно вышло; вот ежели бы вы, отец, были на ранней литургии, а я на поздней, то вам бы ее в белы руки и вручили. Да какая разница, вас приход тоже очень любит.
Я недели две замечаю, когда на Проскомидии частички вынимаю: что ни записка, так первое имя – ваше. Поминают чаще, чем Высокопреосвященнейшего.
– О здравии, надеюсь?
– Не шути так, отец протоиерей!
– Да, отче Антипа, не по заслугам мне мой чин, а по их молитвам, – вздохнул пожалованный чином протоиерея настоятель единоверческой церкви Святителя Николая Феогност Рассветов.
– Как говорится, были вы иереем, то есть «за евреев», а теперь стали протоиереем…
– То есть «против евреев», – засмеялся отец Феогност, – «хоть смеяться, так оно старикам уж и грешно» [174]174
П. П. Ершов «Конек-Горбунок».
[Закрыть]. А если серьезно, то и прихожан больше и больше, даже в будни во время службы едва через храм протиснуться можно. А каков приход, таков и доход: теперь за неделю столько выходит, что можно Северный придел расписать и золоченые Царские врата туда заказать.
Пока старушки и служители суетились, с усердием готовя храм к завтрашнему приезду правящего архиерея, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, батюшки вдвоем пили чай в трапезной.
– А у меня, ваше преподобие, тут было такое искушение, долго не решался вам рассказать; боюсь приезда Владыки: как-то он теперь на меня, грешного, посмотрит? Ведь вот что приключилось: на следующий день, как нам пожертвовали икону, я сослужал в Лавре экзарху Грузии на поздней Литургии. На Великом Входе мне нести Агнца. Начинаю, благословясь, постепенно, митрополита поименовал, а потом про экзарха: «Господина нашего… Высокопреосвященнейшего Димитрия… архиепископа Карталинского…», а дальше, знаешь, идет такой красивый подъем, и я на одном дыхании должен произнести «и Кахетинского». Тут у меня точно бес какой продолжение титула из головы вышиб! Держу дискос, аж пальцы свело, вспотел в одну секунду. На клиросе, вижу, начинают щелкать по горлу: мол, вино кахетинское, и архиепископ соответственно. А я брякаю во весь рык: «и Шампанского», и ухожу в алтарь.
Отец Феогност, до которого эти слухи уже дошли, соболезнующее произнес:
– Что, даже забыл – «да помянет Господь Бог…»?
– Забыл, батюшка! Стыдно сказать! Хорошо, кто-то за мной закончил как полагается.
– Не расстраивайся, отец Антипа. Владыка, даст Бог, ради твоего голоса простит. Наверное, ты своей октавой возгордился, вот тебя Господь так и посрамил – вразумил. И то. смешно сказать, – такой богатырь, а так смущаешься.
– Я в алтаре глаз поднять не мог. Ничего не вижу, не слышу и молиться не могу, только умом «Господи, помилуй!» вопию.
– Завтра уж постарайся, соберись с духом, нельзя будет нам опростоволоситься. А мне ведь тот воскресный день тоже запомнился. Я уже успел переоблачиться; подходит ко мне человек некий, одет богато, пенсне золотое, перстни. Но, вижу, не из нашей паствы – слишком уж к руке моей припал, чуть не на колени броситься норовит! Говорю ему: «Что же вы, батюшка, в грязь-то передо мной кидаетесь – я не епископ». А был тот господин, отец Антипа, сам директор Императорского Мариинского балета, действительный статский советник, – за постановку спектаклей отвечает, организует гастроли и лично представляет самому Государю! Мне отрекомендовался со всеми чинами и регалиями: «Анна» у него «за заслуги перед отечественной сценой».
– И что же ему понадобилось? Артист – в нашем храме редкий гость.
– Вот и я удивился. Оказалось, что в его театре несчастье стряслось. За неделю до очередной премьеры один мастеровой, заблудший раб Божий Тимофей, кажется, ночью прямо на сцене удавился, среди разобранных декораций.
– Место, прямо сказать, искусительное! И что директор? Неужели висельника отпеть просил, отец протоиерей?
– Да ты погоди, не перебивай! Если бы меня о таком непотребстве попросил сам Государь, – батюшка поспешно перекрестился, – я и то бы не согласился, не взял бы грех на душу. Просто понадобилось переосвятить театр. Сам знаешь, как положено соборными правилами. Мариинский театр в этом смысле место несчастливое: архитектор, строитель его (к слову, неправославный), перед концом постройки упал с лесов. Насмерть, конечно, – с такой-то высоты… Теперь еще самоубийство. Вдобавок деликатное обстоятельство: на премьере должна была присутствовать Августейшая чета, и освящение, конечно, требовалось неотлагательно. Меня сомнение взяло: почему выбор пал на пастыря единоверческой церкви, а не обычной синодальной? Театральное руководство решило просить исполнить требу именно меня (потом обязательно объяснит мне почему, а теперь не до этого – дескать, нужно срочно приготовиться и завтра все управить). Положился я на Господа: дело Богоугодное, Императорский театр все-таки, не канкан ведь! На следующий день подали к церкви лимузин. Возле театра нас уже целая процессия ожидает, во главе сам директор. Только ступил я на мостовую, этот грузный господин опустился на одно колено, как в рыцарских романах, и, не дожидаясь благословения, впивается мне в руку, а потом и вовсе край подрясника облобызал. Вся театральная братия, начиная с дирекции, фрачников разных, фасонистых дам, и кончая мастеровыми, стоит по сторонам ковровой дорожки, по которой, выходит, мы должны торжественно проследовать в театр. Иконой не встречали вообще: я заметил, что среди присутствующих и голову-то мало кто преклонил, не то чтобы перекреститься. Даже шепоток послышался недовольный, шуршание какое-то, будто крыса прошмыгнула, и совсем мне неуютно стало, отец Антипа. Но сам директор так и бегает около нас, так и лебезит, к тому же распоряжения успевает раздавать. Пригласил нас проследовать в директорскую приемную, а мы-то хотели было в вестибюле помолиться, а потом уже окроплять здание. В приемной, слава Богу, много икон оказалось (теперь думаю, со всего театра собрали, потому что в тот день больше ни одной видел, разве что в его кабинете). Начали мы с псаломщиком и пономарем молебен, думали, артисты нас поддержат, подпоют, где хору положено, а те только «Господи, помилуй» неуверенно подтягивают, и слышится мне все тот же противный шепоток. Настал черед театр освящать. Впервые пришлось такую громадину-то. На этот раз директор ко мне в коридоре подходит и вполголоса извиняется: «Простите, святой отец! В разгаре следствие, каждый день в театре множество полицейских чинов. Сегодня выходной, их нет. Напряжение, знаете ли: люди напуганы, подавлены – такое несчастье! К тому же у нас ведь многие неправославные. Такая обстановка, святой отец». Мне его обращение так слух и резануло, я же не пастор или ксендз. «Понимаю вас, ваше превосходительство, но попрошу меня больше не смущать – я никакой не святой, называйте меня „батюшка“ или „отец Феогност“». Вижу, директор побагровел – нецерковный человек, но говорит: «Да, да, конечно, батюшка».
После этого стали окроплять помещения. Ходили-ходили по коридорам, по комнатам, ярус за ярусом прошли. За нами процессия движется, но бестолково – вместо крестного хода, прости Господи, тягомотина какая-то выходит. Так часа два прошло, у нас уже голоса стали садиться. Наконец поднялись на сцену, как раз туда, где Тимофей этот повесился. Здесь, думаю, нужно усерднее всего кропить и молиться, труппа должна бы поддержать. Так нет же, мы уже одним Духом Святым «Спаси, Господи, люди Твоя» выводили, а «люди» гнусавят под нос что-то невразумительное, некоторые демонстративно молчат. Вдруг директор подтянул старательно и громко, но фальшиво: «Побе-еды Благочестивейшему Государю Императору Николаю Александровичу да-а-руя…» («на сопротивныя»-то пропустил!). За ним еще кто-то подхватил. В общем, закончили мы это странное освящение. Как гора с плеч упала, веришь ли? А директор уже ко мне с любезнейшей улыбкой:-«Отец протоиерей, прошу вас к себе в кабинет, вы там еще не были». Я, конечно, не отказываю, псаломщик с пономарем за мной, а директор резко так им говорит: «Спасибо, судари мои. У меня кропить необязательно, и так намолено. Ступайте в буфет, там банкет сейчас будет, покушаете, отдохнете. У нас с батюшкой конфиденциальное дело». У меня «в зобу дыханье сперло» от такой бесцеремонности, но иду за ним. будто на поводке, только лестовку руками перебираю. И не заметил, как вошли в кабинет. Мебель кругом дорогая, вычурная. В углу иконы: в центре-то Спас Вседержитель и Божия Матерь (только не понял, что за образ Пречистой), а вот по сторонам картины на духовные сюжеты, все больше ветхозаветные, на западный манер; на остальных иконах, кажется, Иоанн Креститель, апостол Петр с ключами, еще три избранных пророка – по слабости зрения не мог разобрать. Спрашиваю, что за святые; тот отвечает: «Это, батюшка, праотец Авраам, Давид Псалмопевец и мудрый царь Соломон».
Почему именно такой подбор святых, я допытываться не стал, а хозяин кабинета показывает на большой парадный портрет: «Узнаете, отец Феоктист?» (я его поправил, ну да ладно – старинное у меня имя, монашеское, в Петербурге редко встретишь). Я узнал, конечно, Государя Павла Петровича.
«Император благоволил единоверчеству, приглашал даже на службу в Дворцовый собор, – говорит директор. – Я являюсь членом Братства ревнителей памяти Благочестивейшего Государя Императора Павла Первого. Мы очень интересуемся всем, что связано с его персоной, и даже собираем материалы для канонизации Царя-мученика. Вы же, наверное, наслышаны о чудесах, происходящих у его гробницы? Хотим со временем подать эти свидетельства к рассмотрению в Святейший Синод. Мы почитаем Императора Павла как ревнителя веры и, если позволите так выразиться, последнего из великих рыцарей христианства. Вот почему, когда понадобилось переосвятить театр, я выбрал именно единоверческого священника, то есть вас!»
Понимаешь, отец Антипа, как мне лестно стало – не за себя, за всю нашу церковь, чтущую древний обряд! Конечно, стал я благодарить господина директора, сказал, что он очень мудро поступил, обратившись в наш Николаевский храм. Он тоже умилился, заговорил о том же – как он доволен состоявшимся освящением, и теперь, дескать, можно надеяться, что Господь не попустит в театре таких несчастий, и я его слушаю краем уха, а сам смотрю уже на другой портрет, фотографический, что рядом с императорским висит. Какой-то холеный тип, важная «персона». Тут его сиятельство мне его представил: «А это сам идейный вдохновитель и глава нашего Братства – князь Дольской!» Всмотрелся я повнимательней, а у этого «вдохновителя» большой белый мальтийский крест на шее висит на золотой цепи. Глава театра опять взгляд мой поймал: «Разве вы не знали, что сам Император Павел был Великим магистром, гроссмейстером Мальтийского ордена рыцарей-иоаннитов?» [175]175
Мальтийский орден, иное название – Орден Госпитальеров, рыцарей святого Иоанна Иерусалимского.
[Закрыть]Ах вот, думаю, почему ты его «последним» из великих рыцарей назвал! Вот скажи мне, батюшка, бывают православные рыцари? Я так уверен, что не бывает! Так и сказал тогда этому господину из театра, а он не смутился ничуть. Разве, говорит, может Российский Монарх быть неправославным? А магистром был – факт непреложный. И добавляет: «Вы не смущайтесь, что у нашего высокочтимого председателя на шее Мальтийский крест. Это даже не из-за почитания Павла I и принадлежности к братству, просто он питомец Пажеского корпуса [176]176
Выпускной знак Пажеского корпуса – крупный Мальтийский крест белой эмали. В этом самом привилегированном военном учебном заведении империи (ныне помещение Суворовского училища) до сих пор находится Католическая Мальтийская Капелла Святого Иоанна Иерусалимского, освященная в царствование императора Павла.
[Закрыть]и очень гордится этим, отсюда и крест. Как память о юных годах». Убедил он меня, да не совсем, и тогда я его открыто вопрошаю: «А братство это ваше не масонское ли?!» Тут он оскорбился даже: «Да как вы могли подумать, батюшка? Братство наше истинно христианское! А масонские ложи, как известно, сам Государь Павел Петрович за несколько лет до мученической кончины запретил специальным указом. Можем ли мы, ревнители его памяти, эту память оскорблять?» Ну, думаю, покорил – ничего не скажешь! Пора бы уже в буфет – посмотреть, как там причетники мои, не слишком ли зельем увлеклись.
Директор просит напоследок: «Знаете, батюшка, у нас ведь к вам еще одна огромная просьба от самого князя Дольского. Ему домовую церковь необходимо оформить, и как можно быстрее. Может быть, вы пришлете кого-нибудь, кто поможет ее составить в полном соответствии со святоотеческими канонами? Не откажите, отче!» – и на образа перекрестился.
Расчувствовался я («отче» говорит, как единовер!), долго думать не стал, – еще один храм будет в Богоспасаемой столице нашей. Директор мне и визитку дал с адресом господина председателя… – настоятель протянул ее отцу Антипе.
– А банкет, скажу я тебе, был недурной, на соответствующем учреждению уровне, и псаломщик с пономарем норму выдержали, а я – ты знаешь – больше рюмочки-другой кагора вовсе ничего не приемлю.
Отец Антипа внимательно изучил визитную карточку:
– Затейливо! Только вот шрифт готический, а, отец Феогност?
– Да что, право, на все внимание обращать. Выйди вон хотя бы на Владимирский – сплошные вывески на французском, да я и сам по-французски могу. Ну, пора нам идти облачаться ко всенощной.
Отец Антипа настойчиво произнес:
– А знак Пажеского корпуса на цепи не носят!
Но отец настоятель уже читал молитвы после трапезы, видно, не расслышав его последних слов.








