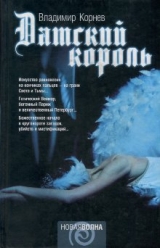
Текст книги "Датский король"
Автор книги: Владимир Корнев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 52 страниц)
V
Вечером Звонцов плакался Арсению:
– Что делать? Все пропало! Оставалось только дорисовать голову, а тут эта история с кляксами – и все заново! Через несколько дней надо сдавать очередной экзерсис по-латыни: мне нужно скопировать на огромном планшете размером 75 на 55 дюймов один средневековый манускрипт схоластического содержания. Профессор, как всякий немец, считает, что образованный человек просто обязан уметь чисто и красиво писать, и попробуй с этим поспорить! Мне потребуется очень много времени. Да еще и предэкзаменационная письменная работа и устный экзамен по Гёте. Как пить Дать, не сдам экзамены!
– Я тебе помогу, – решительно сказал Арсений.
– Да как тут поможешь? Мастерские только днем открыты. Если ты придешь помогать мне делать курсовую работу по-латыни, обязательно кто-нибудь снаушничает. Разве ты не знаешь, как здесь это принято?
Арсений попросил:
– Принеси хотя бы срезанный рисунок. Я сделаю копию в мастерской внизу, а ты дорисуешь нос и заново обтянешь планшет бумагой.
– Нет, я лучше буду рисовать с натуры. Да и ракурс он как нарочно поменял: поставил рисовать в три четверти, что и так самое сложное в портрете. Вот если бы ты мне помог написать предэкзаменационную работу по Гёте, я был бы рад.
– Ну как? Много еще осталось? – поинтересовался Йенц, поймав Звонцова в длинном университетском коридоре.
– Да почти ничего, только этот наш чудак с «Фаустом». боюсь провалить. ТЫ же знаешь, какие у нас отношения с этим… профессором. Страшно представить, что будет на экзамене.
– Вот, вот! «Почти ничего»! Я уже три раза сдавал. В первый раз, естественно, вызубрил профессорский комментарий к «Фаусту» – он ведь всех засыпает на Гёте, но что-то ему не понравилось в моем ответе, – Йенц сделал большие глаза. – Представляешь! Мефистофелю не понравился собственный комментарий! Перед тем как сдавать второй раз. я проштудировал канонические толкования к веймарскому изданию «Goethes Werke» [18]18
«Goethes Werke» – сочинения Гёте, академическое издание конца XIX – начала XX в., инициированное «Обществом Гёте».
[Закрыть]. За одну ночь изучил в подробностях почти пятьсот страниц научного текста, конспект составил, перечитал «Диалоги» Эккермана [19]19
Эккерман – секретарь Гёте, автор «Диалогов с Гёте».
[Закрыть]– опять не угодил! Наш злой демон заявил, что у Эккермана тенденциозный подход и к тому же его трактовка «Фауста» устарела. Тогда я отыскал новейшие исследования по Гёте и решил, что теперь-то уж сдам наверняка, а вышло как у самого доктора Фауста: «Однако я при этом всем был и остался дураком». Мефистофель мне прямо на это намекнул. – Студент попытался спародировать профессорский голос: – «Сути не видите, юноша! Сути! С источником авторского замысла ознакомиться не удосужились. Почитайте Иоганна Шписса [20]20
И. Шписс – автор первой «книги для народа» о Фаусте (Франкфурт, 1587).
[Закрыть], изучите книгу достопочтенного Генриха Видмана [21]21
Г. Видман – автор книги о Фаусте (1599). которая легла в основу многих лубочных изданий о средневековом алхимике.
[Закрыть]. Не мешало бы перечитать драму Марло [22]22
Кристофер Марло (1564–1593) – английский драматург, автор драмы «Трагическая история доктора Фауста» ( 1588. изд. 1604).
[Закрыть]о „Фаусте“, наконец, Лессинга [23]23
Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781) – немецкий и еврейский мыслитель, писатель, критик, деятель эпохи Просвещения.
[Закрыть]и поэтов „Sturm und Drang“ [24]24
«Sturm und Drang» – «Буря и натиск», литературно-философское движение в германской культуре XVIII в.
[Закрыть]. А мой комментарий вы, как я вижу, не открывали. Стыдно, молодой человек!» Und so weiter [25]25
И так далее (нем.).
[Закрыть].
Звонцов не смог удержаться от смеха:
– Похоже! Так и представил себе старого зануду!
– Тебе смешно, – обиженно ворчал Йенц, – а я не знаю что и делать – раньше всегда сдавал лучше всех и с первого раза!
– Да я уже и сам запутался, как этому безумцу сдавать – мне-то он точно готовит аутодафе, – утешал друга Звонцов, но немец не находил себе места.
– Может быть, он действительно выжил из ума? Теперь я так думаю: лучше совсем не упоминать никаких критиков, и на профессорский комментарий особенно ссылаться тоже не стоит, раз он не узнает собственные идеи… Но что же тогда остается?
– А почему ты не изложил ему свои мысли? Что ты сам думаешь о «Фаусте»?
Йенц озадаченно произнес:
– Конечно, у меня есть некоторые мысли, но… мое мнение совпадает с критикой… Тебе не кажется, что к суждениям таких признанных авторитетов принципиально нечего добавить? Как можно спорить с авторитетами?!
– Ты прав, пожалуй, – небрежно бросил Звонцов и с каким-то разочарованием посмотрел на однокашника. – Сочувствую, но, увы! Посоветовать больше нечего. Я думаю, что мне достанется больше.
Придя домой, он сказал Арсению, что все пропало, что даже немцы не могут сдать, а как быть ему? Арсений обещал его поднатаскать. «Стипендиат» очень уставал и уже не мог ничего запомнить.
Сутки напролет, день и ночь, Арсений готовил Звонцова к экзамену. Они писали шпаргалки, в надежде, что слепой Ауэрбах не заметит их и можно будет списать и прочитать. Писали прямо на полях и между строк профессорской книги.
Звонцов беспокоился, что еще нужно закончить латинское чистописание и рисунок, испорченный Ауэрбахом.
– И ведь черт знает что: на мой же пластилин кляксы посадил, тот, который мы использовали в галерее, я оставил его в мастерской! А теперь минимум на четыре часа работы, да еще необходимо оформить итоговую выставку моей практики, – возмущался скульптор. Друг и помощник, который прекрасно помнил позорное снятие слепков, выразительно промолчал.
VI
Утро выдалось дождливое. Потягиваясь, Арсений стал рассказывать Звонцову:
– Представляешь, опять приснился один мой детский сон, я его часто вижу. Мне было двенадцать или тринадцать лет, когда он приснился впервые. Как будто иду по какому-то незнакомому средневековому городу, выхожу на удивительный перекресток: одна улица, та, по которой я шел, сбегает вниз, другая взбирается вверх, а в конце каждой по готической башне со шпилями. Башня внизу сравнялась с крышами домов, ее почти не видно, а шпиль верхней, наоборот, плывет надо всем городом. На углу спуска – невиданный дом. В начале он невысокий, в два этажа, зато потом, из-за наклона улицы, как бы превращается в четырехэтажный. В первый раз мне это показалось таким странным, необъяснимым. Задрал я голову, оглядываюсь и вижу золотую вывеску: красавец-олень, весь вперед устремлен, и рога, большие, у головы скрученные, а на концах становятся прямыми, почти как стрелы. Вокруг оленя венок, тоже литой, или кованый: дубовые ветви с желудями переплетаются с лавровыми и хвойными. Герб этот так и сверкает в рассветных лучах! И вот я, восторженный, в деревянных башмаках скачу вниз, с камня на камень, башмаки стучат по мостовой, я мурлыкаю что-то веселое себе под нос и, кажется, сейчас взлечу вместе с оленем, крышами, шпилем… Никак не могу запомнить мелодию, которую напеваю, потому что всегда просыпаюсь в этот момент. Тогда, в детстве, я спросонья сразу побежал к письменному столу и, как мог, сделал набросок. И сейчас вижу: раннее утро, солнечные зайчики в спальне, карандаш у меня в руках, и я, забыв про все на свете, переношу на бумагу ночную грезу. Может, я и стал художником из-за этого сна? Набросок, кстати, до сих пор хранится у моей матушки. Она бережно сохраняет все, что связано с моим детством, даже пустяки всякие, – бедная сентиментальная мама… Но я отвлекся. Потом уже я «заболел» Средневековьем, почему-то Данией (наверное, меня «перекормили» сказками Андерсена, и это осталось в душе навсегда). Когда умер отец, матушка отдала нас с братом в казенный приют, мой братец Иван стал у приютских коноводом, все его побаивались и слушали, видно, он-то и раскрыл им мои детские секреты. Когда я проходил мимо толпы сверстников, они расступались, вставали по стойке «смирно», кричали: «Да здравствует Его Величество Король Дании! Дорогу Датскому Королю!» Они, как я теперь понимаю, смеялись, а я и не думал обижаться – даже лестным казалось такое обращение. Однажды мне устроили торжественную коронацию в Выборге, на фоне старинного замка – я искренне радовался, а они подшучивали. Но я уже вжился в образ и даже придумал себе подпись-монограмму «КД» с короной наверху. Потом стал старше, корону, конечно, убрал. но подпись сохранил – для меня это как далекий оклик из детства… Да, так вот сегодня я опять видел тот давний сон о средневековом городе!
– Ну и для чего ты везде ставил свое «КД» в правом нижнем углу? Боялся, наверное, чтобы картинки вверх ногами не вешали? – съязвил Звонцов, зевая. Черная зависть охватила его, выплеснулась наружу возмущенным недоумением. – Он, видите ли, монограмму придумал спросонья, мать ее! Король Датский выискался! Надо ж было такое сочинить. Мог бы обойтись и без подписи… Теперь, чтобы продать твои самовары, мне приходится собственные скульптуры подписывать дурацким псевдонимом и всем рассказывать, что «КД» – курский дворянин. А попробуй я назваться «Королем Датским», уже «царствовал» бы у «Николы Чудотворца» на Пряжке вместе с «Наполеонами» и «Александрами Македонскими»!
Когда стипендиат немного успокоился, спросил озабоченно:
– Кстати, ты не знаешь, который час?
В это утро за стеной никто не кричал, и колокольчик к завтраку почему-то не звонил. На столе в пустой столовой скульптора дожидались холодный кофе и сморщенная, уже не аппетитная сосиска с розанчиком. Флейшхауэр оставила незадачливым русским питомцам записку, в которой с подлинно немецкой педантичной вежливостью приносила извинения за свое отсутствие и сообщала, что она в сопровождении любимого племянника отправилась в горы на некую ночную монастырскую мессу. И без того разозленный Звонцов, узнав об этом, выругался: «Черт знает что! Ну ладно тетка – она, кажется, искренняя лютеранка и вообще привержена всему мистическому, но племянничка-то куда понесло? Тоже мне богомолец-пилигрим! Перепробовал всех тюрингских кумушек, а теперь корчит из себя святошу… Странно все это: неведомая горная обитель, загадочная месса. Разве по ночам служат мессы? Прямо как в готическом романе – тайна, покрытая мраком!»
Было уже два часа дня! Стипендиата охватил ужас: сессия оказывалась на грани провала, а это означало приближение краха больших надежд и крушение всех честолюбивых планов.
«Экзамен у Ауэрбаха в пять – я не успеваю „подчистить“ латынь… Господи, да еще ведь надо улаживать вопрос с „курносым старцем“! В общем, пиши пропало». Звонцов уже вообразил, как с позором будет покидать Германию, но в следующий момент его осенило, как всегда пришла на помощь природная изобретательность:
– Слушай, Сеня, кажется, наступил «casus improvisus» [26]26
Непредвиденный случай (лат.).
[Закрыть]– теперь мне без тебя никак не выкрутиться! Придется же переделывать рисунок этот несчастный, портрет старика, а еще ведь нужно успеть приготовить копии манускрипта, сообразить, как их выигрышнее преподнести, выставить. Ты должен сегодня сдать экзамен вместо меня. Иначе никакая фрау нас здесь содержать не станет. Наденешь мою «фамильную» тройку. Я уверен: Мефистофель так плохо видит и слышит, что не сможет определить, кто есть кто. Достаточно только переодеться, и никакой подмены не заподозрит!
Художник понял, что отказываться нельзя: только он может спасти Звонцова и свое будущее.
А Звонцов продолжал готовить Арсения к ответственному походу:
– Пивное, не приближайся к профессору очень близко. Приезжай к концу экзамена, когда студенты разойдутся.
– К началу я и так уже не успею: омнибус уходит через полчаса, – заметил Арсений, поспешно облачаясь в пресловутый палевый костюм.
Костюм был узковат в плечах. Арсений чувствовал себя, мягко говоря, скованно. Звонцов ходил вокруг него на цыпочках, сдувая пылинки с дедовского наследства:
– Ты выдохни. Чувствуешь, сразу стало свободно? Теперь застегни все пуговицы, чтобы не было видно манишки. Говори громко и уверенно. Ничего не бойся, все получится!
VII
Всю дорогу до университета Арсений твердил «Отче наш».
Он явился в тот момент, когда большинство студентов уже сдали экзамен. Все получили «посредственно», но ушли довольные тем, что тяжкое испытание позади: Мефистофель сегодня был настроен благодушно, никого не «завалил».
Устроившись в просторном зале, Арсений положил Гёте перед собой, а сам продолжал читать молитву В коридоре послышался звук стремительно приближающихся шагов (коридор был длинный и гулкий). Какое-то шестое чувство подсказало Арсению, что это профессор возвращается проверить, нет ли кого еще из студентов, ведь время приема не истекло, а в отсутствии пунктуальности Ауэрбаха трудно было обвинить.
Тогда Десницыну почему-то захотелось прочитать выученное во сне «Pater noster», и он мысленно стал проговаривать славянообразный латинский текст. Дверь открылась бесшумно, старик-профессор решил, что его появление студентом не замечено.
– Вы молитесь? «Pater noster»?! Весьма похвально! Простите, что я вошел в столь интимный момент.
Арсений вскочил со своего места и слегка поклонился. Он поднял голову, и тут же захотелось протереть глаза, как после того сна: лицо пожилого батюшки, отпевавшего славное русское воинство, казалось, нисколько не изменилось, но теперь это была физиономия профессора! «Вот что значит постоянно недосыпать!» От волнения Арсений набрал полную грудь воздуха, и тут верхняя пуговица на сюртуке, не выдержав напора, предательски отскочила и покатилась под кафедру. Бедный художник мысленно вспомнил того, о ком был приучен не поминать вслух ни при каких обстоятельствах. Он чуть было не нырнул под стол, готовый ползать по полу в поисках злосчастной звонцовской пуговицы, но благоразумие возобладало над желанием найти своевольный кусочек золоченой меди.
Ауэрбах же, вероятно, ничего не заметил и невозмутимо произнес:
– Рад вас видеть, господин Звонцов! Ну-с, приступим к делу.
«Странно! Он, оказывается, знает по-русски, и тон доброжелательный. Куда подевалось неизменное „господин студиозус“, которым он так допек Звонцова?! – размышлял Арсений, переминаясь с ноги на ногу. – Наверное, приготовил очередной подвох, но главное – признал за Вячеслава. Спаси и сохрани!»
– Что же вы молчите? – продолжал немец. – Не узнаете родную речь? Давайте начнем, не бойтесь – профессор Ауэрбах не кусается. Я, кстати, был на вашей… Я хотел сказать, видел ваши художественные работы – очень своеобразное восприятие реальности. Вас можно поздравить, скоро откроется выставка? Россия, без преувеличения, может гордиться вами. – Мефистофель улыбался открытой, искренней улыбкой!
– Здравствуйте! – только и мог выговорить Арсений ошарашенно.
– С вашей предэкзаменационной работой я ознакомился и должен сказать одно: похвально, во всех отношениях выдающаяся диссертация! [27]27
В старой высшей школе диссертацией называли не только сочинение на соискание степени, но и просто серьезную научную работу.
[Закрыть]Свежо, просто, талантливо, наконец!
«Да что это с ним? Расскажи Звонцову, ведь не поверит! Уже успел где-то увидеть мои картины! Может, я ослышался?»
А профессор вдохновенно продолжал:
– С какой смелостью вы сравниваете праведного Иова и Фауста! «Оба на пороге смерти были поставлены перед нравственным выбором. Многострадальный Иов, как известно, не предал Господа своего в юдоли земных мук, но так же и Фауст, преодолев искушения посланца дьявола, не возроптал на Творца, а исповедовал высокий Идеал» – так ведь у вас написано? Такую работу следует рекомендовать к печати, а вы даже забыли подписать свой шедевр – излишняя скромность. Подпишите-ка!
Впервые в жизни Арсения цитировали. В изумлении дрожащей рукой он поставил чужую подпись, облившись при этом чернилами. Мефистофель ободряюще кивнул:
– Чернила смоете – пустое! Главное теперь написать рецензию, тогда останется только отнести рукопись в университетскую типографию.
Прищурившись, он посмотрел на русского студента так, словно хотел заглянуть на самое дно его души:
– Скажите, господин Звонцов, в своей работе вы доказали сходство образов Иова и Фауста, а находите ли вы какую-нибудь разницу между ними?
«Ага, начинает каверзничать! Ну ничего». Арсений уже не боялся Ауэрбаха и с готовностью отвечал:
– Безусловно, профессор. Как может не быть разницы между ветхозаветным праведником и средневековым алхимиком? Первый всю жизнь был тверд в вере и знал истинную цену земному благополучию, поэтому, когда начались испытания свыше, он оказался внутренне к ним готов и стойко все претерпел, не переставая благодарить Бога. Фауст же был аскетом по своей воле и пренебрегал радостями жизни ради науки, а не во славу Божию. Когда же он понял ограниченность научного знания, то впал в отчаяние, вот тут-то и был послан ему бес-соблазнитель, и Фауст поддался искушению, желая познать мирские радости. И поэтому Иову легче было спорить с «философией» жены и друзей, нежели Фаусту со всезнающим Дьяволом. Я думаю так.
Мефистофель, сосредоточенно выслушавший Арсения, как бы подводя итог своим размышлениям, постучал костяшками пальцев по столу и развел руками:
– Что ж, что ж! Любопытная точка зрения!
Ауэрбах продолжал экзамен. Он вернулся к «Прологу на небе» и хотел, чтобы студент объяснил, как мог Всевышний фактически заключить сделку с бесом, олицетворяющим силы зла:
– Конечно, это сделка во имя добра, но неужели Саваоф был знаком с трудами Макиавелли и тоже считал, что «il fine giustifica i mezzi»? [28]28
Цель оправдывает средства (um.).
[Закрыть]
Арсений не понимал по-итальянски, но знание латыни и упоминание Макиавелли позволили ему без труда раскрыть смысл цитаты:
– Герр профессор, Господь всемогущ, и Ему не нужно прибегать ни к каким уловкам в отношениях с нечистой силой. Уловки вообще от лукавого – оставим их Мефистофелю. Господь и так повелевает всем миром, и бесы тоже Ему подвластны. Он заранее уверен в конечном торжестве Своего раба Фауста (поэтому и позволяет бесу его искушать), и Гёте тоже был уверен в этом триумфе. Трагедией он лишь проиллюстрировал неизбежную победу Добра над Злом и то, что искушением закаляется подлинная вера. Я готов доказать это выдержками из текста.
Не дожидаясь реакции ученого мужа, Арсений привел несколько цитат на чистом немецком.
– Ваше знание подлинника подкупает, – заметил Мефистофель и тут же поинтересовался, читал ли экзаменуемый что-нибудь из критики, перечислив как раз тех авторов, о ком предупреждал Звонцова Йенц.
– Читал. Но я от них не в восторге. Скучны и консервативны, как все немцы. Не сочтите за бестактность, ваш комментарий мне тоже показался несколько сухим.
Ауэрбах усмехнулся, подивившись смелости юноши, к тому же, наверное, вспомнив, что и сам он не совсем немец.
Арсений продолжал:
– В комментарии мое внимание привлекло дополнение, отрывок другого вашего труда «Гомункулус прошлого и Сверхчеловек будущего». Я, кстати, хотел прочитать его полностью, но этой книги не оказалось в библиотеке.
Удивленный больше прежнего, профессор закивал головой:
– Sic, sic, sic [29]29
Так (лат.).
[Закрыть]. Ну и что же Вы запомнили из этой главы, что усвоили? Будьте добры, поподробнее – утолите стариковское любопытство!
– Вы, герр профессор, описываете довольно запутанную мистическую историю, имевшую место в одном отдаленном монастыре. В тихой, казалось бы, обители начинают твориться жуткие преступления: убийство за убийством, ограбление за ограблением, святотатство за святотатством. Похищаются иконы, а то и просто уничтожаются или оскверняются; несколько монахов замучено самым изощренным образом, кто-то там распят вниз головой, у кого-то колотые раны по всему телу и смерть от потери крови, в общем, эта череда злодеяний носит откровенно ритуальный характер. Наконец, приглашенный для росписи соборного храма художник, из мирских, сам признался в этих преступлениях. По указанию настоятеля его заперли до времени в монастырский погреб – кладовую, а он взял на душу еще более тяжкий грех (то ли от угрызений совести, то ли просто лишился рассудка), одним словом, повесился. Но храм продолжал расписываться неведомым образом, точно сам по себе – братия замечала, как движется работа, даже краска не успевала высыхать. Решили, что это проявление нечистой силы, что дух злодеяний художника витает над островом и, видимо, его темная аура не рассеется, пока роспись не будет завершена. И действительно, убийства с тем же ритуальным почерком не прекратились, а наоборот – методично повторялись. Поймали с поличным теперь уже некоего монаха и, не испытывая судьбу, наученные прежним опытом, тут же казнили. Не помогло: цепь черных дел не прерывалась и росписи по ночам в соборе тоже прибавлялось. У следующего изобличенного инока-убийцы выпытали, что это он продолжал роспись: заточили его в каменный мешок. Налицо была настоящая эпидемия помешательства, и этого убийцу пришлось в свою очередь предать казни в надежде, что безумная зараза будет уничтожена, но не тут-то было: убийства возобновились с особой жестокостью. Тогда устроили засаду прямо в храме, на «лесах»: всю ночь при свидетелях какой-то брат трудился над фреской, а когда утром его призвали к ответу, признался в нескольких изощренных убийствах. Настоятель убедился: враг рода человеческого решил извести всех насельников, вселяет бесов в человеческие тела, а они переходят из одного в другое, превращая честных служителей Божиих в орудия своего лукавого замысла. Что характерно, никто из тех, кто продолжал живописную работу пришлого художника-злодея, до этого не имел абсолютно никакой тяги к искусству, ни тем более сколько-нибудь заметного дара рисования! Таким образом, выяснилось: все казненные преступники были людьми одержимыми, и бес склонял их к зверствам именно через «наследуемые» ими по очереди художественные способности. Я сделал для себя следующий вывод: основную мысль этой главы, присовокупленной вами, герр профессор, к комментарию Гёте, можно сформулировать так: в тюрьмах оказываются, по сути, несчастные, не владеющие собой люди, и виновны они лишь в том, что бесы воспользовались их плотской оболочкой в качестве своего временного пристанища. Враг рода человеческого приводит этих несчастных к духовной и физической гибели и шествует дальше в поисках очередной жертвы, очередного подобного «жилища». Тогда мне пришло в голову: выходит, бесу, исчадию зла, нужна возвышенная духовная подпитка, так сказать, для создания фрески в Божьем храме? Не вижу здесь логики: заведомое зло нуждается в добре?! Ведь художник-маньяк убивал, и, значит, именно кровь на самом деле питала его творчество! Но может, там была какая-то особенная, безблагодатная, духовно извращенная фреска? Хотелось бы ее увидеть, если, конечно, этот храм не сожгли. У меня по ходу чтения и другие вопросы к вам возникли. Ну, скажем, почему это благочестивые, опытные в борьбе с искушениями монахи в данном случае оказывались пассивными по отношению к бесу-искусителю? Ничего об их борьбе с ним – молитвах, посте – я в этой главе не нашел и, разумеется, еще больше был заинтригован. Может быть, в других главах эта проблема освещается и раскрывается, герр профессор? Мне так хотелось бы иметь доступ ко всему материалу…
– Главу мою вы поняли совершенно верно, господин Звонцов, и содержание хорошо передали. А я добавлю к тому же, что располагаю статистическими данными и математическими выкладками, подтверждающими: сколько преступлений совершается в том или ином селении, ровно столько же бесов обитает в нем, и неуклонно растущее число невинных узников в местной тюрьме тоже зависит от этой цифры, – заявил Ауэрбах.
«Ничего себе математическая логика! Кажется, старик слишком увлекся католической схоластикой, и это пошло не на пользу его рассудку. Он теперь наверняка знает, сколько бесов на конце иглы!» [30]30
Надуманный спор о количестве бесов на конце иглы – пример типичного диспута схоластов.
[Закрыть]Десницыну совсем не нравились эти схематичные построения, и еще он решил, что от Ауэрбаха бесполезно ждать ответа на поставленные вопросы. Профессор тем временем пустился в рассуждения:
– Во время пребывания в тюрьме я убедился на собственном опыте, что существуют криминальное тело и криминальные мысли. Тело не ведает точно, что творит, и совершает преступление, так сказать, неумышленно. Криминальные мысли совершенно точно знают, что делают. Меня все это навело на размышления, а присущи ли вообще человеку криминальные мысли?! Есть же причина, по которой мы были подняты над уровнем животных? Человеческая природа – это величайший триумф, но также источник нашего падения. Мы все стремимся к благороднейшим целям, но все же слишком часто погрязаем в самых низменных желаниях.
Арсений не хотел вдаваться в подобные теории и уже остерегался повторять свои вопросы. «От греха подальше! – рассуждал он. – Подобной назойливости и упрямства Мефистофель ни за что не простит». Не хватало еще зарваться и «провалить» экзамен, товарища подвести – будут тогда «философствовать» они в России! Нет уж, хватит, пожалуй.
С прищуром глядя на Арсения, Мефистофель изрек:
– Ну-с, с Гёте мне все ясно. Ваши знания в немецкой литературе исчерпывающи, а с принципиальностью… знакомая история – неисправимый православный максимализм! Склонность к преувеличению.
Язвительная фраза не могла не задеть Арсения за живое, и он напрочь потерял чувство самосохранения. Уголки губ задрожали.
– Во всяком случае, это лучше, честнее, что ли, лютеранского рационализма! Кстати, и Фауст тоже хотел «алгеброй гармонию поверить», пока не признал себя глупцом, а к истинному-то Богу пришел все-таки через сердце!
Профессор даже вскочил и, упершись руками в кафедру, подался вперед, не сводя глаз с отважного студиозуса:
– Вы, кажется, сочинение Пушкина процитировали? Не удивляйтесь, мой юный друг: с русской поэзией я на короткой ноге. В таком случае, примите в ответ слова Мартина Лютера: «Разум – слепой, глупый безумец». Ну что? Трудно спорить с самим вероучителем?
Арсению же подумалось: «Говорит так, словно он сам и есть этот „Вероучитель“. Злорадствует, думает, что пришпилил меня своим „лютеранством“!» Оставалось только парировать:
– Тогда, выходит, лютеранство пошло вразрез с проповедью Лютера – на поводу у прагматичного разума. Кирхи с голыми стенами и казенными рядами скамей, где после плотного завтрака даже в Страстную пятницу прихожане дремлют в заднем ряду! Разве это сравнимо с храмом, где верующий стремится славить и молить Спасителя, где душа должна рваться к небу, где человеку сладостно хоть несколько часов претерпеть, стоя или творя поклоны, хоть этой малой жертвой ответить Богу Любовью на Любовь?!
Мефистофель не уступал:
– Человек хочет чувствовать себя в храме свободным. Ничто не должно принуждать его к молитве – только вера и ничего, кроме веры! Вглядитесь в современный мир, юноша: просвещенный прихожанин желает общения с Богом на равных, а вы предлагаете ему упасть на колени и в унижении ползать перед иконами?
– Господь один, – волновался Арсений, – и Он пребывает там, где Его достойно из века в век почитают, а не там, где «верующие» хотят быть с Ним на равных.
У нас в любой деревенской церквушке чувствуешь, как благодать Божия изливается от икон, из алтаря…
Ауэрбах удивленно возразил:
– Но ведь Господь всемилосерд. Он должен снисходить к Своим несчастным детям, подверженным страстям, прощать их маловерие. В конце концов, должен и Создатель нести долю ответственности за то, что произошло с человеком, безнадежно слабым по природе своей.
– Как вы можете говорить подобное, господин профессор?! – Видно было, что русского задело за живое. – Господь ответствен за грехи человечества?!! Да это человек должен восходить к Нему всеми силами, всем своим образом жизни! Покаянная Вера как раз и приближает Бога к человеку, и Он возвышает человека над слабостями и пороками. Таков путь к святости – православная история полна таких примеров…
– Выходит, любой верующий, даже, как у вас выражаются, разбойник с большой дороги может стать святым?!
– Да! И раскаявшийся разбойник – быстрее, чем сытый и самодовольный ханжа. По образу распятого вместе с Христом. Есть много свидетельств тому в монастырских патериках, в фольклоре, наконец. Возможно, вы слышали о нашем оперном гении из народа – Шаляпине?
Профессор всплеснул руками:
– Еще бы! Ведь он лучший «русский Мефистофель»!
– Дело не в том, хотя я понимаю, что именно этот факт вам ближе. – студент говорил с экзаменатором почти на равных. – Шаляпин поет народную песню о кровожадном атамане Кудеяре, который принес покаяние и стал святым старцем Питиримом. Зато требование гордеца-индивидуалиста, чтобы Господь принял его со всей мирской грязью, для Православия просто кощунственно! Лютеранский пастор «кудеярова» смирения не требует, он считает благом уже то, когда обыватель просто заглянул в кирху.
Ауэрбах молчал и становился все угрюмее, но Арсению было уже не сдержать себя; он словно забыл о том, что пришел только сдать экзамен, а не выиграть богословский диспут:
– Знаете, у нас в крестьянских домах до сих пор дверные притолоки низкие. Почему? Чтобы входящий не забывал преклонить главу – напротив ведь святые образа! Иначе можно и лоб расшибить. Скажете – насилие над личностью или невежество?
– Я этого не говорил! То, что вы утверждаете, очень интересно, и я не стану спорить с тем, что русские всегда были набожны. Но позвольте, двадцатый век на дворе, а у вас все как прежде, столь же глубоко и повсеместно? Исторический нонсенс!
Арсений опустил голову.
– Неудобно говорить об этом, профессор, но то, что я вижу в Германии, порой просто коробит: по части морали лютеране, увы, иногда уступают нашим простым мужикам. «Просвещенная интеллигенция» более похожа на вашу, но и у нее еще не совсем разрушены традиционные устои. Европейские нравы, надо признать, вообще далеко ушли от христианских идеалов, и если Европа в дальнейшем…
– Не продолжайте, – теперь уже потупился Ауэрбах, – я знаю, что вы хотите сказать. Но неужели все обстоит столь плачевно и наша Церковь, наш народ так безнадежны для Бога? Я не хочу в это верить, не могу… Я не желаю этому верить!
Десницын выпрямился и внимательно посмотрел на профессора:
– И не верьте! Наоборот, веруйте и надейтесь, только… – Сеня замялся, – только всегда помните, что самодовольство несовместимо с христианством. Нередко лютеране чересчур самодовольны: иногда кажется, что предел их представлений о счастье ограничен семейным достатком и благополучием: верная супруга, послушные дети, сытная еда. Такой идеал не может заменить высокие религиозные ценности.
Отяжелевший от неожиданных откровений, свалившихся на старую, полную строгих академических знаний голову, Ауэрбах медленно сполз в кресло. Взгляд его в странном рассеянье блуждал по столу среди стоп книг и бумаг. Мертвую тишину аудитории нарушали лишь «мышиные шорохи», доходившие из коридора, да завывание шарманки с улицы. Очнувшись, профессор поднял голову от стола:
– Да-а-с-с! Да-с! Что я могу сказать? Согласиться с вами? Где-то внутри я скорее приемлю то, что вы доказываете, но и мои принципы, коллега, тоже зиждутся на камне веры: «Hier stehe ich, ich kann nicht anders» [31]31
«Я здесь стою, я не могу иначе» (нем.)– легендарные слова, приписываемые Лютеру, не изменявшему своим убеждениям.
[Закрыть]. А вы меня удивили: в наше время редко встретишь столь убежденного в своей правоте молодого человека, да еще способного аргументированно отстаивать свое «credo». Пусть вам не покажется сухим мой вывод: вы качественный продукт веры, пестуемой нацией из века в век. Вы, вероятно, с детства приучены к серьезному чтению? Каких авторов вы предпочитаете? В России сейчас настоящий расцвет литературного творчества.
– Это распространенное мнение, но я во многом с ним не согласен. Признаться, после Святого Писания и духовных сочинений очень трудно читать светскую литературу, особенно современную. Современные авторы прямо с каким-то наслаждением описывают свои и чужие страсти, по сути – болезни духовные, да еще делают из собственного отрицательного опыта совершенно неверные выводы. И по-моему, они уже не замечают за собой этой слабости. Порой они мнят себя апостолами какой-то новой религии, пророками, публика наивно верит каждому их слову, а плоды подобных проповедей плачевны для всех. Да они просто вводят читателя в соблазн, и за примером далеко ходить не нужно: тот же Лев Толстой. Ведь даже здесь, в Европе, сколько «верных» его последователей!








