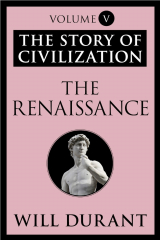
Текст книги "Возрождение (ЛП)"
Автор книги: Уильям Дюрант
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 73 страниц)
Если применить эти соображения к этике войны, Макиавелли уверен, что они делают христианский пацифизм нелепым и предательским. Война нарушает практически все заповеди Моисея: в ней клянутся, лгут, воруют, убивают, прелюбодействуют тысячами; тем не менее, если она сохраняет общество или укрепляет его, то это хорошо. Когда государство перестает расширяться, оно начинает разлагаться; когда оно теряет волю к войне, ему приходит конец. Слишком долгий мир утомляет и разрушает; периодическая война – это национальный тоник, восстанавливающий дисциплину, бодрость и единство. Римляне времен Республики были постоянно готовы к войне; когда они видели, что у них будут проблемы с другим государством, они не делали ничего, чтобы избежать войны, но посылали армию, чтобы напасть на Филиппа V в Македонии и Антиоха III в Греции, а не ждали, пока они принесут зло войны в Италию.102 Добродетель для римлянина – это не смирение, не мягкость и не миролюбие, а мужественность, мужественность, храбрость с энергией и умом. Именно это Макиавелли подразумевает под словом virtù.
С этой точки зрения государственного деятеля, полностью освобожденного от моральных ограничений, Макиавелли движется к решению, как ему кажется, основной проблемы своего времени: достичь для Италии единства и силы, необходимых для ее коллективной свободы. Он с негодованием смотрит на разделение, беспорядок, коррупцию и слабость своей страны; и здесь мы находим то, что во времена Петрарки было такой редкостью – человека, который любил свой город не меньше, чем свою страну. Кто виноват в том, что Италия так разделена и потому так беспомощна перед чужеземцами?
Нация никогда не может быть единой и счастливой, если она подчиняется только одному правительству, будь то республика или монархия, как это происходит во Франции и Испании; и единственная причина, по которой Италия не находится в таком же состоянии, – это церковь. Ибо, приобретя и удерживая временное господство, она никогда не обладала достаточной силой и смелостью, чтобы овладеть остальной частью страны и сделать себя единственным государем всей Италии.*103
У нас есть новая идея: Макиавелли осуждает церковь не за то, что она защищает свою временную власть, а за то, что она не использовала все свои ресурсы, чтобы подчинить Италию своему политическому правлению. Итак, Макиавелли восхищался Цезарем Борджиа в Имоле и Сенигаллии, потому что ему казалось, что он видит в этом безжалостном юноше замысел и обещание объединенной Италии; и он был готов оправдать любые средства, которые Борджиа могли использовать для достижения этой героической цели. Когда в 1503 году в Риме он выступил против Цезаря, то, возможно, в ярости от того, что его кумир позволил чаше яда (как считал Макиавелли) разрушить мечту.
За два века разделения Италия настолько ослабла и пришла в социальный упадок, что теперь (по мнению Макиавелли) ее можно было спасти только насильственными методами. И правительство, и народ были развращены. Сексуальные пороки пришли на смену воинскому пылу и мастерству. Как и в дни умирания Древнего Рима, граждане делегировали другим – там варварам, здесь наемникам – защиту своих городов и земель; но какое дело этим наемным бандам или их кондотьерам до единства Италии? Они жили и процветали за счет ее разделения. По взаимному согласию они превратили войну в игру, почти столь же безопасную, как и политика; их солдаты были против того, чтобы их убивали; и когда они встречали иностранные армии, они бросались на пятки и «приводили Италию к рабству и презрению».105
Кто же сделает Италию таковой? Как это можно сделать? Не демократическими уговорами; люди и города были слишком индивидуалистичны, слишком пристрастны и слишком коррумпированы, чтобы принять объединение мирным путем; его нужно было навязать им всеми методами государственного строительства и войны. Только безжалостный диктатор мог сделать это; тот, кто не позволит совести сделать из него труса, а будет наносить удары железной рукой, позволяя своей великой цели оправдывать все средства.
Мы не уверены, что «Князь» был написан в таком настроении. В том самом 1513 году, когда он, по-видимому, был начат, Макиавелли писал другу, что «идея итальянского союза смехотворна. Даже если бы главы государств смогли договориться, у нас нет солдат, кроме испанцев, которые стоили бы фартинга. Более того, народ никогда не согласится с вождями».106 Но в том же 1513 году Лев X, молодой, богатый и умный, достиг папства; Флоренция и Рим, столь долго враждовавшие, объединились под властью Медичи. Когда Макиавелли передал посвящение книги Лоренцо, герцогу Урбино, это государство тоже перешло под власть Медичи. Новому герцогу в 1516 году было всего двадцать четыре года; он проявлял амбиции и смелость; Макиавелли мог с полным правом смотреть на этого безрассудного духа как на того, кто под руководством и дипломатией Льва (и по наставлению Макиавелли) сможет осуществить то, что начал Цезарь Борджиа при Александре VI, – сможет привести итальянские государства, по крайней мере к северу от Неаполя и без гордой Венеции, к федерации, достаточно сильной, чтобы препятствовать иностранным вторжениям. Есть свидетельства того, что на это надеялся и Лев. Посвящение «Принца» Медичи, хотя, вероятно, в первую очередь имело целью найти работу для автора, могло искренне думать об этой семье как о возможных создателях итальянского единства.
Форма «Il principe» была традиционной: она повторяла наброски и метод сотни средневековых трактатов De regimine principum. Но в содержании – какая революция! Здесь нет идеалистического призыва к принцу быть святым, нет призыва применить Нагорную проповедь к проблемам трона. Напротив:
Поскольку в мои намерения входит написать нечто полезное для того, кто это поймет, мне кажется более уместным проследить за реальной правдой вопроса, чем за его воображением. Многие изображали республики и княжества, которых на самом деле никогда не знали и не видели, ибо то, как человек живет, так далеко от того, как он должен жить, что тот, кто пренебрегает тем, что делается, ради того, что должно делаться, скорее погубит себя, чем сохранит; человек, который хочет действовать в полном соответствии со своими представлениями о добродетели, скоро встретит гибель среди стольких вещей, которые являются злом. Поэтому принцу, желающему удержаться на плаву, необходимо знать, как поступать неправильно, и пользоваться или не пользоваться этим в зависимости от необходимости.107
Поэтому принц должен решительно разграничивать мораль и государственную мудрость, свою личную совесть и общественное благо и быть готовым совершить для государства то, что в отношениях отдельных людей было бы названо злодеянием. Он должен презирать полумеры; враги, которых нельзя победить, должны быть разбиты; претенденты на его трон должны быть убиты. У него должна быть сильная армия, ведь государственный деятель может говорить не громче, чем его оружие. Он должен постоянно поддерживать здоровье, дисциплину и снаряжение своей армии; он должен готовить себя к войне, часто подвергаясь трудностям и опасностям охоты. В то же время он должен изучать искусство дипломатии, ведь иногда хитрость и обман достигают большего, чем сила, и обходятся дешевле. Договоры не должны соблюдаться, если они стали вредными для нации; «мудрый лорд не может, да и не должен, хранить веру, когда ее соблюдение может быть обращено против него, и когда причины, побудившие его взять на себя обязательство, больше не существуют».108
Определенная степень общественной поддержки необходима. Но если правитель должен выбирать между тем, чтобы его боялись без любви, и тем, чтобы его любили без страха, он должен пожертвовать любовью.109 С другой стороны (говорится в «Дискорси»), «толпой легче управлять с помощью человечности и мягкости, чем с помощью надменности и жестокости…..110 Тит, Нерва, Траян, Адриан, Антонин и Марк Аврелий не нуждались ни в преторианской гвардии, ни в легионах для своей защиты, потому что их защищало их собственное хорошее поведение, добрая воля народа и любовь сената».111 Чтобы заручиться поддержкой народа, принц должен покровительствовать искусству и обучению, устраивать публичные зрелища и игры, оказывать почести гильдиям, всегда, однако, сохраняя величие своего звания.112 Он не должен давать народу свободу, но должен, насколько это возможно, успокаивать его видимостью свободы. С подчиненными городами, такими как Пиза и Ареццо в случае с Флоренцией, вначале следует обращаться решительно, даже жестоко; затем, когда повиновение будет установлено, можно сделать их покорность привычной с помощью более мягких средств. Неразборчивая и длительная жестокость самоубийственна.113
Правитель должен поддерживать религию и сам казаться религиозным, какими бы ни были его личные убеждения.114 Действительно, для принца важнее и выгоднее казаться добродетельным, чем быть таковым.
Хотя принц не обязан обладать всеми добродетелями, но казаться обладающим ими полезно; как, например, казаться милосердным, верным, гуманным, религиозным и искренним; полезно также быть таковым, но с таким гибким умом, чтобы в случае необходимости он мог быть противоположным….. Он должен быть осторожен и не допускать, чтобы с его уст срывалось что-либо, не соответствующее пяти упомянутым качествам, и должен казаться тем, кто его видит и слышит, всем состраданием, всей верой, всей гуманностью, всей религиозностью, всей честностью….. Человек должен окрашивать свое поведение и быть великим рассеятелем; а люди так просты, так поглощены текущими нуждами, что их легко обмануть….. Все видят, каким ты кажешься, немногие знают, каков ты на самом деле; и эти немногие не смеют возражать против мнения многих.115
К этим наставлениям Макиавелли добавляет примеры. Он отмечает успех Александра VI и считает, что он был достигнут исключительно благодаря чудесной лжи. Он восхищается испанским католиком Фердинандом за то, что тот всегда прикрывал свои военные предприятия религиозными мотивами. Он восхваляет средства – волевое мужество и стратегическое мастерство в сочетании с дипломатическим искусством, – с помощью которых Франческо Сфорца взошел на миланский престол. Но прежде всего он считает своим высшим и почти идеальным образцом Цезаря Борджиа:
Когда вспоминаются все действия герцога, я не знаю, как его обвинить; скорее мне кажется, что я должен предложить его для подражания всем тем, кто… возвысился до правительства….. Его считали жестоким; тем не менее его жестокость примирила всю Романьи, объединила ее и вернула ей мир и верность….. Обладая возвышенным духом и далеко идущими целями, он не мог иначе регулировать свое поведение; и только сокращение жизни Александра и его собственная болезнь помешали его замыслам. Поэтому тот, кто считает необходимым обезопасить себя в своем новом княжестве, приобрести друзей, одолеть врагов силой или обманом, заставить себя одновременно бояться и любить народ, быть преследуемым и почитаемым солдатами, истребить тех, кто имеет власть или причиняет ему вред, менять старый порядок вещей на новый, быть суровым и милостивым, великодушным и либеральным, уничтожать неверных солдат и создавать новых, поддерживать дружбу с королями и принцами так, чтобы они помогали ему с усердием и обижали с осторожностью, – нельзя найти более живого примера, чем действия этого человека.116
Макиавелли восхищался Борджиа, потому что чувствовал, что его методы и характер, если бы не одновременная болезнь папы и сына, могли бы далеко продвинуться в деле объединения Италии. Теперь, завершая «Князя», он обращается к молодому герцогу Лоренцо, а через него к Льву и Медичи, с призывом организовать объединение полуострова. Он описывает своих соотечественников как «более порабощенных, чем евреи, более угнетенных, чем персы, более рассеянных, чем афиняне; без головы, без порядка, избитых, опустошенных, разграбленных, растерзанных и захваченных иностранными державами». «Италия, оставшаяся без жизни, ждет того, кто исцелит ее раны….. Она умоляет Бога послать того, кто избавит ее от этих несправедливых и чуждых ей оскорблений».117 Ситуация критическая, но возможность уже созрела. «Италия готова и желает следовать за знаменем, если только кто-то его поднимет». И кто может быть лучше Медичи, самой знаменитой семьи в Италии, а теперь еще и возглавляющей Церковь?
Кто может выразить ту любовь, с которой Италия встретит своего освободителя, с какой жаждой мести, с какой непоколебимой верой, с какой преданностью, с какими слезами? Какая дверь будет закрыта для него? Кто откажет ему в повиновении? Для всех нас это варварское владычество – зловоние в ноздрях. Так пусть же ваш прославленный дом возьмет на себя этот груз, с тем мужеством и надеждой, с которыми предпринимаются все справедливые предприятия, чтобы под его знаменем наша родная страна была облагорожена, и под его эгидой подтвердились слова Петрарки:
Virtù contr' al furore
Prendera l'arme e sia il combatter corto,
Che l'antico valore
Negl' Italici cuor non è ancor morto —
«Мужество возьмет в руки оружие против безумия, и пусть битва будет короткой, ибо древняя доблесть еще не умерла в жилах Италии».
4. Соображения
Таким образом, крик, который Данте и Петрарка обратили к чужеземным императорам, был обращен к Медичи; и действительно, если бы Лев жил дольше и играл меньше, Макиавелли мог бы увидеть начало освобождения. Но молодой Лоренцо умер в 1519 году, Лев – в 1521-м; и в 1527 году, в год смерти Макиавелли, подчинение Италии иностранной державе было завершено. Освобождения пришлось ждать 343 года, пока Кавур не осуществил его с помощью макиавеллиевской государственной мудрости.
Философы были почти единодушны в осуждении «Принца», а государственные деятели – в применении его предписаний на практике. Тысячи книг начали появляться против него на следующий день после его публикации (1532). Но Карл V внимательно изучал ее, Екатерина Медичи привезла ее во Францию, Генрих III и Генрих IV Французские имели ее при себе после смерти, Ришелье восхищался ею, Вильгельм Оранский держал ее под подушкой, как бы для того, чтобы запомнить ее по осмосу.118 Фридрих Великий из Пруссии написал «Анти-Макиавель» в качестве прелюдии к превзошедшему его «Принцу». Для большинства правителей, конечно, эти наставления не были откровением, разве что они раскрывали по недомыслию секреты их гильдии. Мечтатели превратить Макиавелли в якобинца считали, что он написал «Князя» не для того, чтобы выразить свою собственную философию, а чтобы с помощью саркастических намеков разоблачить пути и хитрости правителей; однако «Рассуждения» более подробно излагают те же самые взгляды. Фрэнсис Бэкон позволил себе снисходительное слово: «Мы должны поблагодарить Макиавелли и подобных ему писателей, которые открыто и без всякой маскировки показали нам, что люди привыкли делать, а не то, что они должны делать».119 Суждения Гегеля были разумными и великодушными:
Князя часто с ужасом отбрасывают, считая, что он содержит максимы самой отвратительной тирании; однако именно высокое чувство необходимости создания государства заставило Макиавелли изложить принципы, на которых только и могут быть созданы государства в данных обстоятельствах. Отдельные владыки и светлости должны были быть полностью подавлены; и хотя наше представление о свободе несовместимо с теми средствами, которые он предлагает… включая, как и они, самое безрассудное насилие, все виды обмана, убийства и тому подобное – все же мы должны признать, что деспоты, которых нужно было усмирить, не могли быть атакованы никаким другим способом.120
А Маколей в своем знаменитом эссе изобразил философию Макиавелли как естественный рефлекс блестящей и де-морализованной Италии, давно приученной своими деспотами к принципам «Князя».
Макиавелли представляет собой окончательный вызов возрожденного язычества ослабленному христианству. В его философии религия вновь, как и в Древнем Риме, становится покорным слугой государства, которое, по сути, и есть бог. Единственные добродетели, которые почитаются, – это языческие римские добродетели: мужество, выносливость, уверенность в себе, ум; единственное бессмертие – это немеркнущая слава. Возможно, Макиавелли преувеличивал ослабляющее влияние христианства; неужели он забыл пылкие войны средневековой истории, походы Константина, Белисария, Карла Великого, тамплиеров, тевтонских рыцарей и Юлия II недавнего времени? Христианская мораль подчеркивала женские добродетели, потому что мужчины обладали противоположными качествами в губительном изобилии; нужно было проповедовать какое-то противоядие и контридеал садистским римлянам в амфитеатре, грубым варварам, проникающим в Италию, беззаконным народам, стремящимся влиться в цивилизацию. Добродетели, которые Макиавелли презирал, создавали упорядоченные и мирные общества; те, которыми он восхищался (и, подобно Ницше, потому что ему их не хватало), создавали сильные и воинственные государства, диктаторов, способных убивать миллионами, чтобы заставить подчиниться, и воплощать планету, чтобы расширить свое правление. Он путал благо правителя с благом нации; он слишком много думал о сохранении власти, редко – об обязательствах, никогда – о коррупции. Он игнорировал стимулирующее соперничество и культурную плодовитость итальянских городов-государств; его мало заботило великолепное искусство своего времени или даже искусство Древнего Рима. Он погряз в идолопоклонстве перед государством. Он помог освободить государство от церкви, но вместе с тем установил для поклонения атомистический национализм, не намного превосходящий средневековое представление о государствах, подчиненных международной морали, представленной папой. Каждый идеал разбился о природный эгоизм людей; и честный христианин должен признать, что, проповедуя и применяя на практике принцип, согласно которому не нужно хранить веру с еретиком (как, например, нарушая конспирацию Гуса в Констанце и Альфонса Феррарского в Риме), сама Церковь вела макиавеллистскую игру, которая была губительна для ее миссии как нравственной силы.
И все же в откровенности Макиавелли есть нечто стимулирующее. Читая его, мы, как нигде, сталкиваемся с вопросом, который мало кто из философов осмеливался обсуждать: связана ли государственная власть с моралью? Мы можем прийти, по крайней мере, к одному выводу: мораль может существовать только среди членов общества, способных обучать и обеспечивать ее соблюдение; а межгосударственная мораль ожидает создания международной организации, наделенной физической силой и общественным мнением для поддержания международного права. До тех пор нации будут подобны зверям в джунглях; и какие бы принципы ни исповедовали их правительства, на практике они будут следовать принципам принца.
Оглядываясь на два столетия интеллектуального бунта в Италии от Петрарки до Макиавелли, мы видим, что его суть и основа заключались в уменьшении заботы о другом мире и росте жизнеутверждения. Люди с радостью открыли для себя языческую цивилизацию, граждане которой не беспокоились о первородном грехе или карающем аде, и в которой природные импульсы принимались как простительные элементы живого общества. Аскетизм, самоотречение и чувство греха потеряли свою силу, почти смысл, в высших слоях итальянского населения; монастыри зачахли из-за нехватки послушников, а сами монахи, монахи и папы стремились к земным радостям, а не к стигматам Христа. Узы традиций и авторитета ослабли, массивная ткань Церкви стала более легкой для мыслей и целей людей. Жизнь стала более экстравертной, и хотя она часто принимала форму насилия, это очистило многие души от невротических страхов и расстройств, омрачавших средневековый разум. Раскрепощенный интеллект с удовольствием проявлял себя во всех областях, кроме науки; буйство освобождения пока еще не сочеталось с дисциплиной эксперимента и терпением исследования; это должно было прийти в конструктивных последствиях освобождения. Тем временем среди образованных людей благочестивые практики освободили место для поклонения интеллекту и гению; вера в бессмертие была преобразована в стремление к вечной славе. Языческие идеалы, такие как Фортуна, Судьба и Природа, посягали на христианскую концепцию Бога.
За все это пришлось заплатить. Блестящее раскрепощение разума ослабило сверхъестественные санкции морали, и не нашлось других, способных эффективно их заменить. Результатом стало такое отречение от запретов, такое освобождение импульсов и желаний, такая роскошь безнравственности, какой история не знала со времен софистов, разрушивших мифы, освободивших разум и ослабивших мораль Древней Греции.








