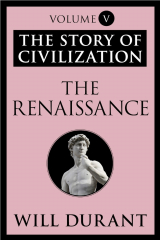
Текст книги "Возрождение (ЛП)"
Автор книги: Уильям Дюрант
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 73 страниц)
Именно при Медичи или в их время гуманисты захватили умы Италии, обратили их от религии к философии, от неба к земле и открыли изумленному поколению богатства языческой мысли и искусства. Эти люди, помешанные на учености, получили, еще Ариосто,22 имя umanisti, потому что они называли изучение классической культуры umanità – «гуманитарными науками», или literae humaniores – не «более человечными», а более человечными буквами. Теперь надлежащим предметом изучения человечества должен был стать человек, во всей потенциальной силе и красоте его тела, во всей радости и боли его чувств и ощущений, во всем хрупком величии его разума; и в них наиболее обильно и совершенно раскрыт в литературе и искусстве Древней Греции и Рима. Это и был гуманизм.
Почти все латинские и многие греческие классики, дошедшие до наших дней, были известны средневековым ученым то тут, то там; а тринадцатый век был знаком с крупнейшими языческими философами. Но тот век почти не обращал внимания на греческую поэзию, и многие древние достойные произведения, почитаемые нами сегодня, лежали заброшенными в монастырских или соборных библиотеках. Именно в таких забытых уголках Петрарка и его последователи нашли «потерянных» классиков, «нежных пленников», как он их называл, «удерживаемых в плену варварскими тюремщиками». Боккаччо, посетив Монте-Кассино, был потрясен, обнаружив драгоценные манускрипты, гниющие в пыли или изуродованные для изготовления псалтырей или амулетов. Поджио, посетив швейцарский монастырь Сен-Галл во время заседания Констанцского собора, нашел «Институции» Квинтилиана в мрачном подземелье и, возвращая свитки, почувствовал, что старый педагог протягивает руки, умоляя спасти его от «варваров», ибо этим именем культурные итальянцы, как древние греки и римляне, называли своих мужественных завоевателей за Альпами. Только Поджио, которого не остановили ни зимние холода, ни снег, эксгумировал из таких могил тексты Лукреция, Колумеллы, Фронтина, Витрувия, Валерия Флакка, Тертуллиана, Плавта, Петрония, Аммиана Марцеллина и несколько главных речей Цицерона. Колуччо Салютати раскопал письма Цицерона ad familiares в Верчелли (1389); Герардо Ландриани нашел трактаты Цицерона по риторике в старом сундуке в Лоди (1422); Амброджио Траверсари спас Корнелия Непоса от забвения в Падуе (1434); Агрикола, Германия и Диалоги Тацита были обнаружены в Германии (1455); первые шесть книг «Анналов» Тацита и полная рукопись писем младшего Плиния были найдены в монастыре Корвей (1508) и стали достоянием Льва X.
За полвека до взятия турками Константинополя дюжина гуманистов училась или путешествовала по Греции; один из них, Джованни Ауриспа, привез в Италию 238 рукописей, включая пьесы Эсхила и Софокла; другой, Франческо Филельфо, спас из Константинополя (1427) тексты Геродота, Фукидида, Полибия, Демосфена, Эсхина и Аристотеля, а также семь драм Еврипида. Когда такие литературные исследователи возвращались в Италию со своими находками, их встречали как победоносных генералов, а князья и прелаты хорошо платили за долю трофеев. Падение Константинополя привело к потере многих классических произведений, ранее упоминавшихся византийскими писателями как хранившиеся в библиотеках этого города; тем не менее тысячи томов были спасены, и большинство из них попало в Италию; по сей день лучшие рукописи греческих классиков находятся в Италии. На протяжении трех столетий, от Петрарки до Тассо, люди собирали рукописи с филателистической страстью. Никколо де Никколи тратил на это больше, чем имел; Андреоло де Очи был готов пожертвовать домом, женой, жизнью, чтобы пополнить свою библиотеку; Поджио страдал, когда видел, что деньги тратятся на что-то еще, кроме книг.
Последовала редакционная революция. Восстановленные тексты изучались, сравнивались, исправлялись и объяснялись в ходе научной кампании, развернувшейся от Лоренцо Валлы в Неаполе до сэра Томаса Мора в Лондоне. Поскольку во многих случаях эти труды требовали знания греческого языка, Италия – а позже Франция, Англия и Германия – обратилась с призывом искать учителей греческого. Ауриспа и Филельфо изучали язык в самой Греции. После того как Мануил Хрисолорас прибыл в Италию (1397) в качестве византийского посланника, Флорентийский университет уговорил его присоединиться к своему факультету в качестве профессора греческого языка и литературы. Среди его учеников были Поджио, Палла Строцци, Марсуппини и Манетти. Леонардо Бруни, изучавший право, под влиянием Хризолораса бросил это занятие ради изучения греческого; «Я отдался его учению с таким рвением, – рассказывает он, – что мои сны по ночам были наполнены тем, что я узнал от него днем».23 Кто сейчас может представить, что когда-то греческая грамматика была приключением и романтикой?
В 1439 году греки встретились с итальянцами на Флорентийском соборе, и уроки языка, которыми они обменивались, принесли гораздо больше результатов, чем кропотливые переговоры по теологии. Там Гемистус Плето прочитал знаменитые лекции, которые положили конец господству Аристотеля в европейской философии и возвели Платона почти в ранг бога. Когда Собор разошелся, Иоанн Бессарион, прибывший на него в качестве епископа Никейского, остался в Италии и посвятил часть своего времени преподаванию греческого языка. Другие города заразились этой лихорадкой; Бессарион принес ее в Рим; Феодор Газа преподавал греческий в Мантуе, Ферраре (1444) и Риме (1451); Димитрий Халкондил преподавал в Перудже (1450), Падуе, Флоренции и Милане (ок. 1492–1511); Иоаннес Аргиропулос – в Падуе (1441), Флоренции (1456–71) и Риме (1471–86). Все эти люди приехали в Италию до падения Константинополя (1453), так что это событие сыграло незначительную роль в транзите греческого языка из Византии в Италию; но постепенное окружение Константинополя турками после 1356 года сыграло свою роль в убеждении греческих ученых отправиться на запад. Одним из тех, кто бежал после падения восточной столицы, был Константин Ласкарис, который преподавал греческий язык в Милане (1460–5), Неаполе и Мессине (1466–1501). Первой греческой книгой, напечатанной в Италии эпохи Возрождения, была его греческая грамматика.
Благодаря тому, что все эти ученые и их ученики с энтузиазмом работали в Италии, прошло совсем немного времени, и классики греческой литературы и философии были переведены на латынь с большей тщательностью, точностью и законченностью, чем в двенадцатом и тринадцатом веках. Гуарино перевел части Страбона и Плутарха; Траверсари – Диогена Лаэрция; Валла – Геродота, Фукидида и «Илиаду»; Перотти – Полибия; Фичино – Платона и Плотина. Платон, прежде всего, поразил и восхитил гуманистов. Они превозносили плавное изящество его стиля; они находили в «Диалогах» драму более яркую и современную, чем у Эсхила, Софокла или Еврипида; они завидовали и удивлялись свободе, с которой греки времен Сократа обсуждали самые важные проблемы религии и политики; и они думали, что нашли в Платоне, замутненном Плотином, мистическую философию, которая позволит им сохранить христианство, в которое они перестали верить, но не перестали любить. Вдохновленный красноречием Гемиста Плето и энтузиазмом его учеников во Флоренции, Козимо основал там (1445) Платоновскую академию для изучения Платона и предоставил Марсилио Фичино возможность посвятить полжизни переводу и изложению трудов Платона. Теперь, после четырехсотлетнего царствования, схоластика утратила свое господство в философии Запада; диалог и эссе заменили схоластический диспут как форму философского изложения, и бодрящий дух Платона вошел, как питательные дрожжи, в растущее тело европейской мысли.
Но по мере того как Италия все больше и больше восстанавливала свое собственное классическое наследие, восхищение гуманистов Грецией превзошло их гордость за литературу и искусство Древнего Рима. Они возродили латынь как средство живой литературы; они латинизировали свои имена, латинизировали термины христианского богослужения и жизни: Бог стал Iuppiter, Провидение – fatum, святые – divi, монахини – vestales, папа – pontifex maximus. В своей прозе они опирались на Цицерона, в поэзии – на Вергилия и Горация, а некоторые, как Филельфо, Валла и Полициан, достигли почти классической элегантности. Таким образом, в своем течении Ренессанс вернулся от греческого к латыни, от Афин к Риму; пятнадцать веков, казалось, отступили, и эпоха Цицерона и Горация, Овидия и Сенеки, казалось, возродилась. Стиль стал важнее содержания, форма восторжествовала над материей, и ораторское искусство величественных эпох вновь зазвучало в залах принцев и педагогов. Возможно, было бы лучше, если бы гуманисты использовали итальянский язык; но они смотрели на речь «Коммедии» и «Канцоньере» как на испорченную и вырождающуюся латынь (что почти так и было) и сожалели о том, что Данте выбрал простонародный язык. В результате гуманисты потеряли связь с живыми источниками литературы, а народ, оставив свои произведения аристократии, предпочитал веселые сказки-новеллы Саккетти и Банделло или захватывающую смесь войны и любви в романах, которые переводились или адаптировались на итальянский язык с французского. Тем не менее, это мимолетное увлечение умирающим языком и «бессмертной» литературой помогло итальянским авторам восстановить архитектуру, скульптуру и музыку стиля, а также сформулировать каноны вкуса и речи, которые подняли просторечие до литературной формы и установили цель и стандарт для искусства. В области истории именно гуманисты положили конец череде средневековых хроник, хаотичных и некритичных, тщательно изучив и согласовав источники, приведя материал в порядок и ясность, оживив и очеловечив прошлое, смешав биографию с историей, и подняв повествования до уровня философии, выявив причины, течения и следствия, изучив закономерности и уроки истории.
Гуманистическое движение распространилось по всей Италии, но до прихода флорентийца Медичи к папству его лидерами были почти все граждане или выпускники Флоренции. Колуччо Салютати, ставший в 1375 году ответственным секретарем или канцлером (cancellarius) при синьории, был связующим звеном между Петраркой и Боккаччо и Козимо, зная и любя всех троих. Публичные документы, составленные им, были образцами классической латыни и служили примером, которому стремились следовать чиновники Венеции, Милана, Неаполя и Рима; Джангалеаццо Висконти из Милана говорил, что Салутати нанес ему больше вреда совершенством стиля, чем могла бы принести целая армия наемников.24 Слава Никколо де' Никколи как стилиста латинского языка соперничала с его известностью как собирателя рукописей; Бруни называл его «цензором латинского языка» и, как и другие авторы, предоставлял Никколи свои собственные сочинения для исправления, прежде чем опубликовать их. Никколи заполнил свой дом античными классиками, статуями, надписями, вазами, монетами и драгоценными камнями. Он избегал женитьбы, чтобы она не отвлекала его от книг, но находил время для наложницы, украденной из постели его брата.25 Он открыл свою библиотеку для всех желающих учиться в ней и призывал молодых флорентийцев отказаться от роскоши ради литературы. Увидев богатого юношу, праздно проводящего день, Никколи спросил его: «Какова твоя цель в жизни?» «Хорошо провести время», – был откровенный ответ. «Но когда ваша молодость закончится, что вы будете делать?»26 Юноша понял, в чем дело, и отдал себя под опеку Никколи.
Леонардо Бруни, секретарь четырех пап, а затем (1427–44) флорентийского синьора, перевел несколько диалогов Платона на латынь, чье совершенство впервые полностью открыло Италии великолепие платоновского стиля; он написал латинскую Историю Флоренции, за которую Республика освободила его и его детей от налогов; а его речи сравнивали с речами Перикла. Когда он умер, настоятели устроили ему публичные похороны по примеру древних; его похоронили в церкви Санта-Кроче с его «Историей» на груди, а Бернардо Росселлино спроектировал для его места упокоения благородную и роскошную гробницу.
Родившийся, как и Бруни, в Ареццо и сменивший его на посту секретаря синьории, Карло Марсуппини поразил свое время тем, что носил в голове половину классиков Греции и Рима; он не оставил ни одного античного автора без цитаты в своей инаугурационной речи в качестве профессора литературы Флорентийского университета. Его восхищение языческой древностью было настолько велико, что он чувствовал себя призванным отвергнуть христианство;27 Тем не менее он стал на некоторое время апостольским секретарем при Римском престоле; и хотя о нем говорили, что он умер, не удосужившись принять таинства,28 он также был похоронен в Санта-Кроче под великолепным ораторием Джанноццо Манетти и богато украшенной гробницей работы Дезидерио да Сеттиньяно (1453). Манетти, произнесший эту хвалебную речь над атеистом, был человеком, чье благочестие соперничало с его образованностью. В течение девяти лет он почти не покидал свой дом и сад, погрузившись в классическую литературу и изучив иврит, а также латынь и греческий. Отправленный послом в Рим, Неаполь, Венецию, Геную, он очаровал всех и завоевал дружеские отношения, ценные для его правительства, благодаря своей культуре, либеральности и честности.
Все эти люди, кроме Салютати, входили в кружок, собиравшийся в городском доме или на загородной вилле Козимо, и возглавляли движение учености во время его восхождения на престол. Другой друг Козимо почти сравнялся с ним в качестве приверженца знаний. Амброджио Траверсари, генерал ордена камальдулитов, жил в келье в монастыре Санта-Мария дельи Анджели под Флоренцией. Он овладел греческим языком и испытывал угрызения совести из-за своей привязанности к классикам; он воздерживался от их цитирования в своих сочинениях, но раскрывал их влияние в латинском стиле, идиоматическая чистота которого потрясла бы всех знаменитых Грегори. Козимо, который знал, как примирить классику, а также высокие финансы с христианством, любил навещать его. Никколи, Марсуппини, Бруни и другие превратили его келью в литературное рандеву.
Самым активным и беспокойным из итальянских гуманистов был Поджио Браччолини. Он родился в бедности недалеко от Ареццо (1380), получил образование во Флоренции, изучал греческий язык под руководством Мануила Хрисолораса, зарабатывал на жизнь копированием рукописей, подружился с Салютати и в двадцать четыре года получил назначение на должность секретаря в папской канцелярии в Риме. Следующие полвека он служил в курии, никогда не принимая даже мелких орденов, но носил церковную одежду. Ценя его энергию и образованность, курия отправила его в дюжину миссий. Из них он то и дело отвлекался на поиски классических рукописей; его полномочия папского секретаря открыли ему доступ к самым ревностно охраняемым или самым небрежно игнорируемым сокровищам монастырских библиотек в Санкт-Галле, Лангре, Вайнгартене и Рейхенау; его добыча была столь богата, что Бруни и другие гуманисты назвали ее эпохальной. Вернувшись в Рим, он написал для Мартина V энергичную защиту церковных догм, а затем, в частных собраниях, вместе с другими служащими курии посмеялся над христианским вероучением.29 Он сочинял диалоги и письма на грубой, но непринужденной латыни, сатирически высмеивая пороки духовенства, даже практикуя их в меру своих возможностей. Когда кардинал Сант-Анджело упрекнул его в том, что у него есть дети, что вряд ли подобает человеку в церковной одежде, и в том, что он содержит любовницу, что кажется неподобающим для мирянина, Поджио ответил со свойственной ему дерзостью: «У меня есть дети, что подобает мирянину, и у меня есть любовница, что является старым обычаем духовенства».30 В пятьдесят пять лет он бросил любовницу, подарившую ему четырнадцать детей, и женился на девушке восемнадцати лет. Тем временем он почти основал современную археологию, собирая древние монеты, надписи и статуи и с научной точностью описывая сохранившиеся памятники классического Рима. Он сопровождал папу Евгения IV на Флорентийский собор, ссорился с Франческо Филельфо и обменивался с ним восторженными ругательствами самой грубой непристойности, пересыпая их обвинениями в воровстве, атеизме и содомии. Снова оказавшись в Риме, он с особым удовольствием работал на папу-гуманиста Николая V. В семьдесят лет он написал свою знаменитую Liber facetiarum, сборник рассказов, сатир и непристойностей. Когда Лоренцо Валла стал работать в папском секретариате, Поджо напал на него в новой серии Invectivae, обвинив в воровстве, подлоге, предательстве, ереси, пьянстве и безнравственности. Валла ответил, посмеявшись над латынью Поджио, приведя его прегрешения против грамматики и идиоматики и выставив его в стороне как дурака в зрелом возрасте.31 Никто, кроме непосредственной жертвы, не воспринимал такие литературные нападки всерьез; это были конкурсные эссе по латинскому языку; более того, Поджио заявил в одном из них, что покажет, насколько хорошо классическая латынь может выражать самые современные идеи и самые частные проблемы. Он был настолько искусен в эрудиции, что «весь мир», по словам Веспасиано, «боялся его».32 Его перо, как и перо более позднего Аретина, стало орудием шантажа. Когда Альфонсо Неаполитанский затянул с признанием подаренной Поджо «Киропедии» Ксенофонта, переведенной на латынь, разгневанный гуманист намекнул, что хорошее перо может уколоть любого короля, и Альфонсо поспешно послал ему 500 дукатов, чтобы тот придержал язык. Наслаждаясь всеми инстинктами и порывами в течение семидесяти лет, Поджио написал трактат De miseriis humanae conditionis, в котором считал, что беды жизни перевешивают радости, и пришел к выводу, подобно Солону, что самые счастливые люди – это те, кто избегает рождения.33 В семьдесят два года он вернулся во Флоренцию, вскоре стал секретарем синьории и, наконец, был избран в саму синьорию. Он выразил свою признательность, написав историю Флоренции в стиле древних – политика, война и воображаемые речи. Другие гуманисты вздохнули с облегчением, когда, наконец, в возрасте семидесяти девяти лет он умер (1459). Его похоронили в Санта-Кроче; его статуя работы Донателло была установлена на фасаде дуомо, а в 1560 году, в результате некоторых переделок, она была установлена внутри собора как один из двенадцати апостолов.34
Очевидно, что христианство, как в богословии, так и в этике, утратило влияние, пожалуй, на большинство итальянских гуманистов. Некоторые из них, такие как Траверсари, Бруни и Манетти во Флоренции, Витторино да Фельтре в Мантуе, Гуарино да Верона в Ферраре и Флавио Бьондо в Риме, остались верны вере. Но для многих других открытие греческой культуры, продолжавшейся тысячу лет и достигшей высот в литературе, философии и искусстве в полной независимости от иудаизма и христианства, стало смертельным ударом по их вере в паулинскую теологию или в доктрину nulla salus extra ecclesiam – «нет спасения вне Церкви». Сократ и Платон стали для них неканонизированными святыми; династия греческих философов казалась им выше греческих и латинских отцов; проза Платона и Цицерона заставляла даже кардинала стыдиться греческого языка Нового Завета и латыни перевода Иеронима; величие императорского Рима казалось им благороднее робкого ухода убежденных христиан в монашеские кельи; свободомыслие и поведение греков времен Перикла или римлян времен Августа вызывали у многих гуманистов зависть, которая разбивала вдребезги христианский кодекс смирения, потусторонности, непорочности; они недоумевали, почему они должны подчинять тело, разум и душу власти церковников, которые сами теперь радостно обращены к миру. Для этих гуманистов десять веков между Константином и Данте были трагической ошибкой, дантовской потерей правильного пути; прекрасные легенды о Деве Марии и святых исчезли из их памяти, чтобы освободить место для «Метаморфоз» Овидия и двусмысленных од Горация; великие соборы теперь казались варварскими, а их исхудалые статуи потеряли всякое очарование для глаз, которые видели, пальцев, которые касались, Аполлона Бельведерского.
Поэтому гуманисты в целом вели себя так, словно христианство было мифом, отвечающим потребностям народного воображения и морали, но не подлежащим серьезному восприятию со стороны эмансипированных умов. Они поддерживали его в своих публичных заявлениях, исповедовали спасительную ортодоксию и пытались согласовать христианскую доктрину с греческой философией. Сама попытка предала их; негласно они признали разум высшим судом и почитали диалоги Платона наравне с Новым Заветом. Подобно софистам досократовской Греции, они прямо или косвенно, вольно или невольно подрывали религиозную веру своих слушателей. Их жизнь отражала их фактическое вероисповедание; многие из них принимали и практиковали этику язычества в чувственном, а не в стоическом смысле. Единственное бессмертие, которое они признавали, – это то, которое приходит через запись великих деяний; они своими перьями, а не Бог, наделяли людей им, определяли их вечную славу или позор. Через поколение после Козимо они согласились бы поделиться этой магической силой с художниками, которые вырезали или расписывали чучела покровителей или строили благородные здания, сохранявшие имя дарителя. Желание покровителей добиться такого мирского бессмертия было одной из самых сильных движущих сил в искусстве и литературе Возрождения.
Влияние гуманистов на протяжении целого века было доминирующим фактором в интеллектуальной жизни Западной Европы. Они научили писателей более острому чувству структуры и формы; они научили их также искусству риторики, излишествам языка, абракадабре мифологии, фетишизму классического цитирования, принесению значимости в жертву правильности речи и красоте стиля. Их увлечение латынью на столетие (1400–1500) отсрочило развитие итальянской поэзии и прозы. Они освободили науку от теологии, но препятствовали ей, поклоняясь прошлому и делая упор на эрудицию, а не на объективное наблюдение и оригинальное мышление. Как ни странно, наименьшее влияние они оказали в университетах. В Италии они уже были старыми, а в Болонье, Падуе, Пизе, Пьяченце, Павии, Неаполе, Сиене, Ареццо, Лукке факультеты права, медицины, теологии и «искусств», то есть языка, литературы, риторики и философии, были слишком закостенелыми в средневековых обычаях, чтобы допустить новый акцент на античную культуру; в лучшем случае они уступали, то тут, то там, кафедру риторики гуманисту. Влияние «возрождения письма» распространялось главным образом через академии, основанные князьями-покровителями во Флоренции, Неаполе, Венеции, Ферраре, Мантуе, Милане и Риме. Там гуманисты диктовали на греческом или латинском языке классический текст, который они собирались обсудить; на каждом этапе они комментировали на латыни грамматические, риторические, географические, биографические и литературные аспекты текста; их ученики записывали продиктованный текст и, на полях, большую часть комментариев; таким образом, копии классиков, а также комментарии к ним, множились и расходились по миру. Таким образом, эпоха Козимо была скорее периодом преданной учености, чем творческой литературы. Грамматика, лексикография, археология, риторика и критический пересмотр классических текстов были литературной славой того времени. Были созданы форма, механизм и содержание современной эрудиции; был построен мост, по которому наследие Греции и Рима перешло в современное сознание.
Со времен софистов ученые не занимали столь высокого места в обществе и политике. Гуманисты стали секретарями и советниками сенатов, синьоров, герцогов и пап, отвечая на их благосклонность классическими восхвалениями, а на их поношения – ядовитыми эпиграммами. Они превратили идеал джентльмена из человека с готовой шпагой и лязгающими шпорами во всесторонне развитую личность, достигшую мудрости и достоинства путем впитывания культурного наследия расы. Престиж их образованности и очарование их красноречия покорили заальпийскую Европу в то самое время, когда оружие Франции, Германии и Испании готовилось к завоеванию Италии. Страна за страной получала прививку новой культуры и переходила от средневековья к современности. В том же веке, когда была открыта Америка, были заново открыты Греция и Рим; литературные и философские преобразования имели для человеческого духа гораздо более глубокие результаты, чем кругосветные путешествия и исследования земного шара. Ведь именно гуманисты, а не мореплаватели освободили человека от догм, научили его любить жизнь, а не размышлять о смерти, и сделали европейский разум свободным.
Гуманизм повлиял на искусство в последнюю очередь, потому что он апеллировал скорее к интеллекту, чем к чувству. Главным покровителем искусства по-прежнему оставалась Церковь, а главной целью искусства – донести христианскую историю до людей, лишенных букв, и украсить дом Божий. Богородица и ее Младенец, страдающий и распятый Христос, пророки, апостолы, отцы и святые оставались необходимыми сюжетами скульптуры и живописи, даже в малом искусстве. Однако постепенно гуманисты привили итальянцам более чувственное восприятие красоты; откровенное восхищение здоровым человеческим телом – мужским или женским, предпочтительно обнаженным – пропитало образованные слои; утверждение жизни в литературе Возрождения, в противовес средневековому созерцанию иного мира, придало искусству тайный светский уклон; и, находя итальянских Афродит для позирования девственницам, а итальянских Аполлонов – Себастьянам, художники эпохи Лоренцо и позже вносили языческие мотивы в христианское искусство. В XVI веке, когда светские князья соперничали с церковниками в финансировании художников, Венус и Ариадна, Дафна и Диана, Музы и Грации бросили вызов господству Девы; но Мария, скромная мать, сохранила свое благотворное господство до конца искусства Ренессанса.








