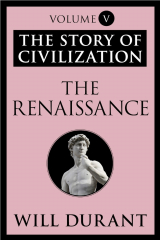
Текст книги "Возрождение (ЛП)"
Автор книги: Уильям Дюрант
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 73 страниц)
На первый взгляд, итальянское Возрождение не может похвастаться достойным урожаем философии. Его продукт не может сравниться с расцветом французской схоластики от Абеляра до Аквината, не говоря уже об «афинской школе». Самое известное имя в философии (если расширить временные рамки Ренессанса) – Джордано Бруно (1548?-1600), чьи работы лежат за пределами периода нашего исследования в этом томе. Остался Помпонацци; но кто ныне благоговеет перед его бедным героическим скептическим писком?
Гуманисты произвели философскую революцию, открыв и осторожно раскрыв мир греческой философии; но в большинстве своем, за исключением Валлы, они были слишком умны, чтобы выложить свои убеждения на стол. Университетские профессора философии были скованы схоластической традицией: потратив семь или восемь лет на продирание через эту пустыню, они либо бросали ее ради других областей знаний, либо загоняли в нее другое поколение, прославляя препятствия, которые сломили их волю и завели их интеллект в безопасный тупик. И кто знает, может быть, многие из них чувствовали определенную умственную и экономическую безопасность, ограничиваясь рекогносцировочными проблемами, тщательно и бесплодно сформулированными в невразумительной терминологии? На большинстве философских факультетов схоластика все еще была в моде и уже застывала с приближением смерти. Старые средневековые вопросы кропотливо пересматривались в старых средневековых формах диспутов и в гордых публикациях сотрудников.
Для возрождения философии в жизнь вошли два элемента: конфликт между платониками и аристотеликами и разделение аристотеликов на ортодоксов и аверроистов. В Болонье и Падуе эти конфликты превратились в настоящие дуэли, буквально в вопросы жизни и смерти. Гуманисты были в основном платониками; под влиянием Гемиста Плето, Бессариона, Теодора Газа и других греков они глубоко пили вино «Диалогов» и с трудом понимали, как кто-то может выносить сухую логику, бессильный «Органон» и свинцовую золотую середину осторожного Аристотеля. Но эти платоники твердо решили остаться христианами, и Марсилио Фичино, так сказать, как их представитель и делегат, посвятил половину своей жизни примирению двух систем мысли. Для этого он много учился, заходя так далеко, что дошел до Зороастра и Конфуция. Когда он добрался до Плотина и сам перевел «Эннеады», ему показалось, что он нашел в мистическом неоплатонизме ту шелковую нить, которая свяжет Платона с Христом. Он попытался сформулировать этот синтез в своей «Платоновской теологии», представляющей собой путаницу из ортодоксии, оккультизма и эллинизма, и нерешительно пришел к пантеистическому выводу: Бог есть душа мира. Это стало философией Лоренцо и его окружения, платонических академий в Риме, Неаполе и других местах; из Неаполя она дошла до Джордано Бруно; от Бруно перешла к Спинозе, а затем к Гегелю; она жива до сих пор.
Но и Аристотелю было что сказать, особенно если он мог быть неверно истолкован. Прав ли Аквинский, понимая его как учение о личном бессмертии, или прав Аверроэс, читая De anima как утверждение о бессмертии лишь коллективной души человечества? Ужасный Аверроэс, этот арабский людоед, которого итальянское искусство уже давно изобразило распростертым под ногами святого Фомы, был таким активным конкурентом за господство аристотеликов, что и Болонья, и Падуя были охвачены его ересью. Именно в Падуе Марсилий, получивший ее имя, утратил благоговение перед Церковью;* В Падуе Филиппо Альгери да Нола, предшественник Бруно, уроженца Нолы, впитал те страшные заблуждения, за которые его с горечью бросили в бочку с кипящей смолой.40 Николетто Верниас, будучи профессором философии в Падуе (1471–99), по-видимому, преподавал там доктрину, согласно которой бессмертна только мировая, а не индивидуальная душа;41 А его ученик Агостино Нифо изложил ту же идею в трактате De intellectu et daemonibus (1492). Обычно скептики пытались успокоить инквизицию, проводя различие (как это делал Аверроэс) между двумя видами истины – религиозной и философской: они утверждали, что какое-либо положение может быть отвергнуто в философии с точки зрения разума, но при этом принято на веру в Писании или Церкви. Нифо исповедовал этот принцип с безрассудным упрощением: Loquendum est ut plures, sentiendum ut pauci– «Мы должны говорить, как многие, мы должны думать, как немногие».42 Нифо изменил свои мысли или речь, как изменились его волосы, и примирился с ортодоксией. Будучи профессором философии в Болонье, он привлекал лордов, дам и толпы людей на лекции, драматизированные гримасами и выходками, солеными анекдотами и остроумием. В социальном плане он стал самым успешным противником Помпонацци.
Пьетро Помпонацци, микроскопическая бомба философии эпохи Возрождения, был настолько миниатюрен, что знакомые называли его Перетто – «маленький Петр». Но у него была большая голова, огромные брови, крючковатый нос, маленькие, черные, проницательные глаза: это был человек, обреченный относиться к жизни и мыслям с болезненной серьезностью. Родившись в Мантуе (1462) в патрицианском роду, он изучал философию и медицину в Падуе, получил обе степени в двадцать пять лет и вскоре стал там профессором. Вся скептическая традиция Падуи спустилась к нему и достигла в нем кульминации; по словам его поклонника Ванини, «Пифагор мог бы сказать, что душа Аверроэса переселилась в тело Помпонацци».43 Мудрость всегда кажется реинкарнацией или эхом, поскольку она остается неизменной через тысячу разновидностей и поколений ошибок.
Помпонацци продолжал преподавать в Падуе с 1495 по 1509 год; затем по городу пронеслись ветры войны и закрыли исторические залы университета. В 1512 году он переходит в Болонский университет. Там он оставался до конца своих дней, трижды женившись, постоянно читая лекции по Аристотелю и скромно уподобляя свое отношение к хозяину насекомому, изучающему слона.44 Он считал более безопасным предлагать свои идеи не как свои собственные, а как подразумеваемые или явные в Аристотеле, интерпретированные Александром Афродисийским. Временами его процедура кажется слишком скромной, явно подчиненной мертвому авторитету; но поскольку Церковь, вслед за Аквинским, утверждала, что ее доктрина – это доктрина Аристотеля, Помпонацци, возможно, чувствовал, что любая демонстрация ереси как истинно аристотелевской будет одним из способов, короче кола, подразнить ортодоксальный хвост. Пятый Латеранский собор под председательством Льва X (1513) осудил всех, кто утверждал, что душа едина и неделима у всех людей и что индивидуальная душа смертна. Три года спустя Помпонацци опубликовал свой главный труд «De immortalitate animae», в котором попытался показать, что осуждаемый взгляд в точности соответствует взглядам Аристотеля. Разум, говорил Аристотель Пьетро, на каждом шагу зависит от материи; самое абстрактное знание в конечном счете вытекает из ощущений; только через тело разум может воздействовать на мир; следовательно, развоплощенная душа, пережившая смертную раму, была бы бесфункциональным и беспомощным омутом. Как христиане и верные сыны Церкви, заключил Помпонацци, мы имеем право верить в бессмертие индивидуальной души; как философы – нет. Похоже, Помпонацци никогда не приходило в голову, что его аргументы не имеют силы против католицизма, который учит воскрешению тела, а также души. Возможно, он не воспринимал эту доктрину всерьез и не думал, что его читатели воспримут ее всерьез. Никто, насколько нам известно, не настаивал на этом против него.
Книга вызвала бурю. Францисканские монахи убедили дожа Венеции приказать публично сжечь все имеющиеся экземпляры, что и было сделано. Папскому двору были поданы протесты, но Бембо и Биббиена в то время занимали высокие посты в советах Льва и советовали ему, что выводы книги совершенно ортодоксальны; так оно и было. Лев не был одурачен; он прекрасно знал эту маленькую хитрость двух истин; но он довольствовался тем, что приказал Помпонацци написать приличное слово покорности.45 Пьетро подчинился, написав «Apologiae libri tres» (1518), в которой вновь утверждал, что как христианин он принимает все учение Церкви. Примерно в то же время Лев поручил Агостино Нифо составить ответ на книгу Помпонацци; поскольку Агостино любил споры, он выполнил это поручение с удовольствием и мастерством. Примечательно и, возможно, иллюстрирует сохраняющуюся антипатию между университетами и духовенством то, что, пока голова Помпонацци висела, так сказать, на инквизиторском балансе, три университета боролись за его услуги. Услышав, что Пиза стремится переманить его в свои залы, магистраты Болоньи, формально подчиняющиеся папе, но глухие к ярости францисканцев, подтвердили профессорское звание Помпонацци еще на восемь лет и повысили его годовое жалованье до 1600 дукатов (20 000 долларов?).46
В двух небольших книгах, которые он не опубликовал при жизни, Помпонацци продолжил свою скептическую кампанию. В «De incantatione» он свел к естественным причинам многие якобы сверхъестественные явления. Один врач написал ему об исцелениях, якобы вызванных заклинаниями или чарами; Пьетро запретил ему сомневаться. «Было бы смешно и нелепо, – писал он, – презирать видимое и естественное, чтобы прибегнуть к невидимой причине, реальность которой не гарантирована нам никакой твердой вероятностью».47 Как христианин он принимает ангелов и духов; как философ он их отвергает; все причины под Богом естественны. Отражая свое медицинское образование, он смеется над широко распространенной верой в оккультные источники исцеления: если бы духи могли лечить недуги плоти, они должны были бы быть материальными или использовать материальные средства, чтобы воздействовать на материальное тело; и он иронично изображает духов-целителей, которые спешат по улицам со своими атрибутами – пластырями, мазями и таблетками.48 Однако он признает определенные лечебные свойства некоторых растений и камней. Он признает библейские чудеса, но подозревает, что они были естественными. Вселенная управляется едиными и неизменными законами. Чудеса – это необычные проявления природных сил, чьи силы и методы известны нам лишь отчасти; а то, что люди не могут понять, они приписывают духам или Богу».49 Не противореча этому взгляду на естественную причинность, Помпонацци принимает многое из астрологии. По его мнению, не только жизнь людей зависит от действия небесных тел, но и все человеческие институты, включая религии, возникают, расцветают и разрушаются в зависимости от небесных влияний. Это относится и к христианству; в настоящее время, говорит Помпонацци, есть признаки того, что христианство умирает.50 Он добавляет, что как христианин отвергает все это как бессмыслицу.
Его последняя книга, De fato, кажется более ортодоксальной, поскольку является защитой свободы воли. Он признает ее несовместимость с божественным предвидением и всеведением, но стоит на своем сознании свободной деятельности и на необходимости предположить некоторую свободу выбора, если мы хотим, чтобы в человеке была хоть какая-то моральная ответственность. В своем трактате о бессмертии он столкнулся с вопросом, может ли моральный кодекс быть успешным без сверхъестественных наказаний и наград. Со стоической гордостью он утверждал, что достаточной наградой добродетели является сама добродетель, а не какой-либо посмертный рай;51 Но он признавал, что большинство людей можно побудить к порядочности только сверхъестественными надеждами и страхами. Поэтому, объяснял он, великие законодатели учили вере в будущее государство как экономичной замене вездесущей полиции; и, подобно Платону, он оправдывает привитие басен и мифов, если они могут помочь контролировать естественную порочность людей.52
Поэтому они придумали для добродетельных вечную награду в другой жизни, а для грешных – вечные наказания, которые их очень пугают. И большая часть людей, если они делают добро, делают его скорее из страха перед вечным наказанием, чем в надежде на вечное благо, поскольку наказания нам более известны, чем вечные блага. И поскольку это последнее средство может принести пользу всем людям, к какому бы сословию они ни принадлежали, законодатель, видя склонность людей к злу и желая общего блага, постановил, что душа бессмертна, не заботясь об истине, а только о праведности, дабы привести людей к добродетели.52a
Большинство людей, по его мнению, настолько просты умственно и настолько грубы морально, что с ними нужно обращаться как с детьми или инвалидами. Не стоит обучать их доктринам философии. «Эти вещи, – говорит он о своих собственных рассуждениях, – не следует сообщать простым людям, ибо они не способны воспринять эти тайны. Мы должны остерегаться даже вести беседы о них с невежественными священниками».53 Он делит людей на философов и религиозных деятелей и невинно полагает, что «только философы являются богами земли и отличаются от всех остальных людей, какого бы ранга и состояния они ни были, так же сильно, как настоящие люди отличаются от тех, что нарисованы на холсте».54
В более скромные моменты он осознавал узкие пределы человеческого разума и почетную тщетность метафизики. Он представлял себя в последние годы жизни изможденным и измученным размышлениями о том и о сем и уподоблял философа Прометею, который за то, что пожелал похитить огонь с небес – то есть ухватиться за божественное знание, – был приговорен к тому, чтобы быть прикованным к скале и чтобы его сердце бесконечно грызли стервятники.55 «Мыслитель, который допытывается до божественных тайн, подобен Протею….. Инквизиция преследует его как еретика, толпа насмехается над ним как над глупцом».56
Споры, в которые он вступал, изматывали его и подрывали здоровье. Он страдал от одной болезни за другой, пока наконец не решил умереть. Он выбрал тяжелую форму самоубийства: уморил себя голодом. Против всех доводов и угроз, одерживая победу даже над силой, он отказывался ни есть, ни говорить. После семи дней такого режима он почувствовал, что выиграл битву за право умереть и теперь может спокойно говорить. «Я ухожу с радостью», – сказал он. Кто-то спросил его: «Куда ты идешь?» «Туда, куда идут все смертные», – ответил он. Его друзья предприняли последнюю попытку уговорить его поесть, но он предпочел умереть (1525).57 Кардинал Гонзага, который был его учеником, перевез останки в Мантую и похоронил их там, а также, с типичной для эпохи Возрождения терпимостью, воздвиг статую в память о нем.
Помпонацци придал философскую форму скептицизму, который на протяжении двух веков атаковал основы христианской веры. Неудача крестовых походов; приток мусульманских идей через крестовые походы, торговлю и арабскую философию; перемещение папства в Авиньон и его нелепое разделение в расколе; открытие языческого греко-римского мира, полного мудрецов и великих искусств, но не имеющего Библии и Церкви; распространение образования и его все больший выход из-под церковного контроля; безнравственность и мирская сущность духовенства, даже пап, наводящая на мысль об их частном неверии в публично исповедуемое вероучение; использование ими идеи чистилища для сбора средств на свои цели; реакция растущих меркантильных и денежных классов против церковного господства; превращение Церкви из религиозной организации в светскую политическую власть: все эти и многие другие факторы в совокупности сделали итальянские средние и высшие классы в конце XV – начале XVI века «самыми скептическими из европейских народов».»58
Из поэзии Полициана и Пульчи, а также из философии Фичино ясно, что в кругу Лоренцо не было реальной веры в другую жизнь; а настроения Феррары проявляются в том, как Ариосто высмеивает инферно, которое Данте казалось таким ужасающе реальным. Почти половина литературы Возрождения – антиклерикальная. Многие кондотьеры были открытыми атеистами;59 Кортигиани, или придворные, были гораздо менее религиозны, чем кортигиане, или куртизанки; а вежливый скептицизм был признаком и обязательным условием джентльмена.60 Петрарка сетовал на то, что в сознании многих ученых было признаком невежества предпочесть христианскую религию языческой философии.61 В Венеции в 1530 году было обнаружено, что большинство представителей высшего сословия пренебрегают своим пасхальным долгом – то есть не ходят на исповедь и причастие даже раз в год.62 Лютер утверждал, что в Италии среди образованных слоев населения распространена поговорка, произносимая при посещении мессы: «Давайте, давайте соответствовать популярному заблуждению».63
Что касается университетов, то один любопытный случай показывает нравы профессоров и студентов. Вскоре после смерти Помпонацци его ученик Симоне Порцио, приглашенный читать лекции в Пизу, выбрал в качестве текста «Метеорологию» Аристотеля. Аудитории не понравилась эта тема. Несколько человек нетерпеливо воскликнули: Quid de anima? – «А как же душа?». Порцио пришлось отложить «Метеорологию» в сторону и взяться за «De anima» Аристотеля; тут же все внимание аудитории было приковано к нему.64 Мы не знаем, выражал ли Порцио в этой лекции свое убеждение, что человеческая душа ничем существенным не отличается от души льва или растения; мы знаем, что он говорил об этом в своей книге De mente humana – «О человеческом разуме»;65 И, похоже, ему удалось спастись невредимым. Эухенио Тарральба, обвиненный испанской инквизицией в 1528 году, рассказывал, что в юности он учился в Риме у трех учителей, и все они учили, что душа смертна.66 Эразм был поражен, обнаружив, что в Риме основы христианской веры стали предметом скептических дискуссий среди кардиналов. Один церковник взялся объяснить ему нелепость веры в будущую жизнь; другие с улыбкой отзывались о Христе и апостолах; многие, уверяет он, утверждали, что слышали, как папские чиновники хулили мессу.67 Низшие классы, как мы увидим, сохранили свою веру; тысячи людей, слушавших Савонаролу, наверняка уверовали; а пример Виттории Колонны показывает, что благочестие может пережить воспитание. Но душа великого вероучения была пронзена стрелами сомнений, и великолепие средневекового мифа потускнело от накопленного им золота.
V. GUICCIARDINIМысль Гвиччардини подводит итог скептическому разочарованию времени. Это был один из самых острых умов эпохи; слишком циничный для нашего вкуса, слишком пессимистичный для наших надежд, но проницательный, как блуждающий прожектор в небе, и откровенный с прямотой писателя, который принял мудрое решение о единственной посмертной публикации.
Франческо Гиччардини изначально имел преимущество аристократического происхождения. С детства он слышал образованные разговоры на хорошем итальянском языке и научился воспринимать жизнь с реализмом и изяществом человека, уверенного в своих силах. Его двоюродный дед несколько раз был гонфалоньером республики; дед по очереди занимал большинство главных постов в правительстве; отец знал латынь и греческий и занимал несколько дипломатических постов; «моим крестным отцом, – писал Франческо, – был мессер Марсилио Фичино, величайший философ-платоник, живший тогда в мире».68 – Что не помешало историку стать аристотелианцем. Он изучал гражданское право, а в возрасте двадцати трех лет был назначен профессором права во Флоренции. Он много путешествовал, даже отмечал «фантастические и причудливые изобретения» Иеронима Босха во Фландрии.69 В двадцать шесть лет он женился на Марии Сальвиати, «потому что Сальвиати, помимо своего богатства, превосходили другие семьи влиянием и властью, а я очень любил эти вещи».70
Тем не менее, у него была страсть к совершенству и самодисциплина для создания произведений литературного искусства. Его «История Флоренции», написанная в двадцать семь лет, – один из самых удивительных продуктов эпохи, когда гений, раздутый восстановленным наследием, но освобожденный от традиций, струился полноводным и свободным потоком в дюжине ручьев. Книга ограничивается коротким отрезком флорентийской истории, с 1378 по 1509 год; но она описывает этот период с точностью деталей, критическим изучением источников, проницательным анализом причин, зрелостью и беспристрастностью суждений, владением ярким повествованием на прекрасном итальянском языке, с которыми не сравнится «История Фиорентины», написанная Макиавелли одиннадцать лет спустя на шестом десятилетии его жизни.
В 1512 году, будучи еще тридцатилетним юношей, Гиччардини был отправлен послом к Фердинанду Католическому. Вскоре Лев X и Климент VII назначили его губернатором Реджо-Эмилии, Модены и Пармы, затем генерал-губернатором всей Романьи, а потом генерал-лейтенантом всех папских войск. В 1534 году он вернулся во Флоренцию и поддерживал Алессандро Медичи на протяжении всего пятилетнего периода тирании этого негодяя. В 1537 году он был главным агентом, способствовавшим воцарению Козимо Младшего на пост герцога Флоренции. Когда его надежды на господство над Козимо угасли, Гвиччардини удалился на сельскую виллу, чтобы за один год написать десять томов своего шедевра – «Истории Италии».
Она уступает его ранним работам в свежести и энергичности стиля; Гвиччардини тем временем изучал гуманистов и скатился к формальности и риторике; тем не менее, это величественный стиль, предвещающий монументальную прозу Гиббона. Подзаголовок «История войн» ограничивает тему военными и политическими вопросами; в то же время область охвата расширяется до всей Италии и всей Европы, связанной с Италией; это первая история, рассматривающая европейскую политическую систему как единое целое. Гвиччардини пишет о том, что по большей части знал из первых рук, а ближе к концу – о событиях, в которых он принимал участие. Он тщательно собирал документы и был гораздо более точен и надежен, чем Макиавелли. Если, подобно своему более знаменитому современнику, он возвращается к древнему обычаю придумывать речи для действующих лиц своего повествования, то откровенно заявляет, что они верны лишь по существу; некоторые он указывает как подлинные; и все они эффективно используются для изложения обеих сторон спора или для раскрытия политики и дипломатии европейских государств. В совокупности эта масштабная история и блестящая «История Фиорентины» делают Гвиччардини величайшим историком XVI века. Как Наполеон стремился увидеть Гете, так и Карл V в Болонье заставлял лордов и генералов ждать в предбаннике, пока он долго беседовал с Гиччардини. «Я могу создать сотню дворян за час, – говорил он, – но я не могу создать такого историка за двадцать лет».71
Будучи человеком мира, он не слишком серьезно относился к попыткам философов поставить диагноз Вселенной. Он, должно быть, улыбался волнению, вызванному Помпонацци, если замечал его. Поскольку сверхъестественное нам непостижимо, он считал бесполезным воевать из-за соперничества философий. Несомненно, все религии основаны на предположениях и мифах, но это простительно, если они помогают поддерживать социальный порядок и моральную дисциплину. Ведь человек, по мнению Гиччардини, по природе своей самолюбив, безнравственен, беззаконен; он должен на каждом шагу сдерживаться обычаем, моралью, законом или силой; и религия обычно является наименее неприятным средством для достижения этих целей. Но когда религия становится настолько испорченной, что оказывает скорее деморализующее, чем морализующее влияние, общество оказывается в плохом положении, поскольку религиозные опоры его морального кодекса иссякли. Гвиччардини пишет в своих секретных записях:
Ни для кого не является более неприятным, чем для меня, видеть честолюбие, любостяжание и излишества священников, не только потому, что всякое нечестие ненавистно само по себе, но и потому, что… такое нечестие не должно находить места в людях, чье состояние жизни подразумевает особое отношение к Богу….. Мои отношения с несколькими папами заставляли меня желать их величия в ущерб моим собственным интересам. Если бы не это соображение, я бы любил Мартина Лютера как самого себя; не для того, чтобы освободить себя от законов, налагаемых на нас христианством… но для того, чтобы увидеть эту свору негодяев (questa caterva di scelerati) заключенной в должные рамки, чтобы они были вынуждены выбирать между жизнью без преступления и жизнью без власти».72
Тем не менее его собственная мораль вряд ли превосходила мораль священников. Его личный кодекс заключался в том, чтобы приспосабливаться к тем силам, которые в данный момент верховодили; свои общие принципы он оставил для своих книг. Там он тоже мог быть циничным, как Макиавелли:
Искренность радует и заслуживает похвалы, а плутовство вызывает порицание и ненависть; первое, однако, полезнее для других, чем для самого себя. Поэтому я должен хвалить того, чей обычный образ жизни был открытым и искренним, и кто прибегал к диссимуляции только в некоторых важных вещах; это тем лучше удается, чем больше человек сумел создать себе репутацию искреннего человека.73
Он видел шибболезы различных политических партий Флоренции: каждая группа, хотя и кричала о свободе, хотела власти.
Мне кажется очевидным, что желание доминировать над своими собратьями и утверждать свое превосходство естественно для человека, так что мало найдется людей, настолько любящих свободу, что они не воспользуются благоприятной возможностью властвовать и господствовать над ней. Присмотритесь к поведению обитателей того же города; отметьте и исследуйте их раздоры, и вы увидите, что их цель – превосходство, а не свобода. Те, кто являются передовыми гражданами, не стремятся к свободе, хотя это и звучит в их устах; на самом же деле в их сердцах – увеличение собственного господства и превосходства. Свобода для них – это простое слово, за которым скрывается их жажда превосходства во власти и почестей.74
Он презирал купеческую республику Содерини, привыкшую защищать свои свободы не оружием, а золотом. Он не верил ни в народ, ни в демократию:
Говорить о народе – значит говорить о безумцах, ибо народ – это чудовище, полное смятения и заблуждений, и его тщеславные убеждения так же далеки от истины, как Испания от Индии….. Опыт показывает, что вещи очень редко происходят в соответствии с ожиданиями множества людей…. Причина в том, что последствия… обычно зависят от воли немногих, чьи намерения и цели почти всегда отличаются от намерений и целей многих.75
Гиччардини был одним из тысяч людей в Италии эпохи Возрождения, которые не имели никакой веры; которые утратили христианскую идиллию, познали пустоту политики, не ждали утопии, не мечтали, и беспомощно сидели, пока мир войны и варварства захлестывал Италию; мрачные старики, раскрепощенные умом и разбитые надеждами, которые слишком поздно обнаружили, что когда миф умирает, свободной остается только сила.








