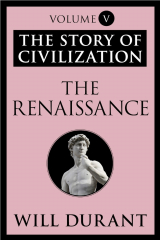
Текст книги "Возрождение (ЛП)"
Автор книги: Уильям Дюрант
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 73 страниц)
Десять карикатур были отправлены в Брюссель, и там Бернаерт ван Орли, который был учеником Рафаэля в Риме, руководил переносом рисунков на шелк и шерсть. В течение трех лет семь гобеленов были закончены, а все десять – к 1520 году. 26 декабря 1519 года семь гобеленов были развешаны на стенах Сикстинской галереи, и на них была приглашена элита Рима. Они произвели фурор. Парис де Грассис отметил в своем дневнике: «Вся капелла онемела от вида этих полотен; по всеобщему согласию, нет ничего прекраснее в мире».77 Каждый гобелен стоил в общей сложности 2000 дукатов (25 000 долларов); расходы на эти десять картин помогли опустошить финансы Льва и побудили к дальнейшей продаже индульгенций и услуг.* Лео, должно быть, чувствовал, что теперь он и Рафаэль встретились с Юлием и Микеланджело в битве искусств в одной капелле и унесли приз.
Удивительная плодовитость Рафаэля – за тридцать семь лет его творчества она была больше, чем Микеланджело за восемьдесят девять – затрудняет подведение итогов, ведь почти каждое его произведение – шедевр, заслуживающий внимания. Он создавал мозаики, изделия из дерева, ювелирные украшения, медали, керамику, бронзовые сосуды и рельефы, парфюмерные шкатулки, статуи, дворцы. Микеланджело был встревожен, узнав, что Рафаэль сделал модель и что с нее флорентийский скульптор Лоренцетто Лотти вырезал из мрамора статую Ионы, сидящего на ките; но результат его успокоил – Рафаэль неразумно вышел из своей живописной стихии. В архитектуре у него получалось лучше, ведь там его направлял друг Браманте. Около 1514 года, когда он был назначен ответственным за собор Святого Петра, его друг Фабио Кальво перевел для него Витрувия на итальянский язык, и с тех пор он был горячим поклонником классических архитектурных стилей и форм. Его продолжение «Лоджии» Браманте так понравилось Льву, что Папа назначил его директором всех архитектурных и художественных отделов Ватикана. Рафаэль построил несколько невыдающихся дворцов в Риме и участвовал в проектировании элегантной виллы Мадама для кардинала Джулио Медичи; однако это была в основном работа Джулио Романо как архитектора и художника и Джованни да Удине как декоратора. Единственный сохранившийся архитектурный шедевр Рафаэля – Палаццо Пандольфини, построенный по его планам после его смерти; он до сих пор входит в число лучших дворцов Флоренции. С возвышенным равнодушием он обратил свои таланты на службу своему другу банкиру Чиги, построил для него капеллу в церкви Санта-Мария-дель-Пополо, а для его лошадей такие конюшни (Stalle Chigiane, 1514), которые могли бы послужить дворцом. Чтобы понять Рафаэля и Рим Льва, мы должны на мгновение остановиться и посмотреть на вопиющего Чиги.
VIII. АГОСТИНО ЧИГИОн был типичным представителем новой группы в Риме: богатых купцов или банкиров, обычно неримского происхождения, чье богатство отодвигало в тень старую римскую знать, а щедрость по отношению к художникам и писателям превосходила только щедрость пап и кардиналов. Родившись в Сиене, он впитывал финансовые тонкости с ежедневной пищей. К сорока трем годам он стал главным итальянским ростовщиком республик и королевств, как христианских, так и неверных. Он финансировал торговлю с дюжиной стран, включая Турцию, и по аренде у Юлия II приобрел монополию на производство квасцов и соли.78 В 1511 году он дал Юлию дополнительный повод для войны с Феррарой – герцог Альфонсо осмелился продавать соль по более низкой цене, чем Агостино мог себе позволить.79 Его фирма имела филиалы в каждом крупном итальянском городе, а также в Константинополе, Александрии, Каире, Лионе, Лондоне и Амстердаме. Под его флагом ходило сто судов; двадцать тысяч человек находились на его жалованье; полдюжины государей посылали ему подарки; его лучшая лошадь была получена от султана; когда он посещал Венецию (которой он ссудил 125 000 дукатов), его усаживали рядом с дожем.80 Когда Лев X попросил его оценить свое богатство, он ответил, возможно, из соображений налогообложения, что это невозможно; однако его годовой доход считался равным 70 000 дукатов (875 000 долларов). Его серебряные тарелки и украшения по количеству равнялись всем римским аристократам вместе взятым. Его кровать была вырезана из слоновой кости и инкрустирована золотом и драгоценными камнями. Светильники в его ванной комнате были из чистого серебра.81 У него была дюжина дворцов и вилл, самой богато украшенной из которых была вилла Чиги на западном берегу Тибра. Спроектированная Бальдассаре Перуцци, украшенная картинами Перуцци, Рафаэля, Содомы, Джулио Романо и Себастьяно дель Пьомбо, она была названа римлянами по завершении строительства в 1512 году самым роскошным дворцом в Риме.
Банкеты Чиги пользовались почти такой же репутацией, как банкеты Лукулла во времена Цезаря. В конюшнях, которые только что закончил строить Рафаэль, и до того, как их заняли более красивые звери, чем люди, Агостино в 1518 году развлекал папу Льва и четырнадцать кардиналов трапезой, которая с гордостью обошлась ему в 2000 дукатов (25 000 долларов?). Во время этого знатного приема были украдены одиннадцать массивных серебряных тарелок, предположительно слугами из свиты гостей. Чиги запретил какие-либо поиски и выразил вежливое удивление, что украдено так мало.82 Когда пир закончился, шелковый ковер, гобелены и изящная мебель были убраны, и сто лошадей заполнили стойла.
Через несколько месяцев банкир устроил еще один ужин, на этот раз в лоджии виллы, выходящей на реку. После каждого блюда все серебро, использованное при его подаче, бросали в Тибр на глазах у гостей, чтобы заверить их, что ни одна тарелка не будет использована дважды. После банкета слуги Чиги выловили серебро из сети, которую тайно опустили в поток под окнами лоджии.83 На обеде, данном в главном зале виллы 28 августа 1519 года, каждому гостю, включая папу Льва и двенадцать кардиналов, подавали блюда из серебра или золота с безупречно выгравированными девизом, гербом и гербовой печатью, и кормили особой рыбой, дичью, овощами, фруктами, деликатесами и винами, только что привезенными для этого случая из его собственной страны или местности.
Чиги пытался искупить эту плебейскую демонстрацию богатства открытой поддержкой литературы и искусства. Он профинансировал редактирование Пиндара ученым Корнелио Бениньо из Витербо и установил в своем доме пресс для его печати; греческий шрифт, набранный для этого пресса, превосходил по красоте тот, который Альдус Мануций использовал для публикации «Од» за два года до этого. Это был первый греческий текст, напечатанный в Риме (1515). Через год в том же издательстве вышло правильное издание «Феокрита». Будучи человеком скромного образования, Агостино гордился своей дружбой с Бембо, Джовио и даже Аретино; в этом последнем случае римская пословица pecunia non olet – «деньги не пахнут» – включала в себя переходный глагол. Помимо денег и любовницы, Чиги любил все формы красоты, созданные искусством. Он соперничал со Львом в заказах художникам и весело вел его за собой в языческом толковании Ренессанса. Он собрал в своих дворцах и виллах такое количество произведений искусства, что хватило бы на целый музей. Похоже, он считал свою виллу не только своим домом, но и общественной галереей искусств, куда время от времени допускалась публика.
На этой вилле, на вышеупомянутом ужине 28 августа 1519 года, на котором присутствовал сам Лев, Чиги наконец женился на верной любовнице, с которой прожил предыдущие восемь лет. Восемь месяцев спустя он умер, через несколько дней после смерти Рафаэля. Его имущество, оцененное в 800 000 дукатов (10 000 000 долларов?), было разделено в основном между его детьми. Лоренцо, старший сын, вел разгульный образ жизни и в 1553 году был признан сумасшедшим. Вилла Чиги была продана второму кардиналу Алессандро Фарнезе за небольшую сумму около 1580 года, и с тех пор носила имя Фарнезина.
IX. РАФАЭЛЬ: ПОСЛЕДНЯЯ ФАЗАРафаэль принимал мелкие заказы от веселого банкира еще в 1510 году. В 1514 году он написал для него фреску в церкви Санта-Мария-делла-Паче. Пространство было узким и неровным; Рафаэль сделал его подходящим, разместив в нем четырех сивилл – кумейскую, персидскую, фригийскую, тибуртинскую – языческих оракулов, стерилизованных здесь с сопровождающими их ангелами. Это изящные фигуры, поскольку Рафаэль вряд ли мог нарисовать что-либо без изящества; Вазари считал их лучшей работой молодого мастера. Они слабо подражают сибиллам Анджело, за исключением Тибуртина; здесь жрица, изможденная возрастом и напуганная злой судьбой, которую она предсказывает, – фигура оригинальная и драматичная. Согласно истории, не прослеживаемой за пределами семнадцатого века, между Рафаэлем и казначеем Чиги возникло недопонимание по поводу платы за эти сибилы. Рафаэль получил пятьсот дукатов, но, закончив работу, потребовал дополнительную плату. Казначей считал, что пятьсот уже выплаченных дукатов – это все, что ему причитается. Рафаэль предложил казначею назначить компетентного художника для оценки фресок; чиновник выбрал Микеланджело; Рафаэль согласился. Микеланджело, несмотря на свою мнимую ревность к Рафаэлю, рассудил, что каждая голова на картине стоит сто дукатов. Когда изумленный казначей донес это решение до Чиги, банкир приказал ему немедленно выплатить Рафаэлю еще четыреста дукатов. «Будьте с ним ласковы, – предупредил он, – чтобы он был доволен. Если он заставит меня заплатить за драпировки, я буду разорен».84
Чиги должен был быть осторожен, ведь в том же году Рафаэль написал для него восхитительную фреску на вилле Чиги «Триумф Галатеи». Сюжет был взят из «Гиостры» Полициана: Полифем, одноглазый циклоп, пытается соблазнить нимфу Галатею своими песнями и флейтой; она отворачивается от него с презрением, как бы говоря: «Кто выйдет замуж за художника?» – и отдает поводья двум дельфинам, которые вытаскивают ее похожий на раковину корабль в море. Слева от нее крепкую нимфу весело схватывает могучий Тритон, а из облаков амуры пускают лишние стрелы, призывая к любви. Здесь языческий Ренессанс в самом разгаре, и Рафаэль с удовольствием изображает женщин такими, какими они должны быть, по мнению его яркого воображения.
В 1516 году он украсил ванную комнату кардинала Биббиены фресками, прославляющими Венеру и триумфы любви. В 1517 году он еще более сладострастно развлекался, создавая эскизы для потолка и подвесок центрального зала виллы Чиги. Здесь он приспособил свою гениальную фантазию к сказке из «Метаморфоз» Апулея. Психея, дочь царя, своей красотой вызывает зависть Венеры; злобная богиня велит своему сыну Купидону внушить Психее страсть к самому презренному мужчине, которого только можно найти. Купидон спускается на землю, чтобы выполнить свою миссию, но влюбляется в Психею с первого прикосновения. Он навещает ее в темноте и просит подавить любопытство, чтобы узнать, кто он такой. Однажды ночью она неизбежно встает с постели, зажигает лампу и с восторгом видит, что спала с самым красивым из богов. В волнении она позволяет капле горячего масла упасть на его божественное плечо. Он просыпается, ругает ее за любопытство и в гневе покидает ее, не понимая, что отсутствие любопытства у женщины в таких случаях деморализует общество. Психея бродит по земле в унынии. Венера сажает Купидона в тюрьму за непослушание матери и жалуется Юпитеру, что небесная дисциплина ухудшается. Юпитер посылает Меркурия за Психеей, которая становится рабыней Венеры, подвергшейся насилию. Купидон сбегает из заточения и умоляет Юпитера даровать ему Психею. Озадаченный бог, разрываясь, как обычно, между противоположными молитвами, созывает олимпийских божеств для обсуждения этого вопроса. Сам он, поддавшись юношескому обаянию, принимает сторону Купидона; благодушные боги голосуют за освобождение Психеи, делают ее богиней и отдают Купидону, а в финале празднуют на пиршестве бракосочетание Купидона и Психеи. Нас уверяют, что эта история – благочестивая аллегория, в которой Психея олицетворяет человеческую душу, которая, очистившись страданием, попадает в рай. Но Рафаэль и Чиги увидели в мифе не религиозный символизм, а возможность созерцать совершенные мужские и женские формы. Однако в чувственности Рафаэля есть утонченность и изящество, которые обезоруживают пуританскую критику; очевидно, гениальный Лео не нашел в них ничего предосудительного. Рафаэлю принадлежат только фигуры и композиция; Джулио Романо и Франческо Пенни написали сцены по его эскизам, а Джованни да Удине добавил манящие венки, усыпанные фруктами и цветами. Школа Рафаэля превратилась в передаточный механизм, конечным продуктом которого почти наверняка была та или иная форма прекрасного.
Никогда языческое и христианское не сливались так гармонично, как у Рафаэля. Тот самый мирской юноша, который жил как принц, мимолетно любил многих женщин и (если можно осмелиться на такую аномалию) резвился на потолках с обнаженными мужчинами и женщинами, написал в эти же годы (1513–20) одни из самых привлекательных картин в истории. При всей своей бесхитростной чувственности он всегда возвращался к Мадонне как к своей любимой теме; он изобразил ее пятьдесят раз. Иногда ему помогал ученик, как, например, в «Мадонне дельи Импаната»; но в основном он работал над этим видом живописи своей собственной рукой и с оттенком старого умбрийского благочестия. Сейчас (1515) он пишет Сикстинскую Мадонну для монастыря Сан-Систо в Пьяченце:* идеальная пирамидальная композиция; убедительный реализм мученика-старовера св. Сикста; скромная св. Барбара, немного слишком красивая и слишком пышно одетая; зеленое одеяние Богородицы, поверх красного, развеваемое небесными ветрами; Младенец, вполне человечный в своей растрепанной невинности; простое румяное лицо Мадонны, немного печальное и удивленное (как будто Ла Форнарина, которая, возможно, позировала для этой картины, осознала свою непригодность); занавес, раздвинутый ангелами позади Девы, впускающей ее в рай: это любимая картина всего христианства, самое любимое произведение руки Рафаэля. Почти так же прекрасна и, возможно, более трогательна, несмотря на свою традиционную форму, картина «Святое семейство под дубом» (Прадо), которую также называют Ла Перла, «Жемчужная мадонна». В «Мадонне делла Седиа или Седжола» (Питти) настроение менее евангельское, более человеческое; Мадонна – молодая итальянская мать, пышнотелая и тихо страстная; она прижимает своего толстого младенца с собственнической и защитной любовью, а он робко прижимается к ней, как будто услышал какой-то миф об истреблении невинных. Одна такая Мадонна могла бы искупить вину многих Форнаринов.
Рафаэль написал сравнительно немного картин с изображением Христа. Его жизнерадостный дух боялся созерцать или изображать страдания; или, возможно, как и Леонардо, он понимал невозможность изображения божественного. В 1517 году, вероятно, в сотрудничестве с Пенни, он написал «Христа, несущего крест» для монастыря Санта-Мария делло Спасимо в Палермо, откуда картина стала называться «Спасимо ди Сицилия». По словам Вазари, она пережила немало приключений: корабль, перевозивший ее на Сицилию, погиб во время шторма; упакованная картина благополучно переплыла воды и приземлилась в Генуе; «даже ярость ветров и волн, – говорит Вазари, – уважала такую картину». Ее снова переправили и установили в Палермо, где «она стала более знаменитой, чем гора Вулкана».86 В XVII веке Филипп IV Испанский тайно перевез ее в Мадрид. Христос на этой картине – просто измученный и побежденный человек, не передающий ощущения принятой и выполненной миссии. В «Видении Иезекииля» Рафаэлю лучше удалось создать образ божественности, хотя и здесь он заимствует своего величественного Бога из «Сотворения Адама» Микеланджело.
К этому многолюдному периоду относится «Святая Цецилия», почти столь же популярная, как и «Сикстинская мадонна». Одна болонская дама осенью 1513 года объявила, что слышала небесные голоса, которые просили ее посвятить капеллу святой Цецилии в церкви Сан-Джованни-дель-Монте. Родственник взялся построить часовню и попросил своего дядю кардинала Лоренцо Пуччи заказать у Рафаэля за тысячу золотых скуди подходящую картину для алтаря. Поручив Джованни да Удине изобразить музыкальные инструменты, Рафаэль закончил картину в 1516 году и отправил ее в Болонью, как мы уже видели, с любезным письмом к Франчиа. Не нужно верить, что Франчиа был смертельно поражен ее красотой, чтобы почувствовать великолепие работы, ее ощущение музыки как чего-то почти небесного, ее святого Павла в «коричневом кабинете», ее святого Иоанна в почти девичьем экстазе, ее прекрасную Цецилию, ее еще более прекрасную Магдалину – здесь преображенную в очаровательную невинность – и живые свет и тени на драпировке и на ногах Магдалины.
Появились и мастерские портреты. Бальдассаре Кастильоне (Лувр) – одна из самых добросовестных работ Рафаэля, бесконечно манящая, среди его портретов уступающая только Юлию II. Сначала вы видите странный пушистый головной убор, затем мохнатую мантию и густую бороду, и представляете, что это мусульманский поэт или философ, или раввин, которого видел Рембрандт; затем мягкие глаза, рот и сцепленные руки открывают нежного, сентиментального, убитого горем министра Изабеллы при дворе Льва; стоит задержаться над этим портретом перед чтением «Придворного». На «Биббиене» кардинал изображен уже в зрелом возрасте, уставшим от своих венер и примирившимся с христианством.
La donna velata не является бесспорно рафаэлевской, но это почти наверняка та картина, которую Вазари описывает как портрет любовницы Рафаэля. Ее черты – те, что он использовал для Магдалины, даже для Сесилии, возможно, для Сикстинской Мадонны – здесь она темная и скромная, длинная вуаль спадает с ее головы, на шее циркуль из драгоценных камней, а пышные одежды свободно обтягивают ее фигуру. Картина «Форнарина» в галерее Боргезе, вероятно, написана Рафаэлем, но не так явно изображает его хозяйку, как утверждали более ранние взгляды. Это слово означает женщину-пекаря, жену или дочь пекаря; но такие имена, как Смит или Плотник, ничего не говорят о роде занятий их носительницы. Эта дама не особенно привлекательна; в ней не хватает того скромного облика, который делает более очаровательными такие нескромные откровения.* Кажется невероятным, чтобы скромная Дама в вуали была тем же человеком, что и эта смелая раздатчица торопливых радостей; но, в конце концов, у Рафаэля было больше любовниц, чем одна.
Однако он был более верен своей любовнице, чем можно ожидать от художников, которые более чувствительны к красоте, чем к разуму. Когда кардинал Биббиена предложил ему жениться на Марии Биббиене, племяннице кардинала, Рафаэль, обязанный ему богатыми заказами, дал неохотное согласие (1514); но он откладывал из месяца в месяц и из года в год исполнение этой верности; и традиция гласит, что Мария, которую так много раз откладывали, умерла от разрыва сердца.87 Вазари предполагает, что Рафаэль медлил в надежде стать кардиналом; для такого возвышения брак был главным препятствием, а любовница – незначительным. Между тем художник, похоже, держал свою любовницу в непосредственной близости от места работы. Когда расстояние между виллой Чиги, где Рафаэль создавал «Историю Психеи», и жилищем его любовницы привело к большой потере времени, банкир устроил даму в одной из квартир виллы; «вот почему, – говорит Вазари, – работа была закончена».88 Мы не знаем, с этой ли любовницей Рафаэль предавался «необычайно бурному дебошу», которому Вазари приписывает его смерть.89
Его последняя картина – одна из лучших интерпретаций евангельского сюжета. В 1517 году кардинал Джулио Медичи поручил Рафаэлю и Себастьяно дель Пьомбо написать алтарные образы для Нарбонского собора, епископом которого его назначил Франциск I. Себастьяно давно чувствовал, что его талант, по крайней мере, равен таланту Рафаэля, хотя и не так признан; теперь у него был шанс проявить себя. Он выбрал в качестве сюжета воскрешение Лазаря и заручился помощью Микеланджело в создании своего эскиза. Подстегнутый конкуренцией, Рафаэль достиг своего последнего триумфа. Он взял для своей темы рассказ Матфея об эпизоде на горе Фавор:
По прошествии же шести дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, и преобразился пред ними; и просияло лице Его, как солнце, и одежды Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, говорившие с Ним….. И когда они возвратились к народу, пришел к Нему некий человек, преклонив колена и говоря: Господи, помилуй сына моего, ибо он безумен и болен; ибо часто впадает в огонь и часто в воду. И привел я его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его».90
Рафаэль взял обе эти сцены и объединил их, чрезмерно напрягая единство времени и места. Над вершиной горы парит в воздухе фигура Христа, Его лицо преображено экстазом, одежды сияют белизной от небесного света; по одну сторону от Него Моисей, по другую – Илия, а под ними, лежа на плато, три благосклонных апостола. У подножия горы отчаявшийся отец толкает вперед своего безумного мальчика; мать и другая женщина, обе классической красоты, опускаются на колени рядом с мальчиком и просят исцеления у девяти апостолов, собравшихся слева. Один из них оторван от книги; другой указывает на преображенного Христа и говорит, что только Он может исцелить мальчика. Обычно принято превозносить великолепие верхней части картины, предположительно выполненной Рафаэлем, и осуждать некоторую грубость и жестокость нижней группы, написанной Джулио Романо; но две лучшие фигуры находятся на нижнем переднем плане – взволнованный читатель и коленопреклоненная женщина с обнаженным плечом и сверкающей драпировкой.
Рафаэль начал работу над «Преображением» в 1517 году, но не успел закончить ее, когда умер. Мы не можем сказать, насколько правдив рассказ Вазари, написанный примерно через тридцать лет после события:
Рафаэль продолжал свои тайные удовольствия сверх всякой меры. После необычайно бурного дебоша он вернулся домой с сильной лихорадкой, и врачи решили, что он простудился. Поскольку он не признался в причине своего расстройства, врачи неосмотрительно пустили ему кровь, тем самым ослабив его, когда он нуждался в восстанавливающих средствах. В соответствии с этим он составил завещание, сначала отослав свою хозяйку из дома, как христианку, оставив ей средства на честную жизнь. Затем он разделил свои вещи между своими учениками: Джулио Романо, которого он всегда очень любил, Джованни Франческо Пенни из Флоренции и неким священником из Урбино, родственником….. Исповедавшись и проявив покаяние, он закончил свой жизненный путь в день своего рождения, в Страстную пятницу, в возрасте тридцати семи лет (6 апреля 1520 года).91
Священник, пришедший отпевать его, отказался войти в комнату больного, пока любовница Рафаэля не покинет дом; возможно, священнику показалось, что ее дальнейшее присутствие будет свидетельствовать об отсутствии у Рафаэля раскаяния, необходимого для отпущения грехов. Оттесненная даже от похоронного кортежа, она впала в меланхолию, грозившую безумием, и кардинал Биббиена убедил ее стать монахиней. Все художники Рима последовали за умершим юношей к его могиле. Лев оплакивал потерю своего любимого художника, а папский секретарь и поэт Бембо, который мог быть столь красноречивым на латыни и итальянском, отбросил всякую риторику, сочиняя эпитафию для гробницы Рафаэля в Пантеоне:
ILLE HIC EST RAPHAEL
– «Тот, кто здесь, – Рафаэль». Этого было достаточно.
По мнению современников, он был величайшим художником своей эпохи. Он не создал ничего равного по возвышенности Сикстинскому потолку, но Микеланджело не создал ничего равного по общей красоте пятидесяти мадоннам Рафаэля. Микеланджело был более великим художником, потому что был великим в трех областях, более глубоким в мыслях и искусстве. Когда он сказал о Рафаэле: «Он – пример того, что может дать глубокое изучение».92 он, вероятно, имел в виду, что Рафаэль приобрел путем подражания достоинства многих других художников и объединил их с усердным талантом в совершенный стиль; он не чувствовал в Рафаэле той творческой ярости, которая вскоре отбрасывает руководство и почти насильственно прокладывает свой собственный путь. Рафаэль казался слишком счастливым, чтобы быть гением в традиционном неистовом смысле; он настолько разрешил свои внутренние конфликты, что в нем почти не было признаков демонического духа или силы, которая толкает самые великие души к творчеству и трагедии. Работы Рафаэля были продуктом законченного мастерства, а не глубокого чувства или убеждения. Он приспосабливался к нуждам и настроениям то Юлия, то Льва, то Чиги, но всегда оставался бесхитростным юношей, весело колеблющимся между мадоннами и любовницами; таков был его бесхитростный способ примирить язычество и христианство.
Как художник в смысле техники, никто не превзошел его; в расположении элементов в картине, ритме масс, плавном течении линии никто не сравнился с ним. Его жизнь была преданностью форме. Поэтому он стремился оставаться на поверхности вещей. За исключением портрета Юлия II, он не вникал в тайны и противоречия жизни или вероисповедания; тонкость Леонардо и чувство трагизма Микеланджело были для него одинаково бессмысленны; достаточно было вожделения и радости жизни, создания и обладания красотой, верности друга и возлюбленной. Рёскин был прав: в готической скульптуре и «прерафаэлитской» живописи Италии и Фландрии время от времени появлялись простота, искренность и возвышенность веры и надежды, которые проникали в душу глубже, чем прелестные мадонны и сладострастные Венеры Рафаэля. И все же «Юлий II» и «Жемчужная мадонна» не поверхностны, они проникают в самое сердце мужского честолюбия и женской нежности; «Юлий» больше и глубже, чем «Мона Лиза».
Леонардо озадачивает нас, Микеланджело пугает, Рафаэль дарит нам покой. Он не задает вопросов, не вызывает сомнений, не внушает ужаса, но предлагает нам прелесть жизни, как амброзиальный напиток. Он не допускает конфликта между разумом и чувством, между телом и душой; все в нем – гармония противоположностей, создающая пифагорейскую музыку. Его искусство идеализирует все, к чему прикасается: религию, женщину, музыку, философию, историю, даже войну. Сам удачливый и счастливый, он излучал безмятежность и благодать. В произвольных аналогиях гения он находит свое место чуть ниже величайших, но вместе с ними: Данте, Гете, Китс; Бетховен, Бах, Моцарт; Микеланджело, Леонардо, Рафаэль.








