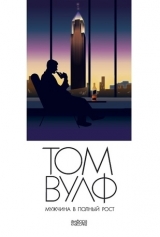
Текст книги "Мужчина в полный рост (A Man in Full)"
Автор книги: Том Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 54 страниц)
Роджер не ответил. Впервые ему стало ясно, как Генриетте отвратительны их культпоходы в Художественный музей. Он показался себе бесчувственным чурбаном – столько раз таскать жену на эти «мероприятия» белых…
Только в одном она ошиблась. Его действительно узнают, черт возьми!
ГЛАВА 27. Ширма
Чарли почему-то представлял себе операционную в виде большого белого амфитеатра, где все ослепительно блестит, – внизу овальная площадка, белые стены футов шесть-семь высотой, а над ними театральные кресла с высокими спинками, в которых сидят доктора в белых халатах и наблюдают за ходом важной операции, или «процедуры», как выражался Эммо Тудри. На самом деле операционная оказалась похожа на тот небольшой закуток, который есть в каждом офисе, – небольшое помещение с ксероксами, машинами для резки бумаг и прочей офисной техникой. Чарли это напомнило ту комнату в «ГранПланнерсБанке», где проходила первая проработка, но никаких неприятных чувств воспоминание не вызвало. Весь этот кошмар сейчас был словно… отгорожен от него… стеной, плотиной… неважно.
Чарли вообще почти ничего не видел. Он лежал на каком-то узком, жестком столе, а над грудью у него поставили ширму в ярд высотой, чтобы не было видно манипуляций с коленом. Ниже пояса он ничего не чувствовал. Сделали эпидуральную анестезию. Чарли понятия не имел, что значит «эпидуральная», но не все ли равно… Вокруг множество трубок, какие-то торчат из него, какие-то в него вонзаются… Рот и нос накрывает кислородная маска.
Ж-ж-ж-и-и-и-и-и-и-и, – раздался тонкий жалобный визг, будто включили дисковые пилы на целлюлозном заводе, где работал отец, и позвоночник затрясся от вибрации. Эммо – скорее всего, Эммо – обрабатывал концы его бедренной и большой берцовой костей, там, где они соприкасались в колене. Надо было избавиться от «остеоартрозной массы», как Эммо с видимым удовольствием называл эту дрянь, но Чарли уже не раздражали интонации молодого врача. Потом в кости должны были вставить новые наконечники из кобальт-хром-титана… или титан-хром-кобальта?.. какая разница… сделают новый сустав, проложат… как там его… полимером с высоким молекулярным содержанием… или весом… сейчас уже не вспомнить, ну и ладно. Какой-то пластмассой, заменяющей хрящи и прослойку между костями… Ж-ж-ж-и-и-и-и-и-и-и… Там, внизу, что-то пилили в ноге, но Чарли было даже приятно, когда от вибрации мелко сотрясался позвоночник.
Он слышал голоса врачей за ширмой. Эммо то и дело громко спрашивай: «Как он?», и сестра отвечала откуда-то сзади: «Все замечательно».
Потом из-за ширмы вышел сам Эммо. На голове у него был какой-то металлический каркас, обтянутый бледно-зеленой пленкой с прозрачным окошком. Сквозь него просматривалась лицо хирурга.
– Чарли, все идет хорошо, – странный шлем слегка приглушал голос. – Как мы себя чувствуем?
Чарли терпеть не мог покровительственного медицинского «мы», но сейчас разве до того? Эммо был похож на космонавта.
– Эм-мо, – Чарли понимал, что речь у него замедлена, – вы похожи… на…
– На космонавта?
Обидно было вот так узнать, что его замечание уже сто раз высказано, но секунду спустя это уже не задевало Чарли.
– Да-а, – сказал он.
Эммо повернулся к нему спиной, и Чарли увидел спускающиеся с плеч врача резиновые трубки, ребристые, как меха аккордеона.
– У нас специальная подача воздуха, как у настоящих космонавтов. Воздух очищенный. Таким образом исключается риск занесения в рану возбудителей инфекции. Так как мы себя чувствуем?
– Хорошо! – сказал Чарли. – Гораздо лучше, чем сегодня утром. – Он заглянул в лицо хирургонавта под шлемом, ожидая похвалы за бодрость и стойкость во время такой серьезной операции.
– Сейчас мы будем ставить на место новые части вашего организма, новый сустав, – сообщил Эммо из-под маски. – Вы услышите удары молотка, но не волнуйтесь, ничего страшного. Все пройдет абсолютно безболезненно.
И опять исчез за ширмой.
Чарли отметил тот факт, что он действительно чувствовал себя… хорошо. Он лежал распластанный на столе, повсюду торчали трубки – на сгибе локтя, у кончика пальца, в позвоночнике, в уретре, у лица с кислородной маской… нижней половины тела будто вовсе не существовало… но он чувствовал себя хорошо. Как хотелось продлить это состояние и дальше… да что там дальше, как можно дольше, до бесконечности! Ширма над грудью – именно то, что ему было нужно от этой операции. Он был скрыт от мира, мир был скрыт от него, и время остановилось. Как удивился Эммо, когда Чарли позвонил ему и сказал, что хочет оперироваться… прямо сейчас! Немедленно! Как можно скорее! Операция отрежет его от этого мира на… хотя бы на несколько недель… Не будет никаких дел, никаких обязательств, никаких дилемм… он просто не сможет чем-то заниматься… и никто ничего не потребует… не будет никакого Инмана… никакого Зейла… Операция – вполне уважительная причина для отступления с поля боя. «Я тут ни при чем! От меня ничего не зависит!» А если «возбудители инфекции» все-таки попадут в рану, если воспалится костный мозг, – что может случиться при самом худшем раскладе? Господь смилуется и заберет его…
Раздались удары молотка, и Чарли почувствовал их. Глухие безболезненные толчки отдавались в позвоночнике, даже в затылке. Били металлом по металлу, по чему-то более крупному, чем шляпка гвоздя. Эммо вставлял металлические наконечники в живые кости, бедренную и большую берцовую. Похоже на стройку… эти «жжж-иииии» электрических пил, «бинг-бинг-бинг-бинг» молотка… как на стройплощадке, а уж он, Чарли Крокер, кое-что знает о стройплощадках. Он сделал свое правое колено стройплощадкой, заключил на него контракт… но продолжить сравнение оказалось не под силу. Голова разболелась, и потом, какой толк от всех этих умствований?
В послеоперационной палате Серена и Уолли смотрели на него сверху вниз… вот она, спокойная новая жизнь в горизонтальном положении. Чарли лежал на узкой каталке с поручнями по бокам. Правое колено возвышалось под простынями высоким холмом. Ниже пояса он до сих пор ничего не чувствовал.
– Ты все время был в сознании, пап? Не спал? – спросил Уолли.
– Да-аа, – сказал Чарли. – Я ничего… не чувствовал, но слышал… как пилят… стук молотка… настоящая стройплощадка. – Он улыбнулся. Хотел показать себя парнем что надо. – Очень интересно.
– Ты знаешь, сколько длилась операция? – спросила Серена.
– Не-е-е, я, кажется… перестал следить за временем.
– Чуть больше трех часов, – сказала Серена. – Эммо говорит, все прошло очень хорошо.
Серена легонько гладила мужа по руке, той самой, куда была воткнута игла капельницы. Чарли до сих пор чувствовал себя виноватым, когда Серена оказывала ему какие-то знаки внимания при Уолли, но решил, что сейчас такая малость не в счет. Из-под короны пышных черных волос ее синие глаза смотрели с такой нежностью, какой он давно в них не видел.
– Ты волновался, пап?
Уолли действительно это интересно, или он просто поддерживает разговор? Чарли вдруг понял – он не знает своего сына настолько, чтобы чувствовать такие вещи, и никогда уже не узнает. Ну так что ж… Мы делаем лишь то, что в наших силах, сколь бы ничтожным это ни было.
– Не, – сказал Чарли, – вообще-то я неплохо себя чувствовал… устал только немного… Пришлось рано встать… есть нельзя было… да и пить… но я был в норме… – Он вдруг показался самому себе сильным, добрым, великодушным – парнем что надо. – Знаешь, что я тебе скажу… медсестры здесь потрясающие… об этом всякое рассказывают… но мне жаловаться не приходилось… В этой больнице медсестры заходили каждые пять минут… смотрели, не нужно ли мне чего-нибудь. Когда пришло время отправляться в операционную, я так расслабился, будто гулял… в парке…
Вскоре появился Эммо Тудри. Он все еще был в своей светло-зеленой униформе, но без шлема. Чарли подумал, что хирурги, наверно, любят ходить по больнице в этом комбинезоне, чтобы все видели – они только что из операционной, с медицинской передовой. Хотя это была только мимолетная мысль. Какая разница, в чем пришел Эммо Тудри.
Эммо склонился над каталкой и с отеческой улыбкой сказал:
– Ну что, Чарли? Теперь вы биоробот.
– Я слышал, как вы меня пилили за ширмой и стучали молотком. Будто на стройплощадке. – Он вспомнил, что уже говорил это Серене и Уолли, но кому какое дело?
– Надо же было удостовериться, что все детали встали на место, – ответил Эммо с той же отеческой улыбкой.
– Я ваш молоток хребтом чувствовал, – сказал Чарли. – Толчки отдавались по хребту до самой головы.
– Это нормально. Все шло строго по плану. Единственное, некротической ткани оказалось немного больше, чем я ожидал, но с вами все будет в порядке. Скоро через скакалку начнете прыгать.
Чарли снова захотелось показать себя парнем что надо, не каким-то там хлюпиком, а идеальным пациентом, внимательным ко всем вокруг.
– Эм-мо, – все еще медленно сказал он. – У меня к вам есть… одна просьба.
– Какая, Чарли?
– Пожалуйста… поблагодарите от моего имени медсестер.
– Медсестер?
– Да-а-а… Они заходили ко мне… каждые пять минут… до того, как меня отправили в операционную. И они так меня успокоили… к тому времени… что я будто собрался… на прогулку в парк… Они просто замечательные. Пожалуйста, передайте им это от меня.
Эммо улыбнулся. Потом поджал губы, опустил глаза и закивал, будто соглашаясь с теплыми чувствами, которые только что выразил его идеальный пациент.
– Я непременно передам. Они и правда замечательные, и я передам, что вы так о них отзывались. Но должен сказать, что демерол не менее замечательный…
Уолли засмеялся. Чарли сперва не понял, почему. Он перевел взгляд на Серену – та еле сдерживала улыбку. Шутка Эммо дошла наконец сквозь демероловую дымку до его пациента. Уолли хихикал, Серена изо всех сил старалась сдержаться, а Эммо улыбался мудрой, всезнающей улыбкой.
Почему он, Чарли, должен терпеть насмешки Эммо Тудри? Но, с другой стороны… какая разница.
К северу от железной дороги Шамбли до сих пор похож на обычный провинциальный городок, каким он был до нашествия азиатов. По старой части города Конрад и шагал этим солнечным июньским утром. От постоянной тревоги и недосыпа в голове стоял туман. Конрад думал, что вряд ли вынесет еще одну ночь на улице Медоу-Ларк – в жаре и духоте, среди десятка, двух десятков вьетнамцев – бог знает, сколько их там. Лежишь на полу скрюченный, прижав к животу сумку со всем своим имуществом, чтобы не лишиться его, слушаешь бесконечное тарабарское «сяу-унг-нгонг-ляу», просыпаешься по четыре, пять, шесть раз за ночь.
Еда вскоре тоже стала проблемой. От тех полутора тысяч, что дал ему Кенни, осталось двести семьдесят два доллара. Если и дальше питаться в закусочных на Бьюфорд-Хайвей, не успеешь оглянуться, как последние деньги растают. Конрад вдруг без всякой причины вспомнил о джипе, который позаимствовал с армейской стоянки (слова «украл» он избегал даже в мыслях), и его захлестнуло острое чувство вины. Может, кто-то и простил бы – Зевс, например, – что он взял посреди ночи армейскую машину, но в маленьком городке вроде Шамбли такое «заимствование», «присваивание», «взятие на время» никто не счел бы простительным.
Укол совести при этом случайном воспоминании заставил Конрада задуматься, как он может выглядеть сейчас в глазах жителей Шамбли. Коротко стриженный смуглый молодой человек с тонкими чертами лица, чисто выбритый (сегодня удалось пробраться в ванную), в синих джинсах, рубашке-поло, темно-синей ветровке и тяжелых ботинках, до сих пор сверкающих новизной… в руках обычная сумка… ничто не должно привлекать внимание, удовлетворенно заключил Конрад… если не считать того факта, что кроме него в этот час на улице не было ни души!
И тут же, словно его опасение материализовалось, Конрад услышал, как сзади к нему подъезжает машина. Двигатель ворчал все ближе и ближе. Оглянуться Конрад не осмеливался. Боковым зрением он видел, что машина уже совсем рядом. Что естественнее – не обращать на нее внимания или повернуться? Ясно ведь, ты не мог ее не заметить. Решай!
Конрад повернул голову. Ну конечно, патрульная машина – табличка на лобовом стекле, надпись на дверце: «Полиция Шамбли». Полицейский за рулем – коренастый, в больших очках, как у летчика, – улыбался Конраду… только улыбался и вел машину рядом с ним, параллельно его шагу. Конрад уже лихорадочно искал ответ на неизбежный вопрос – почему полицейский так себя ведет? Тем временем надо было принимать еще одно решение: что лучше – смотреть на него и остановиться, смотреть на него и продолжать идти или отвести глаза и идти? Решай!
Конрад кивнул полицейскому с нейтральной и, как он очень надеялся, невозмутимой улыбкой, потом отвернулся и продолжал идти. Машина по-прежнему ехала рядом с тротуаром параллельно его шагу. Что теперь? Не обращать внимания или?.. О Зевс! Решай!
– Куда вы направляетесь? – «Кда вы направлятес-сь?»
Конрад повернулся к нему и остановился. Полицейский смотрел с улыбкой. Только не сглатывать судорожно, не моргать. В памяти что-то мелькнуло… скорей!
– Я ищу магазин, где продают старые вещи. Называется «Всякая всячина».
Воротничок рубашки туго охватывал короткую шею полицейского. Он продолжал улыбаться и смотреть на Конрада. Конрад тщательно следил за выражением собственных глаз, за готовым дернуться горлом. Именно сейчас этот человек решает, проверить его или отпустить. Наконец:
– Тот, что на соседней улице? – «На сысеней ульце?» – Вон поворот направо, два квартала в ту сторону. – Он показал направление. Улыбка погасла. – Щслива! – И… подмигнул, нажимая на газ. Подмигнул, словно говоря: «Ох, не верю я тебе, парень, но так и быть, иди».
Сердце у Конрада ухало где-то в горле. Лучше на всякий случай действительно зайти в эту «Всякую всячину», вывеску которой он мельком заметил еще в первый день после приезда.
Магазин помещался в ветхом деревянном доме на углу. Из фасада вынули часть досок, чтобы сделать витрину. Ассортимент оказался получше, чем на блошином рынке, но ничего особенного. Явной гордостью хозяев был висящий в витрине старый велосипед модели «Дж. С. Хиггинс», чуть-чуть тронутый ржавчиной.
За дверью, в комнате с деревянными стенами, которые не красили уже лет тридцать, мужчина и женщина. Оба пожилые, чудовищно толстые. Старик сидел за столом в дальнем углу и читал какой-то проспект. Заметив Конрада, он поднял голову – в щелях на месте отсутствующих зубов показался язык. Старые брюки из синей саржи, засаленные на коленях и по бокам, явно с трудом застегнуты под выпирающим животом. На старухе за прилавком широкое платье без рукавов, видимо, сшитое собственноручно. Оно ничуть не скрывало бугристые телеса, жировые складки, отвисшие комки сала на руках. Белая с синюшным оттенком кожа, редкие седые пряди волос, пятна лихорадочного румянца. Вокруг – на полках, в коробках у стен – лежал товар. Тусклое серебро, в основном ложки и ножи, мятые рождественские открытки в викторианском стиле, разномастные чашки с ручками в виде изгибающихся нимф, неровные пачки «Нэше-нал джиегрэфик»… чернильницы с поцарапанными серебряными подставками… пара женских резиновых галош с бахромчатыми краями… побитый молью лисий воротник – лиса держит во рту кончик собственного хвоста… одним словом, хлам. Конрад мало что знал об антикварных магазинах – говорят, в грудах такой рухляди можно найти что-нибудь ценное, – но мысль эта его не воодушевила. В комнате стоял сильный, чуть кисловатый запах, чем-то напоминавший Конраду… только вот он никак мог вспомнить, что. Захватанные серо-зеленые обои порвались на углах, открывая настоящие археологические слои своих разноцветных предшественников.
Пожилая женщина смерила Конрада взглядом и сказала, чуть вызывающе наклонив голову:
– Помочь, молодой человек? – И снова задвигала челюстями.
– Меня интересует велосипед в витрине.
– «Дж. С. Хиггинс»? Хар-рошая вещь.
– И сколько стоит?
– Сотню долларов. Шины накачаны. Хошь прям сичас садись и поезжай.
Она перекатывала во рту какой-то комок. Потянулась за лампу с подставкой, украшенной четырьмя ионическими колоннами, достала бумажный стаканчик с эмблемой «Макдональдса» и сплюнула туда. Жевала табак.
– Это для меня дорого, – покачал головой Конрад. – Ездить на чем-то надо, но… – Он не стал заканчивать фразу и еще раз покачал головой.
– Сколько ты можешь дать за него, сынок? – спросила женщина.
Старик в своем углу харкнул. Конрад бросил взгляд в его сторону – у старика в руках тоже был бумажный стаканчик. Он убрал его за большую черно-белую фотографию бейсболиста по имени Сесил Трейвис, взял другой и поднес ко рту. По комнате поплыл сладковатый запах виски, бурбона или хлебной водки.
Пары спиртного примешивались к еще более отвратительному запаху – так пахла бедность. Когда глаза привыкли к полумраку комнаты, Конрад заметил пузатую печь, полускрытую огромной тушей старика. Изогнутая труба шла в стену. Вот в чем причина острого кислого запаха – топят углем.
– Я точно не знаю, – ответил Конрад старухе. Сам еще не понимая, почему, он почувствовал к ней доверие. – Мне нужно на чем-то ездить, но еще я ищу, где бы остановиться.
Старуха обменялась взглядом со стариком и спросила:
– Где ж ты хошь остановиться?
– Комнату какую-нибудь ищу. Недорогую.
– А сичас где живешь?
– У друзей, там, на шоссе. Но у них места не хватает.
– В Шамбодже? – фыркнул старик.
– Не знаю, – Конрад не хотел развивать эту тему. – Вроде они говорили – Шамбли.
– Хм, – удивился старик, – обычно узкоглазые так не говорят.
– В этом доме уж четвертое поколение наших живет, – сказала женщина. – Мангерсов то есть, нашей семьи. Прадед наш – мой и Брата, – она кивнула на старика, – воевал в Гражданскую. Правда, особо бравым молодцом никогда не был. В пехоте воевал, начал с рядового, дрался при Чикамоге, при Атланте, при Джонсборо. При Джонсборо его и ранили. Майором уж тогда был. В боях-то звания давали быстро. А мама наша училась в колледже Агнес Скотт [40]40
Частный женский колледж с искусствоведческими специальностями в Декейтере, пригороде Атланты.
[Закрыть], два года целых.
Конрад не нашелся, что ответить на эти откровения.
– Надо же, – сказал он, будто приятно удивленный.
– Хошь ты лопни, не понимаю, как это в город вдруг узкоглазые понабежали, – заключила старуха.
– Понимаешь, понимаешь, Сестра, – сказал Брат. – Это все птицефабрика в Нолтоне. Ни один белый ни в жисть там вкалывать не стал бы, да и ни один черный, по нонешним-то временам. Так они и понавезли узкоглазых, только были не дураки селить их в Нолтоне, вот и пихнули к нам в Шамбли да в Доравиль.
– Э-э-э, по правде сказать, у меня еще одно затруднение, – вставил Конрад. – Я ищу работу. На птицефабрику меня возьмут?
– Не-не-не, – махнул рукой Брат, все время массирующий языком десны на месте выпавших зубов. – От одной вони тут же грохнешься без памяти.
– От какой вони?
– Тыщи куриц смердят – их там тыщи, можешь мне поверить – тыщи куриц со вспоротыми брюхами.
– Ты в церковь ходишь, сынок? – спросила Сестра. Конрад растерялся. Сам вопрос говорил о том, что лучше ответить утвердительно. И он рискнул.
– Я хожу в церковь Зевса.
– В церковь Зевса? – удивилась Сестра. – Мы тут о такой не слыхали.
– Это случаем не церковь «Перекресток Сиона»? – спросил Брат.
– Нет, Зевса, – сказал Конрад. – Она появилась во времена Нерона, римского императора.
– И где ж ты тут такую найдешь? – спросила Сестра.
– Это всегда трудно, – согласился Конрад. – Их вообще-то немного.
– А мы с Сестрой методисты, – сказал Брат. – Мама с папой состояли в ОБЕ, а мы вот методисты.
– В ОБЕ?
– В Объединенном Братстве Евангелистов, – пояснил Брат, – но мы с Сестрой перешли к методистам. Мне в методистской церкви только одно не по душе – гимны. Писал их по большей части Джон Уэсли [41]41
Англиканский священник, один из основателей методистской церкви.
[Закрыть], а он не мастак это делать, если взять мое мнение. Вот у англиканской церкви гимны так гимны, это я понимаю. – И он запел:
Господь Саваоф,
С нами пребудь,
Наставь нас на путь,
Наставь нас на путь,
На-ааа пу-уууть…
У старика неожиданно оказался приятный тенор, покрывший в этих нескольких строчках две октавы.
– А в вашей церкви Зевса хорошие гимны?
– Да не особенно, – сказал Конрад.
– Ну вот, я ж говорил. По части гимнов англиканская церковь всех за пояс заткнет. – И опять запел:
Господня сила как гранит,
Стеной нас защищает.
Он при потопе нас хранит,
Болезни исцеляет.
– Вот еще что мне интересно, – продолжал старик, – кто в англиканскую церковь ходит, тот англиканин. Кто в методистскую – тот методист. А те, кто ходит в церковь Зевса, как называются? Зевсисты?
– Нет, стоики, – пояснил Конрад.
– Стоики, значит?
– Да. Обычно считают, что стоики – это те, кто может вынести долгие страдания и не жаловаться. На самом деле это целая религия.
– На христиан не похоже, – заметил Брат.
– Это дохристианская религия, – сказал Конрад. – Стоики оказали влияние на раннее христианство.
– Ну что ж, – Брат пригляделся к Конраду, – а какой работой ты раньше кормился?
– Фуры грузил, работал на складе, на стройке – но никакой особой профессии у меня нет. Мне любой заработок подойдет.
– На грузчика ты вроде не тянешь, – усомнился Брат. – Ну-ка, руки покажи.
Конрад вытянул вперед руки с растопыренными пальцами.
– Извини, беру свои слова обратно. Сестра, ты посмотри на… тебя как зовут, парень?
– Конни, – сказал Конрад, – Конни Де Кейзи.
– Ну, слава те, Господи! – воскликнула Сестра. – Молодой человек не только имя называет, но и фамилию – редкость по нонешним временам! А то у парней да девок нынче точно и нет фамилий. Будто наркотиками промышляют, ей-богу. Ладно, это в сторону – а старики твои где?
Конрад опять растерялся.
– Оба уже умерли.
– А приехал откуда? – продолжала Сестра.
– Да я много где жил. В последнее время – в Мейконе.
– И где ты жил в Мейконе?
Хорошо, что он запомнил адрес на фальшивых водительских правах.
– Двадцать седьмой квартал, Сайприс.
– Не, такого не знаю, – сказал Брат.
– Так ты, значит, комнату ищешь? – спросила Сестра.
– Да.
Сестра посмотрела на Брата и, видимо с его одобрения, сказала:
– Так у нас есть свободная, иногда сдаем. На третьем этаже.
– Сколько она стоит?
– Семьдесят пять долларов.
– В неделю?!
– Нет, в месяц. И хорошо бы деньги вперед.
Сестра повела Конрада по плохо освещенной лестнице – на каждой ступеньке у стены помещалась стопка «Атлантик Мансли» бог знает какой давности. На втором этаже Конрад заметал две убогие комнатки, до того заваленные пыльными книгами, журналами и прочим старьем, что линолеум виднелся только в узких проходах от дверей до кроватей. Третья дверь вела в маленькую ванную со старой треснувшей раковиной.
Подъем на третий этаж давался Сестре нелегко. Она пыхтела и перебиралась со ступеньки на ступеньку, поворачиваясь боком то в одну сторону, то в другую.
– Лестницы в этом доме… меня когда-нибудь прикончат… как пить дать…
Третий этаж оказался под самой крышей. Несколько кладовок со слуховыми окнами до того забиты… вещами, что войти туда можно было с большим трудом. Свет в маленьком коридорчике давала прикрученная к потолку лампочка под самодельным абажуром из пергаментной бумаги. Сестра подвела Конрада к порогу комнатки. Через узкое слуховое окно без всяких штор в комнату лился яркий свет. Здесь пол был не так плотно заставлен коллекцией «Всякой всячины», которую неустанно собирали Брат и Сестра, – хлам просто сваливали где попало. Под скатом крыши стояла узкая кровать, более узкой Конрад в жизни не видел, обычная односпальная была куда шире, – облупившийся металлический каркас и вышитое вручную, но пыльное и сильно линялое покрывало. По краям его придерживали подставки для ламп, занимавшие половину кровати.
– Кое-что надо бы сложить в сторонку, чтоб не мешалось, – сказала, пыхтя, Сестра, – но кровать тут добрая, прочная, а такого стеганого покрывала никто и за сто лет не сделает. Уф, жарко как. – Одной рукой она смахнула вот-вот готовую сорваться с носа каплю пота, другой вытерла лоб.
Комнатка была душная, с обеих сторон придавленная скатами крыши. Однако что-то подсказывало Конраду, что безработный и вдобавок измученный бессонными ночами беглый заключенный вряд ли найдет в ближайшее время что-то лучше, тем более за семьдесят пять долларов в месяц. Кроме того – хотя он вряд ли мог выразить словами эту острую тоску – здесь рядом будут… живые души… будет с кем поговорить! Пусть даже это всего лишь пара пыльных старых крыс, копающихся в разном хламе. Да, они старые, нудные, болтливые, неповоротливые, у них свои причуды, они жуют табак и сплевывают в бумажные стаканчики, но у них добрые сердца Конрад успел уже пожить там, где все молоды и брызжут энергией, а сердца сплошь гнилые. Это место называлось Санта-Рита.
Рассчитавшись с Сестрой за первый месяц, Конрад принялся «складывать в сторонку» барахло. Только и надо было, что перенести его под противоположный скат крыши, но на это ушло часа три. Потом он снял ботинки, лег на пыльное покрывало, закрыл глаза, прислушался к стуку собственного сердца и поздравил себя с удачей. Отдельная кровать! На целых тридцать дней! О Зевс!
Отдельная кровать, и в кармане джинсов еще сто девяносто семь долларов.
День второй. Демерола больше не дают. Кончились погружения в бездумную наркотическую невесомость, в царство «Всё равно». Чарли стал сплошным огромным коленом, горящим адской болью суставом с приложениями: голенью и бедром правой ноги, туловищем, левой ногой, руками, шеей, измученным мозгом и мочевым пузырем, из-за которого приходилось терпеть унижение – под него подкладывали судно.
Чтобы хоть как-то спасти свой статус, отнюдь не украшаемый положением пациента после операции – этого пассивного человеческого материала, на котором высшие существа оттачивают свое врачебное искусство, – Чарли носил, не снимая, роскошный халат из тайского шелка, ярко-синий с белым рисунком. Чистый благородный цвет королевской одежды должен был внушить всем и каждому почтительный страх перед магнатом атлантской недвижимости. Однако регифобией, если таковая вообще встречается, здешние эскулапы не страдали. Эммо Тудри продолжал относиться к Чарли, пациенту на двадцать лет старше себя, словно снисходительный папаша, которого лучше слушаться по-хорошему, пока он не рассердился. Чего стоит одно только предписание Эммо подчиняться инструктору по лечебной гимнастике, женщине с ястребиным профилем, от которой все шутки и комплименты Чарли отскакивали, словно от стены. Она заставляла его делать множество мучительных упражнений с коленом, даже вставать с постели и ковылять до двери палаты с жалкой алюминиевой тростью в качестве единственной поддержки. При каждом шаге эта трость звякала по полу и скрипела. Возвращаясь к кровати, Чарли шумно дышал, как собака, только что язык не высовывал.
Он чувствовал себя обманутым. Эммо Тудри рассказывал об операции, словно о плотницкой работе. Модели костей и хрящей у него на столе казались просто механической конструкцией. Отпилим вот этот кусочек пластмассовой детальки, вставим вон тот блестящий титановый наконечничек, подложим такую специальную прокладочку вот тут и вот тут – а на самом деле этот сукин сын пилил и строгал живое тело! Вгрызался пилой в его бедренную кость, берцовую кость, – с кровью, клетками, нервами, молекулами, ДНК… насчет ДНК Чарли сомневался, но нервы там были, это точно. Разрез на схеме выглядел как плотная красная трубка, зажатая с двух концов наложенным крест-накрест пластырем. Но эта красная трубка – его плоть и кровь, и кожа вокруг зашитой раны, казалось, вот-вот лопнет.
Чарли старался сосредоточиться на прооперированном колене, на горящем шве, на боли – уж боль-то явно должна была отвлечь его от всех остальных неприятностей. К ноге прикрепили маленький аппаратик под названием НПД – «непрерывное пассивное движение», который автоматически, хочешь не хочешь, сгибает колено. Боль адская. Зачем терпеть такие страдания, если ты только и мечтаешь о том, чтоб Господь поскорее прибрал тебя? Где-то там, снаружи, может быть, в эту самую секунду черный адвокат Фарика Фэнона, одетый как английский дипломат, планирует пресс-конференцию, на которой он, Чарли, должен будет надеть слащавую маску расовой гармонии и разглагольствовать о нелегкой жизни нахала Бомбардира – подло предавая Инмана Армхольстера. А если он откажется от сделки, дынеобразный Зелл (или Зейл?) из «ГранПланнерсБанка» отберет у него всю недвижимость, начиная с Терпмтина.
На ноге заработал чертов НПД, колено согнулось, боль обожгла каждый нерв – Чарли сморщился и застонал. Но вскоре все опять вернулось… Инман, Зелл-Зейл, юрисконсульт Белл снова всплыли в памяти, требуя внимания.
С четырех часов дня до полуночи и с полуночи до восьми у Чарли были личные медсестры, но с восьми утра до четырех он обходился без них. Днем было так много суетящихся вокруг врачей, ассистентов, санитаров, посетителей и уборщиков, без конца намывающих пол, что личная медсестра уже ни к чему. Да и вечером-ночью не больно-то она и нужна. Но личная медсестра – как роскошный синий халат. Еще одно свидетельство того, что ты не просто старый пердун, прикованный к больничной койке. Чарли даже набок повернуться не мог, боясь потревожить колено. Чтобы сменить позу, надо было нажатием кнопки поднять изголовье кровати или взяться за поручни, висящие над грудью, подтянуться и переместить свою тушу на пару дюймов. Последняя процедура вскоре стала ритуалом приветствия посетителей, своеобразной заменой вежливому вставанию им навстречу. Правда, посетителей он не жаждал. Чем меньше напоминаний о внешнем мире, тем лучше, хотя он еще не дошел до таких прямых формулировок. В палату допускались только Серена, Уолли, Маг и Маргерит.
Днем пришел Маг. Вид у него был такой же бледный, как всегда, – запавшие щеки, свободно висящий на шее воротник рубашки, – но титановые прямоугольники очков чуть не задевала широкая, совершенно не свойственная этому живому компьютеру улыбка.
Чарли взялся за поручни над кроватью, сдвинулся на полдюйма выше, морщась от боли, и сказал: «Привет, Маг» совершенно бесцветным голосом – в своем теперешнем состоянии он даже представить не мог, как можно кому-то или чему-то радоваться.
Маг придвинул к кровати больничный стул с клеенчатой обивкой и уселся, все еще пряча в уголках рта отголосок улыбки.
– Ну, Чарли, как идут дела? Поправляетесь?
– Медленно. Это на словах у них всё легко и просто.
– Я слышал, такая операция требует высокого болевого порога.
– Да, порога и… как там… ангельского терпения.
– Ну, я вас немножко порадую, Чарли. Вернее, у меня есть новости и хорошие, да, и плохие. С какой хотите начать?
– Пусть лучше сперва будет сюрприз.
– Ладно, обеспечим. Не знаю, почему, – я им запросов не посылал, – но «ГранПланнерсБанк» приостановил свою поэтапную агрессию. Они отозвали собак! Целую неделю от банка не было слышно ни звука, – сиял Маг.








