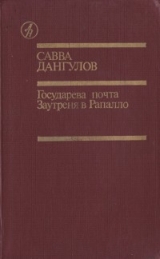
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)
19
Александр Христофорович зашел к Карахану и сказал, что они могли бы сегодня вечером побывать у старшего Даниелова. Все тот же «паккард» осто-
рожно спустился к реке и по набережной помчал на Пречистенку.
Весь день шел снег, мокрый и обильный. Он лежал глыбами на карнизах домов, сползая и обламываясь. Не спуская глаз с карнизов, прохожие переходили с тротуара на дорогу. Автомобиль двигался медленно, разбрасывая мокрый снег, оглашая улицу вздохами клаксона. Слабый свет фар упирался в спины прохожих. Казалось, люди потеряли слух и зрение, а вместе с тем и опасение за свою жизнь. Они уступали дорогу неохотно, смотрели на автомобиль с плохо скрытой неприязнью, только на движение рук и хватало сил, слов не было слышно, но, по всей видимости, они не были дружелюбны.
– Вот так проедешь от Китайгородской стены до Пречистенки и все поймешь, – вздохнул Даниелов.
– Не надо, не надо…
Старший Даниелов оказался совершенно лысым, с сильными ухватистыми руками и серо–бурыми усами, которые свисали так, будто бы их окунули в воду.
– Скажите откровенно, есть хотите? – обратился он к гостям. – Вот присядьте ненадолго, подкрепитесь, как говорят, чем бог послал, а потом приступим к делу Вот только худо: хозяйка моя уехала к матери в Орел… ну, я сам как–нибудь… – он подошел к брату, положил ему на спину большую, не по росту руку – Как ты, Сандро?.. – видно, он любил брата.
Хозяин поставил перед гостями медное блюдо с круглым, едва ли не в размер блюда пирогом.
Вот хозяйка наскребла муки, как говорят, по сусекам и сотворила орловский пирог с капустой, – он взглянул на брата. – Сандро любит наши пироги. Представьте, к капусте прибавляется капелька сахару… Сладкий пирог с капустой!
Младший Даниелов закивал головой.
– Да, у Ксаны это получается… – подтвердил он. – Сладкие пироги с капустой. А Коля не пришел из школы? – спросил он брата.
– Придет, придет твой Коля, – улыбнулся старший Даниелов. – Этакая аномалия: я почти молодожен, после смерти жены зарекся жениться, а потом не выдержал и… родил сына… Не очень ловко, на нашем юге поняли бы, а тут не понимают… Иду с сыном, все принимают за деда, никому в голову не придет, что я отец… – он посмотрел на брата, во взгляде была приязнь, он действительно давно его не видел. – К орловскому пирогу очень хорош чай с молоком, да молоКа нет…
– По нынешним временам сойдет и без молока, – подал голос младший Даниелов.
– Ну что ж, тогда к столу, – простер свои крупные руки хозяин. – А я начну помаленьку показывать. Только, чур, моя коллекция остановилась на четырнадцатом годе – в последние годы не покупал, как, впрочем, и не продавал… Одним словом, все остановилось до лучших времен, а они, наверно, не за горами… Не так ли? – он устремил глаза на Карахана, казалось, в них разом поселилось ненастье.
– Надеюсь, что будет так, – заметил Карахан, внимательно глядя на старшего Даниелова, хозяин все больше интересовал гостя.
А между тем Николай Христофорович начал показывать свою коллекцию, показ тем более увлек гостей, что сопровождался репликами Даниелова, в которых была страсть – он очень любил свое собрание. У собирательства Даниелова свой замысел – Николай Христофорович не вступал в соперничество ни с музеями, ни с крупными собирателями, как бы заранее уступая первенство им, – он собирал эскизы к известным полотнам.
– А по какой причине именно передвижники? – спросил Карахан, его, конечно, немало заинтересовало собрание, но хотелось, чтобы все собранное объяснило ему и хозяина, он продолжал пристально наблюдать его.
Вопрос гостя озадачил, Даниелов–старший не привык отвечать на общие вопросы.
– Я заметил, передвижники – это как раз то, что ближе всего земным заботам…
– Земным… значит, дело? – спросил Карахан.
– Вы сказали, дело? – переспросил хозяин, улыбаясь, впрочем, в улыбке не было иронии. – Нет, земным – значит, близким человеку… Для меня земной тождествен человеку…
– Как понять – человеку? – вопрос Карахана не обнаруживал удивления.
– Так, как передвижники знали человека, никто его не знал… – сказал Даниелов–старший. – Портреты Крамского по богатству психологических оттенков не уступают Рембрандту… – добавил он.
– Крамской знал историю России?
– И человека в ней. Я люблю его портреты крестьян, Крамской очень силен там…
– Вы пишете об этом? – Карахан обратил взгляд на письменный стол, посреди которого возвышалась рукопись Даниелова–старшего.
– Да, мне хотелось сказать именно об этом… Никто лучше него не понимал, сколь необходимо искусство людям, он шел впереди времени, и это влекло к нему художников.
– Ему нравилось быть впереди? – спросил Карахан и испытующе посмотрел на хозяина, он все еще изучал его.
– Нравилось, как каждому борцу… Храброму борцу, – добавил он.
– А я слышал, передвижники многим обязаны Куинджи… – вдруг произнес Карахан.
Старший Даниелов внимательно посмотрел на гостя, он точно подумал: «А ты не так прост, как кажешься на первый взгляд!»
– Большое общественное дело всегда нуждается в нравственном примере. Куинджи его подавал…
– Говорят, совестливый человек? – спросил Карахан.
– Не то слово, святой человек… – уточнил Даниелов–старший, как мог акцентируя на слове «святой». – Много, очень много добра сделал людям, при этом бескорыстно… Заметьте, совершенно бескорыстно…
– Это было полезно передвижникам?..
– Больше того, русскому искусству…
В дверь постучали, как могло показаться, настойчиво.
– Войдите, – вдруг сказал Даниелов–старший по–армянски. – Входите, входите, дверь открыта, – повторил он все так лее по–армянски.
Но дверь открылась не сразу, видно, человек, стоящий по ту сторону двери, чуть–чуть робел. Стучал с настойчивостью и робел? Да, можно было подумать и так, но хозяин не смутился, не иначе он связывал это с представлением о человеке, что стоял по ту сторону двери.
– Входите, – повторил Даниелов–старший и, отзываясь на голос за дверью, едва различимый, добавил: – Ну что ж, входите и вдвоем…
Открылась дверь, открылась неожиданно широко, в дверях стоял чернобородый человек, низкорослый и заметно кривоногий, что подчеркивали узкие брюки, поверх которых были надеты черные шерстяные носки, рядом стоял мальчик, такой же коренастый и кривоногий.
Рассмотрев гостей, они поклонились, вначале старший, потом младший, но сесть отказались, оставшись стоять у двери.
– Это мои соседи, отец и сын, армяне беженцы, поселились в соседнем доме… – сказал хозяин. – Так и будешь стоять у двери? Садись и посади сына… Вот так. Я чаю налью.
– Беженцы?.. – спросил Карахан и взглянул на Александра Христофоровича: не о них ли шла речь накануне?
– Да, беженцы, – спокойно ответил Даниелов–старший. – Говорит, если бы добрые люди не остановили, побежали дальше… Что хотел сказать, Месроп? – обратился он к чернобородому. – Небось устал? Я вижу, у сына глаза слипаются… – он обратился к Ка–рахану: – Как–нибудь надо жить. Ходят из дома в дом, пилят дрова. Их тут все знают… Нет, не только отец, сын тоже… Двуручная пила выручает! Сколько лет сыну? Одиннадцать!.. Да, только одиннадцать. А что будешь делать? Ну, говори, говори, по–армянски говори…
Чернобородый говорит, прихлебывая чай, стакан с чаем стоит и перед сыном, но тот не пригубил, видно, устал смертельно. Чернобородый говорит, разумеется, по–армянски, а Даниелов–старший печально слушает, покачивая головой.
– Лав… лав… Хорошо… хорошо… – говорит он, но слова эти выражают единственное: он хочет ободрить того, кого он назвал Месропом, пусть он скажет все, что хочет сказать. – Ты понимаешь? – вдруг он обращается к брату. – Понимаешь… о чем говорит Месроп?..
– Так, отдельные слова… что–то о весне и солнце… – произносит Даниелов–младший, смутившись.
– Ты почти понял все, – улыбается Николай Христофорович и, обратившись к чернобородому, добавляет: – Лав… Шат лав… Хорошо… Очень хорошо…
Но чернобородый умолкает и, посмотрев на сына, сокрушенно покачивает головой – сын спит.
– Ну, если так хочется ехать, надо ехать! – вдруг произносит Даниелов–старший по–русски и, взглянув на Карахана, продолжает: – Говорит, не может жить без земли… Здесь, говорит, снег, а там уже сеют – солнце на земле одно. Так и сказал: солнце одно… И еще сказал: если я продержу еще здесь сына, он отвыкнет от земли и привыкнет к камням, а человек – это земля, не камни… Это по–армянски очень хорошо получается…
Карахан горестно кивает, да и Даниелов–младший как–то утратил дар красноречия.
…Они едут обратно той же дорогой, какой приехали сюда по–прежнему с карнизов срываются и падают на тротуар глыбы снега, тяжелые от талой воды, прохожих меньше. Была бы жизнь полегче, так рано улицы не опустели, думает Карахан.
– Вы зачем возили меня на Пречистенку, Александр Христофорович? Смотреть передвижников? – спросил Карахан.
– Именно, другой причины не было…
– А я думал, была.
– Какая, Лев Михайлович?
– Повидать… беженцев, отца и сына… Даниелов улыбнулся, его улыбка была так неожиданна, что удивила Карахана.
– Нет, это не так, – заметил он, все еще улыбаясь. Но если вы так подумали, то это неплохо… Помните, я вам сказал: «Эта минута может и не повториться!» Готов сказать еще раз: «Не повторится, не повторится!..
Может быть, был резон и продолжить разговор, да впереди показалась Китайгородская стена и рядом подъезд Наркоминдела.
Они вышли из автомобиля и направились к нар–коминдельскому подъезду, когда увидели идущих навстречу Стеффенса и Цветова.
– Пожалейте просящих, господин Карахан, – произнес Стеффенс, смеясь, и протянул руку. – Тут у меня образовался вопрос безотлагательный. Полчаса не прошу но за десять минут буду благодарен…
– Десять так десять, я сейчас… – ответствовал Лев Михайлович. – Я иду вслед за вами, я иду, Александр Христофорович, – кинул Карахан вдогонку Даниелову, который, приметив американцев, продолжил путь к наркоминдельскому тГбдъезду. – Я вас слушаю…
Они отступили во тьму площади – тут было и тише, и уединеннее. Прошел трамвай, постукивая на стыках рельсов. Искра, высеченная дугой, на какой–то миг сделала городской снег зеленым, как бы сдвинув дальние дома и приблизив их к площади, при этом у деревьев, стоящих неподалеку, вдруг возникли тени, длинные, как от заходящего солнца.
– Быть может, я и не прав, но мне показалось, вас немало удивило, что я дал согласие войти в состав миссии господина Буллита, – начал Стеффенс, оглядевшись по сторонам и убедившись, что тень, в которую они вошли, надежно охранила их. – Нет крайней нужды объяснять это, но я все–таки хочу объяснить…
Карахану стало неловко, откровенно говоря, он не помнил, чтобы при встрече на Софийской, встрече скоротечной, обнаружил желание знать, по какой причине Стеффенс вошел в миссию Буллита.
– Да надо ли это объяснять? – остановил Карахан Стеффенса. – Вы вошли в состав миссии, и мы этому рады. Кстати, не помню, чтобы я выразил желание…
– Нет, я все–таки хочу объяснить, – ответ американца был почти категоричен, видно, и в самом деле были некие мотивы, которые привели Стеффенса и его спутника в столь поздний час на эту площаДь. – Вам, должно быть, известно, что я принадлежал к тем американцам, которых интересует русский опыт?..
– Да, господин Стеффенс, мне показал это и ваш интерес к событиям, которыми был отмечен восемнадцатый год…
– И не только это, – откликнулся Стеффенс. – Мне хотелось бы уехать из России, получив ответы на вопросы, которые я перед собой поставил…
– Однако чего вам не хватает, господин Стеффенс?
– Одной беседы.
– С кем?..
– С человеком, к которому наша делегация уже обратилась с просьбой о встрече…
– Вы имеете в виду предстоящий разговор Ленина с господином Буллитом?
– Да…
Все ясно, Стеффенс просил Владимира Ильича принять его. Ну разумеется, беседа должна касаться иных вопросов, чем те, которые станут предметом диалога с Буллитом. В эти годы число американцев, побывавших у Ленина, было значительным. Нет, это были не столько государственные мужи, сколько просто вольнолюбивые американцы: писатели, синдикалисты, профессора, издатели. И встречи эти были определены не столько температурой американо–советских отношений, сколько теми всесильными градусами, которыми измерялось напряжение классовых бурь на американском континенте – начало века было здесь тревожным. Стеффенс, извечно искавший покоя в бурях, полагал, что Америка не отыщет своих путей, не обратившись к примеру России. Вряд ли Стеффенс допускал, что ответ на этот вопрос связан с метаморфозами, для него неожиданными: он должен на время стать дипломатом. Однако ради чего стать дипломатом? Не была ли аудиенция у Ленина той самой ценой, ради которой он принял амплуа дипломата?
– Да, я готов просить Владимира Ильича принять вас, но только после того, как он примет господина Буллита…
– Благодарю, я готов ждать… – был ответ Стеффенса.
20
Говорят, что лик человека способен дать представление и о его сути. Да так ли это? Ну, вот хотя бы Стеффенс. Есть в его облике франтоватость денди, явившегося из минувшего столетия. На рубеже века ему уже было тридцать четыре – возраст денди, постигшего все прелести франтовства. Во всем денди – в том, как носит костюм, отводя полы и запуская руки в карманы брюк. В любви к этим цветным «бабочкам», которые он предпочитает галстукам, они, эти «бабочки», действительно у него многоцветны: вишневые, оранжевые, негасимо синие. В этой его привычке держать под рукой зеркальце, он всегда чисто выбрит, его челка и усы подстрижены. В этом его неравнодушии к хорошим табакам, их запах, казалось, шествует впереди Стеффенса, оповещая всех, кто этого не знает: «Это он, Стеф! Это он!» Коробки с табаком он возит за собой, гильзы папирос набивает сам.
Взглянешь на него и скажешь – франт. Едва ли не такой же, как Буллит. На самом деле все по–иному, все не так. Эта франтоватость будто призвана им, чтобы скрыть характер… Где–то тут противоборство, где–то тут сшиблись в нем силы–антагонисты.
Итак, противоборство. Тот, кто был в Сан – Франциско, помнит особый блеск солнца, встающего над морем, его отсвет на белостенных особняках. Стеффенс родился в безбедном доме, и, казалось, на роду ему была написана тишь да благодать сан–францисские. Если бы родителям привиделась хотя бы отдаленно жизнь их чада, как она сложилась на самом деле, их белостенное обиталище завалилось бы. Нельзя сказать, что Стеффенс разделял взгляды отца, которые тот исповедовал, но в свои ранние годы он не объявлял отцу войны.
Глаза на мир ему открыл нью–йоркский вечерний листок, репортером которого он стал. Сферой Стеффенса в газете был репортаж из банка. Нет, не столько нападение на инкассаторов, взлом банковских сейфов, похищение кассиров, сколько иное – финансист, его судьба, его поединок с ему подобными, его возвышение и его банкротство, явное и мнимое, его неусыпная вахта по охране и приумножению капитала, а следовательно, всесильная авантюра… Надо же понимать, что это был конец прошлого века, ознаменованный появлением некоего подобия астероида, до этого неизвестного – Нью – Йорк, мир Нью – Йорка. Его дебри и его тайны, его сизые сумерки и его розовые туманы, от которых голова шла кругом, его несметные сокровища и столь же фантастическая нищета, его преступления, изумившие человечество.
Невелика птаха репортер, а как высоко и она может взлететь!.. «Даю двести строк в номер, сдам в набор на рассвете!» Легко сказать: сдам в набор! А на деле? Окно его квартирки на Гринвич Вилидж выходит на большой двор, населенный беднотой. Когда окно открыто, слышны пушечные удары мяча о кирпичную стену дома да стонущий плач молодой женщины, взывающей к милосердию пьяного мужа. Но сейчас полночь и во дворе тихо. Только откуда–то из глубины двора, быть может, из каморки в цокольном этаже, а возможно, из котельной, упрятанной еще ниже, доносится голос флейты – это привычный звук, он возникает с приходом старика сицилийца, который играет в итальянском ресторане напротив. Флейта не мешает беседе Стеффенса, наоборот, она даже воодушевляет. Как заметил Стеффенс, красное тосканское и, разумеется, флейта способны развязать язык и столь казенному существу, как банковский клерк. Даже если это, как нынче, клерк, собравшийся подать в отставку, для которого все мосты сожжены. Он, этот старый клерк, самим богом уготован, чтобы пустить многопалубный корабль своего неблагодарного шефа ко дну, если за корабль принять махину алабамского банка… Стеффенс в такой беседе проявляет высокое умение вести диалог. Конечно же, свою роль призваны сыграть и настойчивость интервьюера, и его смелость, но бесценно и иное: обаяние, живость ума, способность одновременно и поощрить собеседника к разговору, и воодушевить, и в чем–то остеречь. Но вот беседа состоялась, и старый «форд», разгребая предрассветную мглу ручищами зажженных фар, мчится вдоль пляжей Стэйтен Айленд, полоненных тьмой, чтобы получасом позже ворваться в редакционный двор. «Есть двести строк! – кричит Стеффенс победно, потрясая записной книжкой. – Вот они!» Конечно, соблазнительно сказать «Вот они!», но эти двести строк надо еще выстроить… И происходит то, что было уже не однажды: Стеффенс пододвигает к наборной кассе столик корректоров, только что закончивших ночную вахту, пододвигает так близко, что в поле света лампы оказываются и наборщик, и репортер… Стеффенс пишет, он уже пишет, однако почему изменила ему рука, чей это почерк? Стеффенса? Буквы стали неожиданно крупными и не в такой мере слитными – у рукописи вид печатного текста… Оказывается, у Стеффенса два почерка: «для себя» и «для наборщика»… Никакой машинки, прямо в руки наборщику, он нет–нет да и взглянет на Стеффенса, точно поторопит: «Еще тридцать строк, и можно заверстывать!» Брови старого рабочего, словно свитые из твердой проволоки, ощетинились, не иначе пламя стеффенсовского репортажа прошибло и луженое сердце наборщика. Рассвет уже поджег тусклые от свинцовой пыли окна наборной, когда полоса пошла под пресс. А потом каморка выпускающего с видом на побережье, смятенный сон на диване, обшитом холодной клеенкой, и голоса газетчиков, поднявшиеся от самой реки: «Стеффене предрекает крах алабамского банка – новый репортаж первого репортера Америки!»
Стеффенса увлекла стихия его новой профессии. Он хотел быть репортером и никем больше. Профессия требовала расчета и храбрости. И то и другое у него было. Напасть на след аферы, сотворив нечто сенсационное, вынести эту сенсацию на страницы газеты, вызвав у города и своих коллег вздох изумления, вздох восторга, ради этого стоит жить! И Стеффенс жил ради этого. Только ради этого! Нельзя сказать, что удары Стеффенса сражали наповал, но испуг был, даже немалый… «Нет–нет, серьезно, как он его!.. Если не пуля в сердце, то обморок… Храбр этот мальчик из Сан – Франциско, ничего не скажешь!.. И Стеффенса это радовало, почти делало счастливым – какого мужчину не порадует весело–восторженное «храбр», будь это сказано мужчиной или тем более женщиной, кстати, женщины были… Этот небольшой человек с челкой, которая, завившись, превращалась в кок, пользовался успехом, какой при его внешних данных был почти невероятен. Восторженно–благоговейное «Стеф, ты самый красивый!» сопутствовало ему. Нельзя сказать, что он был настолько лишен юмора, чтобы поверить этому, но признание женщин было ему приятно. Уже ради одного этого следовало обречь себя на испытания, какие он принял вместе с именем первого репортера Америки. Но были и сомнения. Хотелось уединиться, одну за другой пересчитать все истории, которые он предал гласности. Девять историй, девять! И что? Из тех девяти пуль, которые выпустил Стеффенс, попала хотя бы одна в цель? Все попали! И… сколько поверженных? Все живы, все чувствуют себя прекрасно, даже, можно сказать, прибавили в весе. Стеф мысленно оглядел себя: чудак! Да, да, чудак–одиночка!.. Одиночка ли? Но, быть может, Стеф не один? Есть же чудаки в Америке и кроме Стеффенса? Чудаки из породы правдоискателей? Есть они?
И Стеф вспомнил далекий Портланд, сумерки делового клуба, где собирались городские тузы. У каждого из них и в зале банкетном, и в карточном, и в концертном было свое место. Было оно и у портландского дельца Чарльза Джерома Рида (погодите, погодите, да не родитель ли это Джона Сайлеса Рида, поэта и порядочного смутьяна, исколесившего земной шар в поисках революций и вызвавшего к жизни столь неординарную книгу, как «Восставшая Мексика»? Родитель, разумеется, но сейчас разговор не об этом). Итак, такое место было и у Чарльза Джерома Рида. В ряду необыкновенных личных доблестей, таких, как жажда подвига и рыцарственность, он обладал достоинством, с которого истинный человек начинается, – бескорыстием. Подобные люди, разумеется, были повсюду в Америке, при этом и среди дельцов, их–то и предполагал рекрутировать в свою армию Стеф.
Однако что было известно Стефу о доблестях Чй Джи – так для краткости звали Чарльза Джерома Рида? Ну, история в некотором роде ординарная! Чи Джи говорил Стеффенсу, что ничего не знал страшнее лесного пожара, который однажды наблюдал здесь, на диком Западе. Сейчас даже непонятно, отчего занялся огнем лес. Дом Чи Джи стоял на холме, поэтому первый отблеск огня ударил в стекла. Распахнув окно, Чи Джи ощутил дыхание огня, студеная ночь сейчас дышала горячими углями. Казалось, в лес упало небесное тело и воспламенило самую землю. Привиделось, что отблеск огня достиг моря и оно, взобравшись на гору, подступило к городу…
Но самым страшным был даже не огонь, а вот это состояние беспомощности, которое охватило людей. К горящему лесу нельзя было подойти – впереди огня шел вал жара, вал горячего воздуха. Он, этот вал раскаленного воздуха, накрыл горящий лес и как бы охранил огонь… Кто–то подал мысль: надо обнести лес рвом. Люди взяли в руки лопаты и принялись рыть землю. Рыли до тех пор, пока не догадались, что не в их силах вырыть ров, способный остановить такой огонь, человек не в состоянии совладать с огнем, если на помощь ему не придет сама природа. Некий итальянец, живший в Портланде, был свидетелем извержения Этны, он заметил, что тогда тоже ночь родила огонь, тогда тоже вал огня шел на людей беспрепятственно, тогда тоже у человека было одно разумное решение – бегство… Но сейчас человек не побежал, он загасил пожар… Но то, что увидели люди на месте леса, было способно глубоко ранить сердце – черная пустыня, черная… Однако почему Чи Джи вдруг вспомнил эту историю с лесным пожаром? То, что творили люди в Портланде, было похоже на лесной пожар, только это был рукотворный пожар… Люди обрели такую сноровку, какой мог позавидовать и большой пожар: сводились рощи, грузились на баржи и отправлялись на юг… Короче, как будто бы и не был потушен пожар, как будто бы вал огня еще бушевал вокруг Портланд а…
Как можно догадаться, лес стал предметом всесильной аферы, произошло превращение – из собственности государства он стал собственностью частных лиц. Больше того, лес обратился в нечто текучее и потек из одного сейфа в другой, потек, охраняемый восторженной немотой делового Портланда. Нет, этакого чуда не видел Портланд, и было учинено расследование. Потребовался судебный исполнитель, чья честность не могла быть поставлена под сомнение. Указали на Чи Джи. Ну, что тут сказать? Чи Джи понимал, этот выбор мог поставить его в Портланде в положение чрезвычайное. Но отказ ставил Рида в положение еще более невыносимое – он как бы признавался в нечестности и накладывал на себя руки. Чи Джи согласился. Не ясно ли, что речь шла о преступниках, которых следовало назвать поименно. Короче, Чи Джи выполнил эту миссию до конца.
Стеф и теперь не может забыть поездку в Портланд и встречу с Чи Джи. Не может забыть, как шли с Чи Джи через Портланд к деловому клубу и красивый Чарльз Джером Рид глядел на Стефа свысока, иронически посмеиваясь. «Сейчас, как вы увидите, они завтракают и все места в столовом зале уже заняты, все места, которые каждый из них занимал прежде, толь–кое мое место свободно…» И действительно они вошли в сумеречные покои клуба, слышался сдержанный говор, звон посуды, пряный запах лаврового листа, которым были сдобрены соленые огурцы – ах, эти порт–ландские соленые огурцы!.. Они шли так быстро, что едва не вторглись в пределы ресторана, где заканчивался завтрак, но это, кажется, не обескуражило Чи Джи. «Видите вот этот стол? – произнес он, нисколько не смущаясь тем, что его услышат сидящие за столом. – Они в сборе. Свободен только мой стул – никто из них не осмелится его занять… Ни сегодня, ни, я уверен, завтра. Здесь я сидел многие годы, отбивая их атаки вначале удовольствия ради, а потом серьезно, совершенно серьезно, но весело, всегда весело… К Чи Джи вернулось доброе настроение, всю обратную дорогу он смеялся. И только у самого дома, подняв на него глаза, Стеф увидел, как темно его лицо. Нет, эта борьба стоила ему сил немалых, и стало чуть–чуть жаль Чи Джи, хотя у состояния, которое в эту минуту владело Стефом, было, наверное, иное название – восхищение… Именно восхищение: «Что может быть прекраснее совестливого человека?»
Но ведь Чи Джи был в Америке не один и все рассказанное было привилегией не одного только Порт–ланда? Наверняка были свои Чи Джи и в родном Сте–фу Сан – Франциско, как и в соседнем Лос – Анджелесе, и в Нью – Йорке. Началось великое для Стефа собирание сил, а заодно и поход против всякой нечисти, подобный походу Чи Джи против портландской аферы. Стеф метался по американской земле, возбуждая умы: «Начинается великий поход тех, кого можно назвать совестью Америки! Соскребем всю и всяческую нечисть! Покончим с позором городов!..» Этот остробородый человек в самом деле стал грозой для всякой скверны американской, его приезд в город вызывал у сильных мира сего состояние, близкое к судороге. Будто гигантской железной гребенкой Стеффенс прошелся по городам, вычесывая паразитов. Он был уверен, что достаточно пройти гребенкой еще раз, другой, а потом, как это делали простые люди, изгоняя паразитов, окунуть голову в керосин, и с великой дезинсекцией Америки будет покончено. Но так ли это было легко?
Надо сказать, Америка с превеликим любопытством следила за походом, предпринятым Стефом. Одних этот поход откровенно восхищал, у других вызывал ироническую усмешку… Президент Тоодор Рузвельт, человек ума желчного, бросил Стеффенсу не бег из-* девки: «Разгребатели грязи!» Но Америка, подхватив эти слова, лишила их иронического подтекста, который пытался сообщить им президент. «Разгребатели грязи!» – произнесла Америка не без восхищения. Произнеся так, Америка воздавала должное безбоязненному упорству, храбрости и вере сподвижников Стефа. А сколь действен был поход Стефа? Гребенка Стеффенса работала вовсю, однако не очень–то было похоже, чтобы число паразитов уменьшилось… Кто–то сказал Стеффенсу: «Тут греби хоть до потопа – не выгребешь!.. Надо, как в Мексике, под корень!»
Значит, как в Мексике? Стеффенс пересек границу. То, что он увидел, пожалуй, больше встревожило его, чем воодушевило. Восстание объяло страну. У восставших было две армии, одну вел Вилья, другую Карран–са. Вилья был пеон, Карранса – помещик. В споре с друзьями Стеффенс должен был защищать Каррансу, полагая, что мера его радикализма разумна. То, что Карранса был крупным феодалом, а его борьба охраняла права земельных магнатов, Стеффенса не беспокоило. Правда, Карранса был искусным демагогом. Понимая, что Вилья вызывает у народа симпатии, он умыкнул политическую программу Вильи, восприняв ее в такой мере, что людей неискушенных она могла и смутить: где Карранса и где Вилья? Но был один признак, знание которого открывало глаза: толкуя вовсю о революции, Карранса не расставался с собственностью на землю. Но это как раз в ту пору не компрометировало Каррансу в глазах Стефа – как ни радикальна была программа американца, она ограждала устои буржуазного государства. Главная причина конфликта, возникшего в сознании Стеффенса, тут как раз и была сокрыта: он хотел улучшить государство ровно настолько, насколько необходимо было, чтобы не поколебать его сути. Человек прозорливый, он понимал, что одно тут исключает другое, но до поры до времени не хотел в этом сознаться. До поры до врехмени.
Мексиканские события возбуждали ум Стеффенса, рождая ассоциации, каких Америка дать ему не могла. Тем больше его взволновали вести из России. Тут все было крупнее, чем в Мексике, крупнее и существеннее. Он видел Петроград в громоподобном июле семнадцатого года. Он не оговорился – громоподобном. Это был тот июльский день, когда миллионный город вышел на улицы и устремился к Неве, влившись в узкое русло Троицкого моста. Стеффенс смотрел из окна дворца Салтыковых, который обжило британское посольство. Странное дело, вид мятежного города воскресил в памяти американца портландский рассказ о лесном пожаре и об извержении Этны… Пожалуй, даже больше об извержении Этны. Помнится, в том рассказе были такие подробности: все началось с того, что ударил гром один раз, потом второй и третий, но гром поднимался из самих недр земли. Потом послышался запах гари и сажевая туча погасила солнце. Потом тучу прорвал огонь, он был ярко–белым, и вновь стало светло, но свет был неживым… Огонь точно скатывался. Кто–то крикнул «Лава!», и тысячи голосов повторили: «Лава! Лава!» Этот крик родил инстинкт едва ли не животный – бежать… Только бегство могло уберечь человека. Однако ассоциация с
вулканом у Стеффенса на этом и кончилась. Он ушел от англичан – не было страха, когда, преодолевая стихию потока, он добрался, шутка сказать, до жерла вулкана, до самого жерла!..







