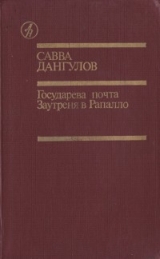
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 38 страниц)
Конечно, Уркарт мог и не приезжать в Геную, ибо его приезд сюда – зримое свидетельство того, что скорострельная артиллерия не лучшее средство для разговора с новой Россией.
Но Уркарт приехал, и к тому же не скрыл своего приезда.
Что это могло бы значить?
– Вчера мне сказали, что Лесли Уркарт приехал в Геную едва ли не по подсказке Черчилля… Этому можно верить, Георгий Васильевич?
– Вы слыхали притчу о Клеоне и Алкивиаде? – Он хлопнул ладонью по столу. – Нет, что ни говорите, а этим зловредным тори нельзя отказать в меткости глаза: истинно Клеон и Алкивиад!
– Ллойд Джордж и Черчилль?
– Да, их политическое побратимство: знатный афинянин Алкивиад, перебежавший к спартиатам, не прототип ли Черчилля, а простолюдин Клеон, сын сапожника и сам сапожник, не слепок ли нашего героя?.. Но вот вопрос: не в союзе ли Ллойд Джорджа с нынешним Алкивиадом таилась погибель Вавилона, того самого Вавилона, над сооружением которого без устали хлопотал старый валлиец всю жизнь? – Чичерин открыл ящик, и на стол лег лист бумаги, на ярко–коричневой поверхности стола лист очерчивался особенно четко. – И вот итог, как мне кажется, закономерный: к концу войны тори раздели либералов, оставив их в чем мать родила, раздели на глазах честного народа, и народ, как говорят записные политики, не заставил себя ждать – он отказал либералам в поддержке. Но тори продолжали дуться на Черчилля – известная притча о Клеоне и Алкивиаде никогда не была так популярна, как в эти дни. Они продолжали поносить Черчилля и предавать его анафеме, а ведь им надо было его благодарить: никто больше его не сделал, чтобы превратить британских либералов в консерваторов, а существо процесса, пожалуй, было в этом – пока продолжалась война, либералы предали забвению прежде всего принципы либерализма, при этом Ллойд Джордж выступал не столько как либерал, сколько как консерватор…
– А приехал в Геную в каком качестве?..
Чичерин встал – это мой вопрос заставил его подняться. Даже человечески было интересно: что побудило старого валлийца приехать в Геную и как было сообразовано это его желание с тем главным, что он начертал на своем партийном штандарте?
– Если мне будет позволено обратиться к образу, который так любили наши отцы, то я скажу, что своей лебединой песнью Ллойд Джордж хотел бы сделать Геную. – Георгий Васильевич засмеялся, запрокинув голову, да так далеко, что клинышек его бородки устремился едва ли не в зенит. – Нечего сказать: старик знает толк в прекрасном, если прибыл на берег Лигурийского моря, чтобы пропеть эту свою песнь…
– Ллойд Джордж – Черчилль – проблема проблем?
– Англия, бывшая очевидицей самых невероятных союзов, такого, казалось, не видывала, и Черчилль это понял, – сказал Чичерин. – Он своеобразно титуловал Ллойд Джорджа, назвав его лучшим боевым генералом либеральной армии, а чтобы это не прозвучало голословно, как бы породнился с ним, пригласив его быть посаженым отцом на своей свадьбе… – произнес Георгий Васильевич, пододвинув лист, он смотрел в него как в зеркало, все, что хотел сказать, должен был увидеть в этом зеркале. – Казалось, Ллойд Джордж обрел завидную возможность сделать из тори либерала. Первое время все выглядело именно так. Призыв к реформам, всесильным реформам, сообщил деятельности Черчилля и содержание и страсть. Однако это продолжалось лишь до тех пор, пока грозный лик войны не возник на небосклоне. Короче, пока либерал обращал тори в свою веру, последний тоже не терял времени даром… Дело кончилось тем, что доверие между тори и либералами достигло такого уровня, что главой правительства, которое теперь представляло две партии, стал Ллойд Джордж… Не исключаю, что Черчилль этому процессу способствовал немало. Если и этот факт сравнить с соответствующим прецедентом прошлого, то на память придет тот деревянный конь, с которым греческая легенда связывает падение Трои…
– Это как же понять: половинчатость не признак силы?
Чичерин задумался.
– Да, вступило в действие известное правило: побеждает цельность и, пожалуй, целеустремленность. Хотя тори были и порядочными ретроградами, они были в известный момент бескомпромисснее, а поэтому сильнее…
Чичерин обратил все в шутку, но в этой шутке был свой большой смысл: конечно, Ллойд Джордж приехал в Геную, чтобы решить проблему, которая была не под силу даже всесильному Версалю. Эта задача была главной, и старик не покладая рук работал над ее решением. Но рядом с этой задачей была вторая, хотя и личная, но для валлийца не менее значительная: Генуя должна была вернуть старому либералу его прежнюю шерсть, которую, казалось, он сбросил окончательно. Это понимал Ллойд Джордж, но это в не меньшей степени было доступно и Черчиллю – не исключено, что Лесли Уркарт, явившийся нынче в Геную, в сущности, был черчиллевским лазутчиком и призван был не столько осведомиться о происшедшем, сколько предупредить происходящее…
По мере того как приближается встреча в доме Маццини, бес, поселившийся ж душе моей дочери, начинает тихо бунтовать. У этого бунта определились свои циклы, поэтому есть смысл проследить за ними – иначе, пожалуй, мою дочь не поймешь.
В преддверии встречи с турецкой делегацией в Санта – Маргериту пожаловал гонец из Стамбула и вызвал переполох. У него была алая, как босфорская вода на восходе солнца, шевелюра и правильно округлый, подобный молодому месяцу на турецком штандарте нос. Рыжий турок! Да есть ли такие? Оказывается, есть, и наш гость был одним из них. Вопреки возрасту, почти юному, он был неторопливо сановен и осанист. Но вот незадача: он был безъязык по–русски, как, впрочем, по–французски и по–английски.
При виде этакого дива большой дом в Санта – Мар–герите объяла легкая паника: где добыть бедным россиянам турецкий? Но замешательство продолжалось только минуту.
– А может, надо призвать на помощь Марию Воропаеву? – осенило Литвинова.
– Но показать Машу Воропаеву турку, не обрядив ее в чадру, не безопасно ли? – улыбнулся Чичерин.
– Вы находите, что в природе есть сила, которая может заставить Марию Николаевну надеть чадру? – улыбнулся Литвинов: он имел элементарное представление о характере Маши.
Короче: когда турецкий гость увидел рядом с русским министром толмача в гарусовом платье, турка точно подожгло и его огненная шевелюра, казалось, мигом померкла. Но еще большее впечатление произвел на гостя турецкий Маши – она блеснула таким знанием стамбульского диалекта, какого турецкий гость в Европе не слыхал. Пока турка сжигал пламень смущения, Мария не теряла времени даром. Она не без иронической упряминки взглянула на турка, не забыв задать мне дежурный вопрос:
– Какие ассоциации вызывает у тебя гость?
– Молодой Гейне, – ответил я не задумываясь. – Да, совсем молодой, времен «Книги песен». Литография Оппенгейма была после.
– Люблю точность, – одобрила она.
Но итог этой встречи не очень–то воодушевил нас: когда пришла пора турецкому гостю покидать Санта – Маргериту, он недвусмысленно дал понять, что предпочитает это сделать н& сегодня. А когда все–таки удалось с ним проститься, он показался вновь, правда уже с делегацией, которую своим приездом предварил. Турецкие делегаты говорили по–французски, можно было обойтись без Маши, но молодой был неукротим. Он дал понять, что ее участие обязательно, так как есть нужда в переводе турецких текстов, и в знак доказательства такие тексты предъявил. Все, кто наблюдал за происходящим, пришли в немалое смятение, раздумывая над тем, как отвадить турецкого гонца от гостеприимного дома в Санта – Маргери–те, пока об этом не узнал энергичный Литвинов.
– Поручите это самой Марии Николаевне – лучше ее это никто не сумеет сделать, надо только предупредить ее, чтобы все, что она имеет сказать турку, не нанесло ущерба нашим отношениям с Кемальпашой, – заметил Максим Максимович: как было уже отмечено, он–то знал натуру Марии лучше остальных.
А суеверный Хвостов, для которого все относящееся к Маше имело особый смысл, произнес смятенно:
– Господи, откуда еще взялся этот басурман? Гоните его прочь, гоните!..
Одним словом, до сих пор остается тайной, что сказала Мария турку, но он вдруг забыл дорогу в Санта – Маргериту, при этом отношения с Кемаль–па–шой не претерпели существенных изменений.
Так или иначе, а с этого самого дня образ жизни моей Марии в Генуе заметно изменился. Весь круг ближневосточных стран, говорящих по–арабски и по–турецки, занял в наших делах такое место, какого он прежде не занимал. Генуя нам представлялась средоточием европейских дел, поэтому восточный крен генуэзского судна был для нас неожиданным. По понятным причинам я счел необходимым предупредить мою девочку: «Не возомни, Мария, не переоцени сил своих!» К чести Марии надо сказать, что в переводах бесед, которые проходили в Санта – Маргерите, она дальше арабского и турецкого не пошла, хотя могла попробовать себя и в фарси – впрочем, несколько текстов с фарси она перевела, и небезуспешно.
Конференция – это турнир знаний. Нет более популярных книг, чем энциклопедические словари, они все время в работе. Но иногда словарь выбрасывает белый флаг и молит о снисхождении. Тогда единственная надежда на живого человека. Мудрено выказать себя, когда кругом сонм эрудитов. Но рыцарственный Чичерин всегда рыцарствен. Когда его одолевают вопросами, он вдруг произносит, и это звучит без тени иронии: «А почему бы вам об этом не спросить Марию Николаевну – держу пари, она ответит… Нет, нет, мне даже интересно, если вы проверите меня». Надо сказать, что при этих словах Чичерина Мария взрывалась: «Этого позора мне еще недоставало – зачем он это делает?» Но все заканчивалось благополучно для Маши, хотя моя дочь объясняла это случайностью, счастливой случайностью да, пожалуй, добротой, которую старшие питали к младшей.
Мне в этом нелегко признаваться, но это сущая правда: иногда я ловлю себя на мысли, что мне трудно ей возразить, что ее несогласие повергает меня в уныние, а ее согласие воодушевляет меня. Иначе говоря, мы точно меняемся с нею ролями: моя кротость и моя податливость – это кротость и податливость не старшего, а младшего. В этом есть нечто необычное: Мария, которую я помню несмышленышем, вдруг обрела надо мной власть, какой не имел надо мной никто, стала моим господином. В такую минуту я начинаю сомневаться в том, что в природе есть сила, способная влиять на нее или тем более ею руководить.
Впрочем, такая сила есть. Вошел в комнатку, которую отвели Маше, как это было в поезде, на расстоянии трех дверей от меня, и увидел, как в ее руках захлопнулась книга, именно захлопнулась с такой быстротой и, пожалуй, силой, что фотография, лежащая в книге, выскользнула… Однако чем ревнивее ты бережешь тайну, тем она менее прочна: то была фотография молодого Рерберга. Надо знать мою Марию, чтобы понять: даже в столь безобидной форме она старается не признавать власть другого человека над собой. Но вот что любопытно: убедившись, что тайну сохранить не удалось, она раскрыла книгу, показав снимок.
– Ты взяла фотографию с собой? – спросил я.
– Как видишь, – ответила она, дав понять, что так же открыто и прямо готова ответить и на другие мои вопросы.
Вот рассказал и поймал себя на мысли: достаточно ли это серьезно, чтобы быть обращенным к ней, о ней ли я говорю? То, что зовется пафосом характера, то он иной. Какой ^именно? Если говорить о Марии, то он в математике восточных языков. Именно математике. Ключ, который она обрела в итоге этих расчетов, в какой–то мере математических, способен открыть многоступенчатый замок языков, возникших в этом секторе Средиземноморья. В том храбром самозабвении, какому она отдает себя, когда начинает колдовать над постижением нового языка, мне видится нечто фанатичное, что, наверно, есть в ее натуре.
Мне трудно быть беспристрастным, когда я думаю о Маше, но пусть мне будет разрешено сказать: ее знание языков может быть полезно и нашей науке и грешной наркоминдельской практике. Когда Георгий Васильевич говорит: «Спросите Марию Николаевну, она наверняка знает», он, надо думать, имеет в виду и это.
Но у самой Марии есть один бог, власть которого она признает и которого готова превозносить безмерно: Игорь. Это важно установить в преддверии тех испытаний, которые нас с нею ожидают, нас…
В шестом часу мы собрались к Маццини.
– Ты так и поедешь? – спросил я Машу, оглядев ее более чем будничный наряд – она всего лишь сменила свитер, вместо бордового надела черный.
– Так и поеду, а что?
– Нет, ничего.
Наверно, она хотела показать, что в предстоящей встрече для нее нет ничего чрезвычайного.
– Ты… не боишься, Мария?..
Ее левая бровь, в изломе которой мне виделась всегда ирония, пришла в движение.
– Это так похоже на меня?
Похоже ли на нее? Пожалуй, непохоже. Но и картина событий, надо признать, не ординарна.
– Прости меня, но я должен был спросить тебя об этом.
– Прощаю.
Точно желая дать понять, что все слова исчерпаны, она полунаклонилась, закрыв лицо рукой. Можно представить, как трудна была ее мысль. Издавна любовь рисовалась людям игрой страсти, а тут явилась единоборством, в котором участвует железо. Ну, неколебимая натура Маши мне известна, но и Рерберг кремень порядочный. Какая твут игра страстей, когда коса нашла на камень?
Мне показалось, что Маццини проник в смысл встречи с точностью завидной, представив себе все ее повороты, – может, поэтому он ограничил состав гостей ближайшими учениками. Были все те же «апостолы», которых я приметил в тот первый вечер в парке отеля: лысый атлет, на обнаженном черепе которого покоилась бог весть откуда взявшаяся прядь волос в виде вопросительного знака, юноша в комбинезоне из брезентовой ткани и постолах, безбородый человек с гладким, почти детским лицом и челкой седых волос.
Рерберга еще не было, и Маша ушла к «апостолам», которые расположились под многослойной кроной старой сосны, они тут тенисты, эти сосны. Тот час, который мы провели с Маццини, прогуливаясь вдоль дома и обсуждая все аспекты генуэзского форума, я не отрывал глаз от старой сосны и «апостолов», расположившихся под нею. Мне казалось, что Рерберг, появившись у Маццини, не минет «апостолов» – Маша была там. Но на какой–то миг я ослабил бдительность и, обратив взгляд к сосне, не увидел там моей дочери, что безошибочно указывало: Рерберг пришел. Судя по времени, когда она покинула «апостолов», их беседа с Рербергом продолжалась минут сорок пять.
Да не произошло ли с Машей чего–то недоброго? Я улучил минуту и поспешил яблоневым садом к ручью. Мне не очень хотелось, чтобы, обнаружив мое отсутствие, хозяин принялся меня искать. Сад еще не зацвел, но его ветви уже были обременены бутонами, готовыми распуститься – цветение должно вот–вот начаться. У яблонь обильная крона, она низко свисала к земле, кое–где выстилая ее ветвями, – не просто было пробиться к ручью… Сознаюсь, что я готов был увидеть всякое, но только не это. Как некогда в Петровском парке, моя дочь вскарабкалась на вершину дерева, которое росло у ручья, а Игорь, упершись плечом в ствол, пытался его раскачать и вынудить Машу сойти на землю. Дерево скрипело, его ствол обратился в маятник, ветви тряслись, как при ознобе, моей дочери было не очень–то удобно наверху, но она была довольна.
– Ну что ж так немощно? – кричала она с высоты. – Ну еще чуть–чуть! Ну еще!..
Мне стало неловко, и я бежал.
Можно подумать, что, встретившись после столь долгой разлуки, они начнут выяснять отношения, а они обратились к своим детским играм, забыв все происшедшее. Легкость, с которой они решили все свои проблемы, порождала мысль трудную. Оказывается, все, что обрели они за годы и годы, было для них столь весомо, что все остальное уже не имело значения. По крайней мере так это мне показалось, когда я впервые увидел их вдвоем у Маццини. В тот день я не мог себе представить, что могло быть и иное мнение. В самом деле, что должно было произойти, чтобы это мнение было иным?
Я вновь увидел их, когда гостям предложили отведать горячей пиццы, украшенной разнообразием трав, на которые так щедра итальянская земля и в апреле, а к пицце было подано вино, белое и ощутимо студеное, что косвенно свидетельствовало, что хранилища вина у Маццини расположены глубоко в горе. Теперь я уже не отрывал глаз от Маши и Рерберга, не скрывая своего желания понять происходящее. Они шли от эвкалиптовой рощицы, что смыкалась с имением Маццини, и вели веселый разговор, время от времени заглядывая в книгу, которую держал перед собой открытой Рерберг, – вид у них был достаточно беззаботный. Вот она, современная молодежь: когда у нее легко на душе, она плачет, когда тяжко – смеется. А может быть, бес противоречий всего не объясняет, просто тут участвует железо, о котором я имел случай говорить…
Не было никаких надежд, что мне откроет глаза на происходящее Маша. Поэтому я решил действовать напропалую: я взял свою пиццу, не позабыв и вино, пошел к Рербергу, дав понять, что хочу говорить с ним. Его изумление, надо отдать ему должное, было искренним: он не ожидал такого.
На слова, предваряющие разговор, я затратил самую малость времени.
– Не скрою, Игорь, что я был встревожен, увидев тебя в особняке «Секоло»…
Он был занят своей пиццей и не поднял глаз, ему было удобно их не поднимать.
– Если это на меня не похоже, Николай Андреевич, то, может быть, вы объясните почему?
– Ты мне виделся врагом политики, вечным, а тут именно политика, при этом в ее не самом чистом виде, не так ли?
Ои победил пиццу и положил тарелку на траву у своих ног, взяв бокал с вином, который расположил на пятачке, образованном срезом молодого дерева.
– Я этих фанатиков повидал в России достаточно, мне отца моего хватит на всю жизнь… – неожиданно произнес он и посмотрел на пустую тарелку: он был очень голоден. – У меня все будет иначе, Николай Андреевич! Мне говорят мои здешние друзья: «Не будь дураком, Рерберг». И не буду дураком! «Делай так, как мы тебе говорим». И буду делать так, только так!.. А их советы не так глупы! Вникните в то, что я скажу: если есть у тебя копейка в кармане, то она тебе не враг, а друг… Я говорю дело: останешься на бобах, никто тебя не выручит, а копейка выручит! – Он взял тарелку и, подобрав кусочек пиццы, торопливо и жадно съел. – Простите меня, но писаниной не проживешь ни в России, ни в Италии. У писателя, как и у ученого, должен быть тыл. У одного кирпичный завод, у другого мыловарня, у третьего маслобойка… Вы думаете, что собственность меня компрометирует? Ничуть! Если она кормит меня, почему я должен ее стыдиться? Я же не краду эти деньги, Николай Андреевич, как не крали их мои деды в России… Знаете, Николай Андреевич, я тут много думал, и, простите меня, мне открылось такое, что было скрыто от меня в России… В великом споре между отцом и дедом Петром я пойду не с отцом…
– Погоди, а какое отношение ко всему этому имеет «Секоло»?
– Понимаете, Николай Андреевич, тут действуют иные законы, совершенно иные… – Единым махом он испил почти весь бокал, видно, его мучила жажда. – Как вы полагаете, был бы Рафаэль Рафаэлем, если бы не было папы?
– Надо было продать душу дьяволу, и этим дьяволом стал наместник бога на земле?
– Если хотите, да. Вот откуплюсь и вернусь к своим рукописям…
– Дьявол не покупает душу на время, Игорь…
Он поднял с травы тарелку, поставил на нее бокал: этот разговор стал для него неудобен.
– А разве только Италия – прибежище дьявола?..
– Оставим в покое дьявола, – заметил я, пытаясь вывести разговор из мира иносказаний, которые были больше удобны ему, чем мне. – Как я понимаю, главное решение ты уже принял?
Он молчал.
– Знаешь, Рерберг, как мне говорили в свое время итальянцы на апельсиновых плантациях Сицилии, право быть боссом завоевывалось не доблестью, а преступлением… Прости меня за это сравнение, но я имею на него право – я не считал тебя чужим…
– Не считали?
– И все еще не считаю, Игорь…
Его рука, в которой он держал тарелку со стоящим на ней бокалом, подпрыгнула, бокал опасно накренился, и, предупреждая падение, он снял его с тарелки – вот так, держа в одной руке тарелку, а в другой бокал, он бежал от меня.
Как ни смятенен был его ответ, он был ясен: вопроса о возвращении на родину для Рерберга не существовало.
Вечером я постучал к Марии. Она уже обрядилась в халат и шлепанцы, приготовившись ко сну.
– Входи, но чур, ненадолго. – Она указала взглядом на раскрытую книгу, что лежала на стуле, придвинутом к кровати: час чтения перед сном был для нее дежурным. – Чаю хочешь? Вот тут и галеты есть…
С той сноровкой, какая мне и прежде казалась красивой, она налила мне чаю и придвинула вазу с галетами, определив мое место. Я сел.
– Как ты нашла Игоря? – спросил я и налил чай в блюдечко: чай был сладок, если я пил его из блюдечка.
Я вдруг услышал, как у меня за спиной остановились ее руки, освобождавшие волосы от шпилек.
– Знаешь, я хочу, чтобы тут все было у нас с тобой ясно… – произнесла она, и я ощутил, как гнев отнял у нее дыхание – ей недостало воздуху.
– Ну что ж, сделай милость и внеси в этот разговор ясность, – заметил я.
Я слышал, как шпильки упали на стеклянную поверхность туалетного столика, просыпавшись на пол, но она не подняла их.
– Пей свой чай, пей, пожалуйста, – произнесла она и села на тахту, стоящую от меня справа. – Самое трудное для меня – не отдать себя во власть неприязни и быть справедливой до конца…
– Это как же понять, Мария?
– Очень просто: предположим, он решил остаться… Я не знаю его решения, но предположим, что так. Согласись, что этого достаточно, чтобы не иметь с ним дела, больше того – чтобы лишить его возможности объяснить свой поступок… Так ведь?
– Так, разумеется.
– А вот я так не думаю. Понимаешь, не думаю. Если даже я почувствую, что он уже принял решение, принял бесповоротно, я его выслушаю, как будто бы он этого решения не принял… Должен действовать этот закон древних, забытый закон: бей, но выслушай!
– Ты выслушаешь – и что ты для себя добудешь, Мария?
Она пересела на стул, стоящий напротив, уперев в меня глаза, – никогда в них не было столько неприязни, сколько сейчас.
– Я вижу, что обида душит его, понимаешь обида.
– То, что ты называешь обидой, обида ли?
– И все–таки я выслушаю его – не склоняй меня быть к нему несправедливой, я не прощу себе этого…
Я поднялся, оставив чай недопитым, она не встала,
– Не ломай меня! – крикнула она мне вслед. Б последних ее словах было признание слабости.
По моим расчетам, Чичерин уже переговорил с Хвостовым, но тот все еще пребывал затворником в своей келье под матицами – видно, жестокая простуда не отпустила Ивана Ивановича.
Я постучал к Хвостову.
– Это вы, Воропаич? – отозвался он из глубины комнаты. – Входите.
Я открыл дверь; темнота и все тот же запах валерианового корня – он боялся за свое сердце.
– Что–то с моим ночником, не закрывайте двери, – произнес он, и я услышал, как неистово заскрипели пружины его кровати. – Если не возражаете, выйдем под открытое небо.
– Ну что ж, готов, – произнес я и отступил в коридор.
Он накинул реглан, который делал его и без того богатырские плечи основательно покатыми, а фигуру широкой, и мы стали спускаться. Когда он шел к лестнице, протянув руки, мне показалось, что его колеблет ветер.
– Надо ли выходить из дому? – спросил я. – Может быть, посидим в холле?
– Нет, нет… Выйдем, воздух мне показан, – настоял он.
Мы вышли, и он, заметно храбрясь, прибавил шагу, опередив меня, и вновь я приметил, что его поводит.
– Почему вы отстали? – обернулся он ко мне. – Боитесь за меня?.. Ерунда – не бойтесь!.. – Он попытался обернуться и, будто оступившись, распростер руки, стараясь удержать равновесие. – Прибавьте шагу… – Он опасался остаться один, он должен был видеть меня рядом, это давало ему чувство опоры. – Прибавьте шагу, прибавьте…
Я подошел к нему, но он не сдвинулся с места – он готовился мне сказать нечто значительное, а сказать это он мог, только дав деру от этого окаянного ветра, который слишком явно норовил сшибить его с ног.
– Вы, конечно, знаете, что мне сказал Чичерин насчет моего чистописания для «Известий»? – спросил он.
– Нет.
Он посмотрел на меня с той лукавинкой непобедимой, которая точно говорила: не хитри, друг Воропаич.
– Он сказал: недостает мысли. Так и сказал: недостает…
Я вздохнул – он заметил этот мой вздох. Ему показалось, что во вздохе есть сочувствие к нему, ему стало жаль себя.
– Жили–были два друга, жили, казалось, душа в душу, и каждая новая встреча несла радость и одному и другому. А потом как гром средь ясного неба – одному из них стало недоставать мысли… Бывает так, Воропаич?
– Бывает.
Он сделал усилие и пошагал; окаянный этот ветер развоевался не на шутку: он напирал то справа, то слева, бросая Хвостова от одной бровки аллеи к другой, но Иван Иванович продолжал идти.
•– Вы полагаете, что я отдал себя низменному… – Он остановился. – Своекорыстию, неблагодарности, глазу завидущему, который злее всех напастей? Нет!.. Я только хочу сказать…
– Да, да, я слушаю вас, Хвостов… – произнес я и поймал себя на мысли: я никогда не называл его так – Хвостов. В том, что я назвал его так – Хвостов, – я точно переступил грань в своем отношении к нему, что–то он выказал такое, что меняло мое отношение к нему.
– Вы видите в Чичерине едва ли не гения… – произнес он неожиданно тихо. – А по мне, эта его странность – маска… За нею легче упрятать то, что он сам зовет недостатком мысли! Вот как!
– Говори, да не заговаривайся, Хвостов! – вырвалось у меня.
Казалось, в этой своей неприязни он обрел опору – будто стих окаянный ветер, оставив его в покое: он пошагал.
– Вот она, ваша терпимость! – крикнул он не останавливаясь. – Вот она!
Он ушел, а я продолжал стоять. Да не дал ли я ему повод говорить о недостатке терпимости? Какая была необходимость вот так осекать его?
В десятом часу Чичерин пригласил к себе Красина, а часом спустя к нему направились Литвинов и Боровский. Я был в парке и, взглянув на чичеринские окна, увидел, что они зеленые – видно, беседа шла у письменного стола, подсвеченного настольной лампой, – в самом этом зеленом сумраке поселилась тайна. На память пришли слова Чичерина, произнесенные где–то при выходе из Сан – Лоренцо: «Мне сказали, что Вирт добивается приема у Ллойд Джорджа, однако безуспешно… Разговор не имел продолжения по моей вине: я не распознал в этих словах далеко идущего смысла, а он был, этот смысл, сейчас я его вижу – он в густозеленой мгле тайны… Я представляю, как ожило воображение Георгия Васильевича! Бедняга Ллойд Джордж полагает, что поставил русских в безвыходное положение. Он небось уснул сегодня с улыбкой на устах – безвыходное!.. Его небось посетил сон, какой он ждал все эти дни и не мог дождаться: Парис наконец внял слову старого валлийца и изменил свой выбор, остановив внимание на той скромной девственнице, что расположилась поодаль и, как могло показаться, так приглянулась старому волоките. Ему, Ллойд Джорджу, невдомек, что в этот полуночный час кроткий Чичерин, еще с достопамятных лондонских времен обрекший себя на бессонницу и превративший ночь в день, населил зеленый сумрак своего кабинета совсем иными тенями. И, подобно тому как это было многократно, неяркий, но устойчивый пламень возник в глазах Чичерина: мысль столь же неожиданная, сколь смелая, вторглась в его сознание и лишила покоя – нет, ночь не для него… Не случайно все его великие идеи рождались в тот заповедный час, когда мир обретает миг абсолютного покоя: тишайшая полночь, тот час тишины, когда даже птица в своем сонном забытьи умолкает, даже прибрежная волна замедляет свой бег, даже звезды как бы каменеют.
Наверно, великое благо, что не утратил здорового сна Ллойд Джордж. Впрочем, не только он, но и динамичный Барту, намаявшийся за день, и меланхоличный виконт Иссии, и целеустремленный Шанцер, и обстоятельный Факта, которому по праву хозяина спать не положено даже тогда, когда все спят… Впрочем, спит, сладко посапывая и самозабвенно вздыхая, не только представительная Антанта. Если выйти на веранду, можно рассмотреть в первозданной тьме апрельской листвы особняк немцев – и он, этот особняк, погружен в дремотную мглу: спят и Вирт и Мальцан… Да что немцы! Уже давно улеглась на покой смятенная в эти апрельские дни двадцать второго года Санта – Маргери–та, а вместе с нею и Кава де Лавания, и Сестри Леванте, и Сан – Ремо… Спит побережье. И не только побережье; спит знатная Генуя: спят сном праведников ее палаццо и доходные дома, ее пристани и доки, ее биржевые и нотариальные конторы, ее ломбарды и похоронные бюро. Сон – благо. Отдайся ему безраздельно – и проживешь сто лет… Повинуясь доброму инстинкту, спит, поверженное многозвездной итальянской ночью, все живое, кому дана долгожданная отлучка от пустой суеты житейской самой природой. Бессонница да страдная мысль только Чичерину не дали покоя – бодрствует русский…
Было без малого два, когда ко мне постучали:
– Вас просит к себе Георгий Васильевич.
Он поднял на меня глаза, точно хотел спросить: ну кто спит в этакую рань? Горела зеленая лампа, но он был один. Перед ним лежал томик Вольтера – его максимы, прижизненное издание, – он брал его иногда и в дорогу.
– Позвоните, пожалуйста, немцам, – произнес он, не выпуская из рук Вольтера, и кивнул в сторону окна, за которым был красный особняк. – Я не оговорился: позвоните немцам и пригласите к телефону фон Мальцана… – Сейчас я заметил, что его указательный палец разделил томик Вольтера надвое, удерживая то место книги, на котором он прервал чтение. – Скажите ему, что мы хотели бы видеть немцев у себя к завтраку, намереваясь продолжить переговоры, прерванные в Берлине. – Он извлек защемленный палец, дав понять, что сказал почти все и намерен приняться за своего Вольтера. – Завтра пасхальное утро, и он скажет, что хотел бы пойти в церковь, но вы постарайтесь настоять…
В то время как я шел к двери, боковым зрением, смятенным, но достаточно точным, я уловил, как Вольтер был отодвинут в сторону и Чичерин вышел на веранду, – наступил тот самый момент, когда и всесильный Вольтер не мог отвлечь его от происходящего; нарком волновался.
Я открыл дверь соседней комнаты, где находился телефон, и позвонил. Оперативная служба в красном особняке была отлажена с чисто немецкой пунктуальностью – телефон ответил тотчас:
– Господин фон Мальцан? Давно спит, разумеется… Поднять и подозвать к телефону? Да можно ли нарушать сон министра?.. – Для него Мальцан, разумеется, «министр». – Если вы обращаетесь к министру, то, разумеется, государственной важности… Неотложно?.. Все неотложные дела господин министр делает днем… Поручение господина Чичерина? А господин Чичерин разве не спит? Одну минуту…







