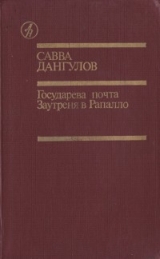
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
25
Стеффенсу позвонили из Наркоминдела и сказали, что Ленин готов принять американца завтра, 14 марта.
– Значит, завтра? – задумался Стеффенс. – А что сегодня? Может, есть смысл повидать сегодня мадонну Литту?
– Простите, Стеф, но мадонна Литта не в образе ли молодой Крайновой? – спросил Цветов, он знал, что американца могла повлечь в Замоскворечье и возможность еще раз взглянуть на хозяйку дома.
– По–моему, так рано замоскворецкая Литта не возвращается домой, – произнес Стеффенс. Ответ был лишен категоричности и давал возможность американцу не выказывать намерения явно. – В конце концов, у пас дело к Крайнову, а не к Крайновой, а он к этому часу уже дома… – засмеялся американец, он радовался своей находчивости.
Цветов позвонил в Замоскворечье и получил ответ, немало воодушевивший: Крайнов готов был принять американцев, а заодно и Цветова. Пока они огибали Александровский сад, а потом перебирались долгим мостом на ту сторону реки, хозяин замоскворецкого дома растопил печь, дрова взялись не сразу, в комнату потянуло сырым дымком, так дышит лесной костер, в который подбросили хвороста, побывавшего на дожде.
Крайнов оказался не один, из Приуралья вернулся его друг, долгоусый юноша в солдатской гимнастерке и крагах, который тут же был представлен весьма церемонно: свободный художник Вадим Гетманов. Оказалось, Гетманов – однополчанин Крайнова по уральскому походу. Крайнов и Гетманов ушли к Фрунзе вместе и, как тут же было установлено, пили воду из одного колодца, пройдя бок о бок не одну сотню верст. Поэтому, какой бы темы они ни касались, каждого из них постоянно осеняла память о друзьях, которых они оставили в приуральском далеке, их точно взрывало при воспоминании о друзьях, и они ничего не могли с собой поделать.
– Нет, ты скажи, Вадик, а как эта старая перечница Колесов, которого комдив произвел в старшие интенданты, все холит свои бакенбарды и не дает покоя докторше?..
– Он верен себе, Колесов!.. – отвечал Гетманов, для солидности покручивая ус. – Сотворен на века!..
– А как молодец Чичеров, все так же ходит в ночную разведку и на сон грядущий поглощает «Трех мушкетеров»?
– Нет Чичерова! – вздохнул Гетманов. – Нет, совсем нет! – повторил он, если надо было убедить, то в первую очередь себя. – Нет Чичерова. Вырос Чичер на равнинной реке, не совладал с быстриной уральской… Не он один!..
Друзья затихали – непросто было возобновить разговор. И то резон: тем, кто пришел с равнинных рек России, не по силам оказались Тобол и Белая – канули в быстрине.
Но была в беседе друзей и главная тема, по всему, она возникала еще в тот ранний послеобеденный час, когда Гетманов пришел в дом друга. Непросто было проникнуть в суть разговора, если бы на столе не остался, быть может, по недосмотру длинный список имен, как привиделось Цветову, экзотических: Спартак и Тиберий Гракх, Пестель и Робеспьер… Видно, дальнозоркий Крайнов уловил изумление в глазах Цветова, ненароком ухватившего в списке эти имена.
– Вот идея… – улыбнулся Станислав Николаевич. – Пусть Москва и обликом своим будет красной, хотим на каждой площади поставить монумент ниспровергателю основ!.. – он рассмеялся, потирая руки. – Хороша мысль. Ей–богу, хороша, – он взглянул на друга. – Убедил я тебя, Вадик?
Буллит придвинулся к огню – его сморила дрема.
Цветов принялся переводить. По мере того как Стеффенс проникал в суть замысла, необыкновенное воодушевление охватывало его, хотел знать весь ряд этих ниспровергателей основ, чьи монументы новая Россия хотела видеть на московских площадях. Эти имена, быть может, не все были хрестоматийными, но имена эти помогали понять русскую революцию – ее идеал, ее представление о чести, равенстве и свободе.
– Господин Крайнов, простите мне эту просьбу необычную, я хочу знать весь список, – неожиданно обратился Стеффенс к Станиславу Николаевичу, который почувствовал, каким интересом к этим именам воспылал американец, и сам сосредоточился на списке, взяв его в руки и поднеся к свету.
– Тогда слушайте, – возгласил Крайнов да так протяжно, будто сзывая вече, его бас загустел, сейчас он возглашал, радуясь мощи и крепости голоса. – Слушайте, слушайте!.. – он набрал в легкие воздуха, приготовившись читать. – Жорес, Спартак, Гарибальди…
Казалось, американец дождался той минуты, когда он воспринимал русскую речь наравне с остальными, не обращаясь к помощи переводчика. Он согласно кивал головой, нашептывая:
– Жорес, Спартак, Гарибальди.
Стеффенс не мог отказать себе в признании: в этом строе имен была магнетическая сила. Да не способна ли была она поколебать представление о русских большевиках как о людях, заточивших себя в пределы своеобычного скита?
Крайнов кончил читать, и тотчас Гетманов вышел из своего темного угла.
– По–моему, вы улыбаетесь? – спросил он американца. – Мне кажется, даже чуть–чуть скептически? Так?
Стеффенс растерялся.
– Я вас не понимаю…
Пока читался список, Гетманов, видимо, приготовился к разговору.
– Не подумали ли вы: вот она, святая наивность?
– Простите, я не дал повода так думать… Гетманов стоял на своем.
– Нет поры более революционной, чем первые три года революции, не так ли?
Крайнов рассмеялся, он–то знал друга лучше остальных, и ему было ведомо: затравив спор, друг будет биться до конца.
– Дай сказать и нам, Вадик! – обратился он к Гет–манову в той снисходительно–доброй манере, которая была ему не чужда, когда надо было умерить норов друга–спорщика. – Согласись, Вадя, что и ранней поре революции может быть свойствен и здравый смысл, и точный расчет…
– Может быть свойствен, разумеется, но не в данном случае! – парировал Гетманов. – Пока ты возглашал эти имена, я считал…
– И сколько у тебя получилось?
– Что–то около шестидесяти…
– Ну, что из этого следует?
– Нет у нас сил, чтобы ставить шестьдесят памятников, понимаешь, нет сил… И к тому же… есть ли в этом смысл?
– Есть смысл… Есть!
– Тогда растолкуй, какой. Растолкуй, понять хочу.
Он стоял над Крайновым гроза грозой, рука, схваченная повязкой, вздрагивала, иногда она приподнималась к груди, и тогда казалось, что он ею охраняет грудь от удара.
– Понимаешь, весь смысл в этих именах, – произнес Крайнов неожиданно тихо, ему стоило усилий смирить голос. – В самом существе имен, каждое из которых, согласись, имя–символ… Поставленные рядом, они должны сказать людям необыкновенно много… И самое главное, должны объяснить, что произошло в России… Повторяю, смысл в именах…
– Значит, в именах? – переспросил Гетманов. – Если хотите, для меня тут не все имена безусловны…
– Зачем надо ставить памятник в Москве, например, Бебелю? – спросил Крайнов, улыбаясь, видно, он умел и прежде подзадорить друга.
– Не только Бебелю… Но и Бебелю! – ответил Гетманов.
– В лучшие свои годы Бебель был хорошим марксистом… – сказал Крайнов.
– В том–то и дело, в лучшие годы, – тут же среагировал Гетманов и тронул ладонью влажный лоб, он накалил себя порядочно.
. – А это немало, – уточнил Крайнов.
– И немного, – возразил Гетманов.
Лицо Буллита, отмеченное уверенностью, казалось, от рождения, изобразило смятение – по правде говоря, его не очень увлекал спор о Бебеле.
– Помните, господин Крайнов, тот раз, когда вы проводили Карахана к двери, ну, тот раз, когда вы вышли вместе с ним?..
– Помню, разумеется… – подтвердил Крайнов, насторожившись: что–то подсмотрели тогда всевидящие глаза Буллита такое, что для него было небезынтересно.
– Мне показалось, что вы вернулись к столу больше обычного взволнованным… – глаза Буллита были устремлены на Крайнова, он пытал. – Верно?..
– Не помню, господин Буллит….
– Я помню! – Буллит улыбался, эта несмелая улыбка, улыбка мерцающая призвана была как бы обратить разговор в шутку – когда разговор ведется в таких тонах, короток путь к отступлению. – Да не назвал ли Карахан срок отъезда в Стокгольм? – Нет, все поместилось в поле зрения Буллита, взгляд его не просто остр, он цепок.
Крайнов опешил. Ничего не скажешь, смел американец. Смел и, пожалуй, чуть–чуть груб – чтобы спросить так вот в лоб, одной смелостью не обойдешься.
– Нет, мы говорили не о Стокгольме, мистер Буллит.
Улыбка Буллита все еще мерцает, не было бы этой улыбки, пожалуй, не избежать неловкости. А сейчас все в порядке, мерцание это спасительно. Но улыбка говорит и об ином. Нет, вы меня не обманете, будто свидетельствует Буллит. Все–таки речь шла о Стокгольме. Небось торопит Карахан с отъездом. Торопит?
– А почему бы не поставить в Москве памятник Бебелю, если есть такая возможность? – засмеялся Стеффенс, возвращаясь к прерванному разговору. – Я за памятник Бебелю в Москве! – он посмотрел в окно – по ту сторону реки, на кремлевском холме, очевидно, было посветлее, огни там еще не зажигали.
– Если Ленин назначил прием на завтра, значит, уже вернулся из Питера или должен вернуться… – произнес Крайнов, как бы рассуждая сам с собой.
– Ленин? – откликнулся Стеффенс, он был внимателен к тому, что говорилось.
– Да, он бы вызван в Питер на похороны – умер муж его старшей сестры, – произнес Станислав Николаевич. – Не просто родственник, близкий Ленину человек – комбатант, соратник по борьбе… Говорят, Ленин шел за гробом до Волкова кладбища…
– А мне казалось, что он выехал туда, чтобы выступить перед петроградскими рабочими. – Стеффенс встал рядом с Крайновым. – Две речи в Таврическом дворце, потом еще две речи, потом речь перед сель–хозрабочими… Мне даже воспроизвели эту его фразу, которая докатилась сюда прежде, чем он вернулся: «Мы вступили в голодное полугодие…» Вы сказали, поехал на похороны?..
– Да, на похороны…
Когда они вышли к Москве–реке, Стеффенс думал о разговоре с Крайновым… Сыпал снег, мокрый, мартовский, укрывая медленно идущие по реке льдины непрочной шубой. Время от времени Стеффенс отрывал взгляд от реки, пытаясь рассмотреть огни на холме, но за толстой завесой снега ничего не было видно,
– Так и сказал: «Мы вступили в голодное полугодие», – повторил Стеффенс, обратив взгляд к холму, снег ложился на лицо, борода стала седой.
Все, услышанное в замоскворецком доме, объясняло Стеффенсу происходящее в России. Но не только, открывало глаза и на состояние Ленина, в котором он жил все эти дни. А это уже прямо касалось Стеффенса – встреча в Кремле отнесена на завтра.
– Кстати, не могли бы вы взять на себя перевод завтрашней беседы? – спросил Стеффенс Цветова.
– А возможно ли это?..
– Я оговорил: вы мой переводчик…
Сергею оставалось только в знак согласия склонить голову.
Казалось, дрема все еще владеет Буллитом – вечер прошел мимо него.
26
Ленин принял Стеффенса 14 марта 1919 года в одиннадцать утра…
Приморозило, но небо было ясно. День был не столько весенним, сколько зимним, с ярким солнцем, чистым снегом – в Москве так бывает на исходе зимы.
Легко дышалось, как и легко ладился шаг.
Они минули Кутафью башню, и Цветов вдруг ощутил, как резки грани кремлевских построек, точно само солнце резало кремлевский камень, ограняя его густо–синими мартовскими тенями.
Тут на холме было ветренее, чем в городе, и, пожалуй, морознее. Первым это воспринял Стеффенс, его лицо стало лиловым.
Когда они переступили порог кабинета, Ленин стоял у карты, чуть наклонившись, можно было подумать, что в поле его зрения был российский юг, быть может, Крым, а возможно, Дон с Кубанью.
Он услышал звук открывшейся двери и повернулся, опершись правой рукой о спинку стула, оказавшегося рядом, он это сделал быстро, как человек, привыкший все делать в темпе.
– Здравствуйте, здравствуйте… – рука его была ощутимо прохладной, в комнате было не жарко. – Садитесь, пожалуйста, – он потер руки с видимым усердием. – Мне сказали, что однажды вы уже были в России, – обратился он к Стеффенсу.
– И имел честь слышать вашу речь с балкона особняка Кшесинской, – с радостной охотой Стеффенс отозвался на желание Ленина начать разговор. – Стоял с русским другом, и тот переводил мне. – Американец улыбнулся Цветову, точно хотел сказать: вот тогда у меня тоже был русский друг, который хорошо помогал мне с переводом. – Необыкновенная привилегия слушать оратора из толпы…
Ленин засмеялся.
– Вы полагаете, привилегия?
– Конечно… стать хотя бы на время рабочим разве не привилегия?..
– Хорошо…
Ну вот, кажется, разговор получил разбег.
– Говорят, вы были в Петрограде, так?
– Был в Петрограде… по печальному обстоятельству, – Ленин положил кончики пальцев на висок, затих, точно ощущая, как под пальцами развоевалась кровь. – Вот заметил еще в те далекие времена, когда вел… кружок за Невой: у питерского рабочего своя психология, никто вернее его не способен обнаружить, как врачи говорят, болевую точку…
– Например?
– Не слишком ли мы доверяем старому офицерству, есть ведь факты, когда офицеры перебегают к белым. Ну, разумеется, есть такое, оно нам вышло… боком, – он отнял пальцы от виска, сжал и разжал руку. – Ничего не скажешь, болевая точка!.. И все–таки, и все–таки… – какой–то миг его ладонь оставалась раскрытой. – Нет необходимости отказываться от помощи старых офицеров…
Ему вновь стало холодно, его руки заходили, потирая одна другую.
– Что говорить, западная пресса предвзята, но иногда и ей нельзя отказать в наблюдательности? – вдруг произнес он, выдав мысль тайную, которая им сейчас владела. – Многомудрый «Тайме» изрек дело: червь сомнения источил все армии, однако не коснувшись армии красной!.. Не правда ли, хорошо сказано, главное, близко к истине!.. – он посмотрел на Стеффенса, не тая пристальности взгляда. – А знаете, пен чему я об этом говорю? – видно, он не обнаружил в глазах американца смятения. – Время, что конь с норовом. Вот вопрос вопросов: удержат ли большевики поводья, не сбросит ли он их со своего хребта? – Ленин выдержал паузу, ему очень хотелось, чтобы на этот вопрос ответил его гость, – Мнение «Тайме» о Красной Армии можно понимать и так: не сбросит… Что ни говорите, а на вопрос ответил «Тайме»: не сбросит, не сбросит…
Ленин внимательно следил за тем, как дается Цветову перевод, как слово за словом выстраивается фраза. Два потока слов, русский и английский, были для него зримы. Он мог вдруг осторожно отнять от стола руку и, невысоко приподняв ее, подсказать: «ту тиич» или «ту спенд». Когда перевод был не прост, Цветов глядел на него, точно искал поддержки. В этом случае улыбка понимающая или кивок головы, а подчас движение век означали: тревога напрасна, все хорошо, все хорошо. Ни единого слова не было сказано между ними, а контакт был. И Цветов не мог не сказать себе: это же великое чудо, что ты вот находишься здесь. И еще большее чудо, что этот человек участвует в диалоге, прямо глядя тебе в глаза. Диалог волновал, он рождал токи, которые не минули и сердца Цветова.
– Вот вы говорите «кулацкие восстания», – заговорил Стеффенс. Вопрос явно не имел отношения к тому, о чем шла речь прежде, и был заготовлен заранее. – Но мне хорошо известно: против Советов идут не только кулаки, там много середняков, бедных крестьян и даже тех, кого можно назвать деревенскими пролетариями… Так я говорю?
Стеффенс неожиданно поворачивал беседу к проблемам острым.
– Так, конечно, есть и середняки, и бедняки, и деревенские пролетарии, а по–нашему, по–русски – батраки… – реагировал Ленин. – Есть… Но ведь речь идет о том, куда повернула основная масса… Вы меня поняли: куда повернула? – Ленин пододвинул стул. – Деревенская буржуазия против нас, как, впрочем, и мы по понятным мотивам против нее. Трудовое крестьянство за нас, как, разумеется, и мы с ним… – он помедлил, ожидая, что до всего остального собеседник дойдет и без его помощи. – Поэтому на нас идут вой–нон кулаки и только кулаки, хотя там есть, конечно, середняки и бедняки, которых погнал в эти банды страх и обман…
– А не мог бы я спросить вас доверительно? – Стеффенс сделал со своим стулом то же, что минуту назад Ленин, пододвинув его вплотную к столу. – Не думаете ли вы, что с приходом на русскую землю войск Антанты Красная Армия стала сильнее?
Ленин скрипнул стулом – не встал, а вскочил.
– Несомненно!.. – он засмеялся. – Издревле, понимаете, издревле ничто так не способствовало сплочению России, как борьба с чужеземцами…
И вновь Цветов отметил для себя, как самозабвенна была радость Владимира Ильича, как откровенна мысль, осветившая его… Он точно говорил себе: «Да, ты можешь и не быть красным, но если ты русский, нашествие чужеземцев будет и для тебя самым большим из зол… Тут никто не должен обманываться. Наша армия и прежде была сильна, но с интервенцией она стала сильнее, быть может, многократ сильнее».
Встал и Стеффенс. Они сейчас стояли в противоположных концах кабинета, точно примеряя силы. Сказав: «А не мог бы я спросить вас доверительно?» – Стеффенс всего лишь подступился к сути – главный вопрос, самый главный предстояло задать. Однако как найти тут необходимые слова?
– Намерена ли революция и впредь карать своих врагов? – наконец решился американец.
Ленин невольно отступил.
– Это вас беспокоит? – он оттенил голосом «это» и «вас».
– Не только меня…
– Кого может тревожить… это? – в том, как он произнес «это», теперь была слышна ирония.
Стеффенс не мог не ощутить, каким гневом полыхнуло от слов Ленина, такого еще сегодня не было.
– Париж…
– Париж!.. – ярость, что закипала в нем все ощутимее, вырвалась вместе с этим «Париж!». – Хотите ли вы сказать, что те самые люди, которые только что организовали убийство семнадцати миллионов человек в бессмысленной войне, теперь озабочены гибелью нескольких тысяч в революции? Это вы хотите сказать?.. – он зашагал по комнате, вздрогнула пальма, стоящая у окна, и зашелестела твердыми листьями. – Если мы хотим победы революции, мы должны знать: революция не делается в белых перчатках… – Он вернулся к столу, сел, положил руку на чистый лист бумаги, не без труда приподнял, отняв от стола и локоть. Рука, лишенная опоры, дрожала. – Революция имеет право карать своих врагов, чтобы жили миллионы, – сказал он.
– Хорошо, допустим, вы действуете во имя большинства, а значит, если говорить о России, то во имя русской деревни, так? – Стеффенс внимательно смотрел на Ленина, он не мог вести разговор, если не видел глаз собеседника. – Тогда уместен вопрос: как серьезно вы улучшили положение крестьян?
Ленин взял чистый лист бумаги и положил перед собой, дав понять, что хочет пояснить свою мысль наглядно.
– Вот наш курс в крестьянском вопросе, – сказал Ленин и, дотянувшись до стакана с карандашами, взял мягкий фаберовский карандаш, он любил писать им. Владимир Ильич провел две линии, одну потолще, другую потоньше. – Вот наш путь в крестьянском вопросе, – указал он на толстую линию. – А вот сюда мы вынуждены сместиться, – он коснулся кончиком карандаша тонкой линии. – Как видите, расстояние от одной линии до другой значительно. Но наше преимущество, что мы точно знаем это расстояние, а следовательно, представляем, когда и как мы его преодолеем…
Он сделал паузу, и вновь их глаза встретились.
– Важно понимать, что это не отход от принципа, а мера, продиктованная войной… – он посмотрел на американца испытующе. – Временная… И запомните: русские крестьяне получили землю из рук Советской власти.
Сейчас Ленин неослабно следил за выражением лица Стеффенса. Быть может, он спрашивал себя, в какой мере эта беседа изменила его представление об американце. Поначалу казалось, перед ним либеральный буржуа, даже больше, чем либеральный буржуа, человек, в чем–то сочувствующий новой России, возможно, даже симпатизирующий ей. Но тогда как понимать вопрос Стеффенса о красном терроре, вопрос, поставленный без обиняков?.. И в такой ли мере этот, вопрос продиктован Парижем, как старался это показать Стеффенс? А не было ли тут простого смятения, которое объяло Стеффенса, когда Ленин спросил, не скрывая гнева: «Это вас беспокоит?» Как ни скромны были познания Стеффенса в русском, он охватил многозначительное «это»… Что же сказала Ленину беседа, если говорить о самой личности американца?.. Казалось, Стеффенс не пренебрег тем, чтобы представление о нем было двояким, определенно, не пренебрег…
Что говорить, американец был тут в такой мере своеобычен, что немало смутил и Цветова. Всю дорогу, пока они шли от Кремля к гостинице, Цветов думал: «А как сейчас Ленин?» Ну, разумеется, Ленин предполагал встретить друга, с которым хорош был бы разговор по душам о муках и радостях революции, а встретил?.. Впору было и пожалеть: да нужна ли эта встреча? Сейчас нужна? В дополнение к неодолимо сумрачным петроградским испытаниям еще и это? Нужно оно Ленину? И Цветову вдруг припомнилось, когда Ленин слушал Стеффенса, наклоняясь, лицо его темнело, и в глазах появлялась печаль, какой прежде не было, лицо и глаза смертельно уставшего человека, и Цветов не мог не спросить себя: «Есть ли на свеге человек из великого множества людей, живущих на земле, есть ли другой человек, который бы взял на свои плечи такую ношу?.. Есть ли другой человек?..» Впечатление от кремлевской беседы, состоявшейся только что, могло быть и иным, но Цветов остановился на этом… И Сергей подумал: где он видел еще эти усталые глаза, смертельно усталые? Да не у Германа ли? И будто искра высветила сознайие, хотелось спросить себя: брат твой, брат… не из армии ли тех, кто считает себя сподвижником человека, которого ты сейчас видел в Кремле?
В сознании Цветова откладывались свои подробности, которые ему удавалось поднакопить, наблюдая Стеффенса и Буллита.
Стеффенс вернулся из Кремля, Буллит ждал его. Стеффенс взметнул руку, будто хотел сказать: «О'кэй!» Но Буллит подумал: «Храбрится!» В лице Стеффенса не было той лихости, какая была в жесте.
Даже наоборот: была робость, может быть, даже тревога.
Буллит постучал ладонью по столу, словно вымолвил: не пытай, скажи, как там?
– Хотел спросить обо всем, да как–то не успел, одной встречи мало! – сказал Стеффенс.
– А о чем хотел спросить?
– У меня был сонм вопросов, сонм! – Стеффенс ожил. – Да что там говорить! Никто не спрашивал его о том, о чем хотел спросить я! – он замахал руками. – Русская революция!.. Как она относится к частной торговле, к предпринимательству, к собственности? Да, собственности! Если она убьет собственность, какие стимулы изберет? Нет, я не оговорился: какие стимулы? Достаточно ли у нее этих стимулов, чтобы организовать производство, снабдить страну всем необходимым, да, кстати, и людей заставить работать? Вас коробит это слово… «заставить»? Простите, а как обойтись без этого «заставить», если они не работают? Сознательность? Вы полагаете, что это так просто? А какие формы примет банк, суд, адвокатура? К каким мерам обратится революция, карая своих недругов: тюрьма, ссылка? Если государство и заводчик сохраняют силу, кто защитит меня от них?.. И главное, самое главное: вот мы говорим, демократия…
Цветов не мог без улыбки смотреть на Стеффенса – прелюбопытного человека сотворила природа! Сейчас он был быстр и воодушевлен, бородка его взлохматилась, хохолок стал дыбом, Цветову показался американец этаким злым духом, каким этот дух мнился людям.
– Итак, самое главное – демократия? – Буллит осторожно подтолкнул Стеффенса к его последней фразе. – Демократия?
Стеффенс приумолк, собираясь с силами.
– Как я понимаю, достоинства каждой демократии в ее конечных результатах, а это значит, в достоинствах тех, кого она сделала своими лидерами…
– Вильсон – Ленин, это вы хотели сказать? Стеффенс смешался.
– Откровенно говоря, я не брал так высоко, но достаточно сравнить Чичерина с нашим Лансингом…
Буллит молчал, ничего не скажешь, в очередной раз Стеффенс сместил разговор в более чем деликатную сферу, грубо сместил.
– Русские… ярче?
Стеффенс спрятал глаза – этот разговор увел их слишком далеко.
– Может, и ярче.







