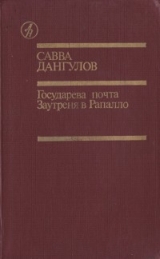
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
8
В тот самый час, когда поезд с американцами пересекал пригороды Гельсингфорса, направляясь к русской границе, Чичерин шагал хлопотливой Тверской к Страстному монастырю, намереваясь переулками выйти к Спиридоньевке.
Минул почти год с тех пор, как Наркоминдел перебрался из тарасовекого особняка у Спиридония в непарадный подъезд «Метрополя», выходящий к Китайгородской стене, а Чичерин нет–нет да и появлялся в особняке. Причина тому – большая наркоминдель–ская библиотека, основу которой составляло собрание ценных книг, некогда принадлежавших Российскому иностранному ведомству и привезенных частично в Москву.
Чичерину был симпатичен тарасовский особняк – в ряду знаменитых московских домов, с которыми ознакомился будущий нарком, выбирая резиденцию для иностранного ведомства революции, тарасовские хоромы покорили его своими формами. Архитектор Жолтовский, построивший особняк, воспользовался линиями итальянского дворцового здания, но привнес в особняк и много своего, подсказанного российским модерном начала века, эти новшества пришлись Георгию Васильевичу по душе. Будь особняк расположен поближе к Кремлю, Георгий Васильевич никогда не отдал бы предпочтения «Метрополю». Но особняк находился далеко за Никитскими воротами, едва ли не у самой Садово – Кудринской, что при ежечасном контакте с Совнаркомом, обитавшим в Кремле, создавало немалые неудобства. Поэтому сочли целесообразным перебазировать Наркоминдел ближе к Кремлю, временно оставив библиотеку у Спиридония.
Строго говоря, чичеринские ноты, которые писались подчас в тиши наркоминдельской библиотеки, были для дипломатии не очень–то традиционны. Быть может, это характерно для документа революции: они были рассчитаны, эти ноты, не столько на правительство, сколько на страну. Всем казалось, что в силу немыслимых в обычных обстоятельствах метаморфоз нота вырвется из железных комнат Наркомата иностранных дел и пойдет гулять по стране, возбуждая умы. Но немалое достоинство ноты: ее автор – Чичерин! Поэтому в ноте вдруг возникал образ события исторического и строгая дипломатическая проза перебивалась стихами – ну, решительно нет возможности написать ноту тому же Пилсудскому, не процитировав Мицкевича и Словацкого!..
Чичерин занимает столик, стоящий в простенке, склоняется над книгами, которые приготовил по его телефонному звонку Константин Иванович Ржевский – его, как некую реликвию Российского иностранного ведомства, Наркоминдел перебазировал в Москву вместе с ценными книгами. У Ржевского ярко–сизые седины, волосы лежат прямыми прядями и слегка ниспадают на лоб. Жест, когда Ржевский отводит волосы ото лба, очень хорош, в нем, в этом жесте, весь Ржевский: и вызов, и норов, и независимость, и чуть–чуть кокетство.
– Дайте мне том тютчевских писем, Константин Иванович, да, тот самый, где политические стихи.
Но старый библиотекарь не успел принести тютчевского тома, вошел Карахан и, оглядев зал, отыскал Чичерина. По тому, как торопливо он это сделал, не скрыв тревоги, Георгий Васильевич понял, что Карахан явился на Спиридоньевку по его, Чичерина, душу.
– Георгий Васильевич, решил не отвлекать вас от ваших занятий и явиться самолично. Завтра Буллит будет в Петрограде… – да, у него был соблазн ввернуть не столь распространенное ныне словцо – сейчас он сказал «самолично» и, кажется, был доволен.
Чичерин пошел к выходу, увлекая за собой Карахана, Георгий Васильевич точно говорил: «А не перенести ли нам беседу под открытое небо? Кстати, вон как пробудилось солнце, а вместе с ним и мартовская капель…»
Они вышли из здания и, минуя автомобиль, дожидавшийся Карахана, пошли к прудам. В ветлах, возникших над водой, кричали птицы; от земли, тронутой оттепелью, шел едва заметный парок, а ставший серо–фиолетовым лед, казалось, дышал холодным ветром.
– Как воспринять эту миссию, если ее перевести на язык протокола? – спросил Карахан, он не переоценивал своих знаний в столь своеобразной сфере, как дипломатия, и не скрывал этого от Чичерина. – Я все по тому же вопросу: статут миссии Буллита… Чей он посланец? Президента Штатов?
– По логике… посланец президента, хотя это и требует уточнений – полномочий Буллита мы еще не видели, – произнес Чичерин, как бы рассуждая вслух. Ответ дался не просто, как не простым был прецедент, о котором шла речь.
– Если президента, то есть смысл задать другой вопрос: как быть с просьбой Буллита? Он, как я понял, настаивает на встрече с Лениным…
– Нам с вами, Лев Михайлович, тут никак не отвертеться, главная тяжесть переговоров ляжет на наши плечи…
– Ну, это понятно, главная тяжесть… А как все–таки с просьбой Буллита?
– Владимир Ильич сказал: как решит высоколо–бая дипломатия, так и будет, – засмеялся Чичерин.
– А как решит высоколобая дипломатия? – спросил Карахан строго.
– Как решит? – повторил вопрос Карахана Чичерин.
– А не много ли ему чести, этому Буллиту? – вопросил Карахан не без иронии и сопроводил эти слова жестом чуть–чуть кавказским – рука точно вырвалась и взлетела над головой. – Буллит!
– Простите, Лев Михайлович, почему… много чести?
– Ленин один на весь мир, а кто такой Вильсон?.. Сколько их было уже, американских президентов, и сколько еще будет!..
9
Чичерин улыбнулся. Нет–нет, все, что услышал Чичерин только что, он слышал не раз и прежде, хотя от иных лиц и по иному поводу… В кругу тех, кого можно назвать боевиками партии, дает о себе знать, ну, как бы это назвать поделикатнее, этакая гордыня неодолимая: Ленин один, и по этой причине сам состав его собеседников должен быть особенным… Интеллект Карахана не позволяет принять эту точку зрения, но некий рецидив этого мнения, быть может, свойствен и Карахану. Кстати, Владимир Ильич смотрит на все это по–иному: новый человек – вот главное, что движет его мысль, его представление о дне нынешнем. Разумеется, встреча с Буллитом определена не просто интересом к новому человеку, но она и не может быть отвергнута по той причине, что Буллит – всего лишь посланец американского президента.
– Но Буллит заинтересован во встрече с Лениным, для него это вопрос престижа миссии и собственного престижа. – Тропа была узка, и Карахан пропустил вперед Чичерина. Новый вопрос, как понимал Георгий Васильевич, обнаруживал новую грань события, однако существа не менял: примет ли Ленин Буллита и какова тут позиция Чичерина?
– Ну разумеется, Буллит заинтересован в такой встрече, как должны быть заинтересованы в такой встрече и мы… – отозвался Георгий Васильевич. – Все просто: устраивает нас успех миссии Буллита? Думаю, что устраивает. Значит, встреча Буллита с Лениным должна состояться, ничто не может так способствовать успеху миссии, как эта встреча…
Когда они возвращались в особняк, Георгий Васильевич подумал, что диалог с Караханом позволил ему понять нечто новое в предстоящей встрече с американцами. А как Карахан?.. Не были ли его возражения больше эмоциональными? Как понял Георгий Васильевич, Карахаку, подобно иным его землякам, эмоциональный момент был отнюдь не чужд, но Лев Михайлович принадлежал к тем кавказцам, которые знали эту черту своего характера и были склонны ее чуть–чуть корректировать.
– Если вопрос о встрече Буллита с Лениным прояснился, то, быть может, очевиден и иной вопрос: должен ли встречать американскую миссию в Петрограде нарком?..
– Если это совет, я готов его принять, Лев Михайлович, – голос Чичерина потеплел, что не обошло внимания Карахана.
А Чичерин вернулся к своему столику, где ожидал его томик с политическими стихами Тютчева, но из головы не шел разговор у лилового снега Патриарших прудов. По ассоциации вспомнился Караул и игра чи–черинских сверстников, названная «Зеркалом воспоминаний». Нет, это было не метафорическое зеркало, а настоящее, оно могло быть осколком драгоценного стекла, похищенным из девичьей или из сундука старой няни. Осколком завладевал самый бедовый из мальчишек и, взобравшись на сосну, заполнял двор переполохом солнечных бликов. Надо было обладать быстрым умом и не меньшей сноровкой, чтобы избежать встречи с проворным солнышком, перебегая двор от дерева к дереву. Тем, кто был полегче, это, пожалуй, удавалось чаще, но были и увальни. Им–то и приходилось откупаться, хотя справедливости ради надо сказать, что, лишив их ловкости физической, природа дала им известное изящество духа… По крайней мере, история, которую они должны были поведать, как того требовал откуп, отражая прошлое, призвана была соперничать с настоящим, а объясняя настоящее, воссоздавать прошлое… Детство, как незакатное светило, стоит над тобой всю жизнь, хотя истины ради надо сказать: детство осталось в Тамбове, как и игры детства. Но так ли это? Есть в этих играх восторг открытия, а может быть, и подвиг терпения. Все устремлено в день нынешний, а когда надо его постичь, нет–нет да и призовешь «Зеркало воспоминаний»…
Каждый раз, когда на память приходит Караул, видишь вечернее солнце в кабинете дяди Бориса. Можно подумать, что оно прощалось с домом именно в библиотеке. Еще не опустившись за полосу леса, оно зажигало матовое серебро настенных часов, отсвечивало в стеклах книжных шкафов, выстилая письменный стол бликами, сохранившими цвет, но утратившими силу цвета.
Пуще глаз своих дядя Борис хранил собрание своих фолиантов, но не отвергал, чтобы его восхищение разделяли и другие. Надо было видеть, как, раскрыв фолиант на избранной странице и возложив его на ладони, он выходил навстречу просителю, радуясь, что нужная страница отыскана и заветное имя установлено. Слава о чичеринском собрании уходила далеко за пределы Тамбовщины. В достопамятный Караул мог явиться помещик–степняк в пыльных сапогах и войлочной шляпе, отмахав на своем чалом иноходце немало верст, чтобы взглянуть на более чем солидный том со списком кутузовских генералов, среди которых должно быть имя дальнего предтечи степняка. Не закроешь двери и перед известным здешним табаководом, доказавшим, что и на тамбовских землях можно брать немалый прибыток, – «Библиотека европейского хозяина», которую не уставал пополнять Борис Николаевич, была предметом внимания и откровенной зависти табаковода. Но, пожалуй, всех превзошел Кудрин Иннокентий Иннокентиевич – владелец захудалого хутора в дальнем конце губернии, душа невезучая и отчаянно–любознательная. Его не очень–то занимали табаки, как давно охладел он и к иным увлечениям просвещенных аграриев. Единственно, что его по–настоящему увлекало, была книга, добытая в далеком чичеринском поместье. Не было для Кудрина большего удовольствия, как взять в руки книгу и лечь на софу, укрытую многоцветным казанским паласом, на котором за двадцать лет до этого лежал его отец и за сорок лет до нынешней поры дед и даже прадед. Кажется, что от постоянного лежания Кудриных на софе палас спрессовался и отвердел, превратившись в каменную плиту, которая так тверда и тяжела, что готова стать и плитой могильной. Трудно сказать, сколько часов Иннокентий Иннокентиевич уже пролежал на своей софе и сколько пролежит еще, но у этого лежания был свой смысл – Кудрин пытался решить: «Что определяет ценность личности?» Стремясь найти ответ на этот вопрос, Кудрин обращал стопы в противоположный конец губернии, где встал над полями и лесами чичеринский Караул. Иногда, как это имело место и ныне, житель тамбовского приволья заставал в библиотеке племянника Бориса Николаевича, которого в семье звали Жоржем, а деликатный Кудрин именовал Георгием Васильевичем.
Молодому Чичерину был интересен Кудрин, вот он сейчас сидел перед ним, патлатый, с реденькой бородкой, устремив на Георгия Васильевича свои большие светло–карие глазищи, в которых поселилось раздумье, неодолимое в печали своей.
– На чем мы остановились в тот раз, Иннокентий Иннокентиевич? – спрашивал Чичерин, возвращая Кудрина к прерванному спору. – Помнится, вы изрекли эту максиму, которую так любят японцы и, конечно же, подсказанную учением «дзен»: «Все сокровища, которые предстоит найти человеку в жизни, в нем самом… Тот, кто ищет их за пределами своего «я», идет по ложному пути… Так или приблизительно так выглядел афоризм, к которому вы обратились?
– Так, разумеется, – подтверждал Кудрин, не поднимая головы, его обильные лохмы скрыли половину лица. – Что же из этого следует?
– Что следует? Не знаю, как там для японцев, но для меня: лишить личность ее связей с людьми – все одно что сжечь эти достоинства в себе…
– Значит, связей с людьми? – Кудрин отводил со лба патлы. – Вы знаете, что сейчас делают мои люди? Давят саранчу! Нет–нет, я не оговорился: давят саранчу! Обулись кто во что горазд и пошли к Белому колодцу плясать гопак. Представляю, как этот пляшущий в открытом поле хутор выглядит с горы, которую перепоясал большой тракт из Бондарей в Горелое… Чтобы утвердить себя как личность, я тоже должен переобуться в лапти, закатать штаны повыше колен и занять свое место у Белого колодца? Так, по–вашему?.. А по мне, чем прочнее я отделюсь от тех, чей удел истинно топтать саранчу, тем полнее я утвержу себя как личность… Где они и где я?.. Ну, вот вы, Георгий Васильевич, пошли бы топтать саранчу?
Ответа не последовало, Георгий Васильевич только смущенно двинул плечами: этот патлатый Кудрин был хитрее, чем могло показаться вначале. Он умел спустить любой спор на грешную землю, поставив оппонента в положение своеобразное.
– К слову, сегодня я читал Аристотеля… Уместно спросить: для кого я читал Аристотеля? Для тех, кто топчет саранчу, или для себя, для своего ума, для души своей, наконец? Ну, можете себе представить, я отрываю их от этого занятия у Белого колодца и говорю: «Я вам хочу почитать Аристотеля…» Не глупо ли?
Он встал и пошел вдоль книжного шкафа, шаг его неожиданно обрел твердость, какой не было прежде: его доводы, определенно, казались ему убедительными.
– Как я понимаю, Иннокентий Иннокентиевич, дело не в саранче и не в Аристотеле… – произнес Георгий Васильевич, в его голосе воинственности не было, но была обида.
– Значит, не в саранче и не в Аристотеле? – Кудрин стоял над Чичериным, тряся лохмами. – Тогда в чем?
– А вот в чем: мним себя людьми учеными и не помогаем народу этой своей ученостью – пусть он топчет саранчу, а мы тем временем полистаем Аристотеля.
Кудрин искоса посмотрел на собеседника. Иннокентий Иннокентиевич не припомнит, чтобы молодой
Чичерин был так охоч на сильные слова – не иначе, сделал свое дело вольнолюбивый Петербург.
– Да не хотите ли вы сказать, что человек осознает себя, только глядя на другого человека? – в этих его словах не было еще примирения, но известный компромисс был.
– Для меня нет личности вне сознания, Иннокентий Иннокентиевич, а сознание немыслимо вне знания, – произнес Чичерин – он пытался перевести спор на надежную почву истины. – Если же говорить о том, в чем нуждается народ, то ему необходим и Аристотель… Но не надо отделять себя и Аристотеля от народа – история не простит нам этого, Иннокентий Иннокентиевич… Вам и мне…
– Если природа не создала меня воителем, я им не буду, Георгий Васильевич…
– Простите, а кем вас создала природа, Иннокентий Иннокентиевич?
– Просто… человеком.
– Человек не может быть просто человеком, если он признает волю сознания над собой, творческого сознания…
– Значит, творческого сознания? Это как же понять? Способность оценивать, способность дерзать?
– Способность оценивать, как я понимаю, это уже отношение к действительности…
– Если не способен оценивать, значит, не способен действовать?
– Да, так и бывает в жизни.
– Ну, что ж… тогда я, пожалуй, пас…
– Не решитесь?
– Нет.
Чичерин подумал: да так ли безнадежен Кудрин в пассивности своей? Но вот вопрос: какие громы должны быть у века, чтобы разбудить людей и призвать их к действию? Бомба, брошенная в карету монарха, гражданская казнь посреди Петербурга или виселица в сырой мгле равелина?.. А может быть, нет большего грома, чем сам вид спящего Кудрина?.. Да, посреди горящего дома, посреди вихря огня и смрадного дыма, посреди грохота обвалившихся стропил и треска сухого дерева непобедимая дрема свалила человека… Представь себе этакую картину, и гром не понадобится… Быть может, Чичерина и разбудил этот гром, мог разбудить?
Поезд подходил к Петрограду, проглянул берег залива, охваченного льдом, ветер легко гнал по льду облако снега, он останавливал его, закручивал и принимался ваять, превращая облако в конус ели или в стог сена. У ветра были крепкие руки, превращение совершалось мгновенно.
– Откровенно говоря, в этой ночной истории с венграми больше был виноват я, чем вы, – заметил Буллит, повстречав утром Цветова. – Да–да, больше я, чем вы, – заявил он тоном, не допускающим возражения.
– Простите, почему виноваты вы? – спросил Цветов – американец его озадачил.
– Видно, я чего–то недосказал о нашей миссии, чего–то существенного…
– У вас не все потеряно, мистер Буллит, – произнес Цветов.
– Будь вы в большей мере осведомлены, можно было бы избежать полуночного братания…
– Полноте, мистер Буллит! – возразил Цветов. – Да важно ли это?
– Важно.
Итак, в чем же существенное? На взгляд Буллита, миссия призвана уточнить, на каких началах Советы готовы пойти на мировую с Западом. Буллит говорил, а Сергей шел в своих мыслях за ним… Миссия в Москву? В красную Москву? В тревожный и яростно неуправляемый год, когда все сорвалось с петель, все в плену сквозного ветра истории. Но такую миссию должны представлять дипломаты определенного ранга. Чтобы слово Москвы, например, вызывало доверие, его должен произнести лидер красных или, по крайней мере, Чичерин. Ну кто, в конце концов, для русских Буллит? А может быть, замысел как раз и состоит в том, чтобы это был дипломат ранга Буллита? В этом как раз и резон такой миссии: если надо принять предложение русских, есть смысл пойти дальше дозволенного, если надо отказаться, тоже пойти дальше. Истинно, неисповедимы поступки красных: вздумай они посвятить Антанту в свои намерения, нельзя допустить, чтобы Вильсону, например, они пообещали больше, чем тому же Буллиту. Значит, не важен
Буллит и его ранг. Много важнее: что добудет в Москве миссия Буллита.
Неизвестно, как бы далеко увлекли Сергея эти мысли, если бы в рассветной дымке раннего утра не встал Петроград.
– Еще ночью, когда мы повстречались, хотел спросить вас: Цветов Кирилл Николаевич не из ваших ли Цветовых? – спросил Крайнов. Вице–директора, как можно предположить, подзабавили загулявшие венгры, и лег он поздно. – Ну, тот, что был… заводилой в Банке взаимного кредита?
– Тот, что живет на Кирочной? – полюбопытствовал Сергей.
– Это прежде он жил на Кирочной, а теперь на Моховой в большом доме страхового общества «Россия». Ну, что вы смотрите на меня так недоверчиво? Я спрашиваю: ваш Цветов?
– Наш, конечно, двоюродный брат отца… То–то… Когда я узнал, что вы знаток финансов,
у меня отпало всякое сомнение, ведь человечество поделено на кланы: краснодеревщики, гончары, шорники. И по этому же принципу – знатоки финансов… Если Цветов, значит, банковский кит, спец по валютам… Но откуда вы его знаете?..
Мы консультировали с ним наши валютные расчеты…
Он, пожалуй, он… согласился Сергерт. В неопределенном «пожалуй» не было теперь необходимости, но Сергей им не пренебрег – ничего Сергей не боялся так, как категорических ответов. – А как венгры? – спросил Сергей, заканчивая разговор. – Мне показалось, что там за верховода этот молодой с рыжими баками, не так ли? Не иначе, он коммунист?
– А вы откуда взяли? – встревожился Крайнов.
– Радикален, как и следует быть коммунисту! – произнес Сергей, смеясь. – Впрочем, как мне показалось, его радикализм корректируется…
– Не тем ли чернобородым?
Возможно, и им, но корректируется, – ответствовал Сергей. – Вообще взаимная коррекция – это хорошо…
– Если помогает делу…
Диалог с Крайновым был скоротечен, а Сергея он взволновал – если время позволит, надо побывать у старика Цветова на Моховой. «Эколь коммерсиаль», изменившую судьбу Сергея, вызвала сильная длань Кирилла Николаевича – нет, не только совет, но и протекция. Впрочем, длань сильная, да не по нынешним временам… Кирилл Николаевич может осудить его за поездку в Россию, осудить с той резкостью, на какую только он способен, но это уже не главное. Главное же – собственно разговор с Кириллом Цветовым. Никто не знает внутреннего положения России, как он, впрочем, никто не знает лучше него и положения России в мире. Если бы Кирилла Цветова не было бы в Петрограде, его надо было выдумать: нельзя уезжать в Москву без разговора с Цветовым…







