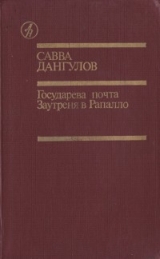
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
– Не находите ли вы, Николай Андреевич, что одна профессия у отца и сына может таить в себе зародыш конфликта?.. Меня заставляет так думать история
Моцарта. Кстати, у него был не самый плохой отец, далеко не самый плохой. Правда, он был более категоричен чем следует, более упрям, своеволен, быть может даже своекорыстен, но в остальном он был хорошим отцом. Любил свое чадо и гордился им, сделав много для того, чтобы Моцарт стал Моцартом. Но дело даже не в его характере, а в характере времени. Отец должен очень осторожно распоряжаться тем, что внушило ему время. Думаю, что старый Леопольд Моцарт этого не понимал. Он не понимал, что законы, по которым живет его сын, иные, чем те, по которым жил он, Леопольд Моцарт. Конфликт отца с сыном был конфликтом с грядущим веком, который Моцарт провидел и который в его музыке уже наступил. Нет, там, где отец должен был показать терпимость, он давал волю своим страстям. Он взъярился, когда, вернувшись из Италии, узрел в композициях сына взрывы страсти. Отец утаил от современников, скрыв за семью печатями, сочинение сына, в котором наиболее сильно сказалось его революционно–демоническое существо. Письмо, которое он написал сыну, было во многом безапелляционным, и смысл его укладывается в нескольких словах: «То, что не делает тебе чести, пусть лучше останется неизвестным». Старик не допускал и мысли, что не ему тут быть судьей. Больше по инерции отец продолжал наставлять: «Только от твоего благоразумия и образа жизни зависит, станешь ли ты заурядным музыкантом, о котором позабудет весь мир, или сделаешься знаменитым капельмейстером, о котором последующие поколения прочтут в книгах…» Обращение к капельмейстеру имело свое объяснение: Моцарт порвал с зальцбургским архиепископом, а заодно и деспотическим Зальцбургом, о котором он позже скажет: «Вы знаете, как мне ненавистен Зальцбург». Я так думаю: отец, если он мудр и ему дорог сын, должен понимать, в какое положение все это ставит сына, не может не понимать. Как ни категоричен отец, он воздействует на сына не столько силой своих доводов, сколько авторитетом родителя… и ставит сына в положение почти безвыходное. Разумеется, этот конфликт не является монополией музыки, он готов вспыхнуть в любой сфере, которую можно назвать сферой духа… Вы улыбаетесь, Николай Андреевич. Дипломатия? – хотите спросить вы. Да, очевидно, и дипломатия!.. Хочешь не хочешь, а обратишься к воспоминаниям. Как свидетельствует чичеринская хроника, свадьба моих родных была сыграна где–то здесь, в лигурийских прибрежных водах, при этом жених был советником, невеста – племянницей посланника, шаферами – первые секретари и атташе миссии. Стоит ли говорить, что круг этих людей жил по законам карьерной дипломатии, весь круг, за исключением разве моего отца. Он считал себя свободным от обязательств этого круга людей потому, что дипломатия, к которой они тяготели, была именно карьерной – отец был не тщеславен. Отец точно провидел грядущую отставку, как, впрочем, и все, что за этим следовало, и, выбирая жену, все предусмотрел. Если верно, что самая лучшая мать – это та, которая сможет заменить отца, когда его не станет, то такой именно была моя мать. Она была такой и потому, что повела себя с нами, детьми, так, как повел бы себя отец, будь он жив, – отец был терпимым человеком…
Кажется, Германия осталась позади, и это дает возможность подбить черту под немецким туром встреч.
У Литвинова редкая способность найти повод к нужному разговору – в этом поводе есть непредвзятость и острота, хотя сам факт обыден.
Литвинов. Хитрые итальянцы по случаю конференции заново перекроили Геную: Ллойд Джордж, как бог Саваоф, получил место на холме Курто де Милле, все остальные – внизу…
Чичерин. И наше место внизу?
Литвинов. И не только внизу, но и на почтительном расстоянии от творца.
Чичерин. Это хорошо или плохо?
Литвинов. По–моему, хорошо: через дорогу от нас – немцы.
Пауза. Последнюю фразу надо осмыслить. Значит, через дорогу от нашего особняка – немецкий. Хитрые итальянцы все рассчитали как по нотам. Они точно дали понять богу Саваофу в его далеком поднебесье: имей в виду, что русским и немцам надо всего лишь перейти дорогу, чтобы договориться.
Чичерин. Вы полагаете, что это сделано не без умысла?
Литвинов. Если в этом участвовали немцы, то определенно.
Чичерин (его полуулыбка едва уловима). А если русские?
У Литвинова, казалось, прервалось дыхание: оказывается, чичеринская формула может носить и форму вопроса.
По мере того как поезд приближается к Милану, он все чаще окунается во тьму и грохот тоннелей… Зыбкие сумерки остаются в вагоне минуту–другую, попахивает серой, и от тоскливого беспокойства некуда деться. Точно защищаясь, Георгий Васильевич поднимает к груди раскрытую книгу, удерживая ее, пока не рассветет. Рассвет накатывается постепенно, и первым его воспринимает красно–желтый переплет книги, он пламенеет. Я знаю: это Тютчев, его лирика. Книга с наперсточек, а чтению ее нет конца – я вижу у Чичерина тютчевский томик уже несколько дней. У книги есть свойство колодца, напоившего спасительной влагой людей: чем глубже его копают, тем он полноводнее. Однако что повлекло Чичерина к Тютчеву? Наверно, мысль. Да, та самая мысль, которую постиг поэт и огранил. Последнее для Чичерина важно: он воспринимает мысль, если к ней прикоснулся мастер. Склонен думать, что этим объясняется и его интерес к дипломатии: у дипломатического существа есть блеск и глубина истинной поэзии, как я понимаю, лермонтовской или, быть может, тютчевской.
– Говорят, что Тютчев признавал одну деспотию – деспотию дочери, – произносит он, воспользовавшись тем, что мы в очередной раз зарылись в тоннель и в чтении нет надобности. – Она единственная имела силу склонить его к иному мнению…
Меня точно током пронзило: да не понадобился ли ему Тютчев и его деспотичная дочь, чтобы сказать мне то, что он до сих пор не мог сказать? Ну хотя бы вот это: «Тебе бы надо быть откровеннее, друг Воропаев, и на добро отвечать добром. Не все потеряно и сейчас. Я даю тебе такую возможность: откройся и расскажи все по порядку. Итак?»
Когда тоннель кончился и явилось солнце, томик Тютчева лежал на груди Чичерина. Не было кольчуги надежнее – кажется, он защищался Тютчевым и от жизненных невзгод…
Видно, есть резон решительно перевести разговор на другие рельсы: сейчас спрошу о Василии Николаевиче, а кстати о горчаковском эпитете, которым тот нарек его.
– Этот горчаковский эпитет «красноватый» имел отношение и к образу жизни Василия Николаевича? – спрашиваю я – наш предыдущий разговор был оборван, когда, казалось, он набрал силу. – Сказав «красноватый», Горчаков давал понять, что он пошел дальше дозволенного?
– Допускаю, – отвечает он, оживившись. – Дальше дозволенного, а значит, дальше Горчакова, – добавляет он, смеясь.
– И Бориса Николаевича? – Я стараюсь сообщить нашему диалогу большую остроту.
– Можно сказать и так, – соглашается он.
– И это объясняется тем, что, по вашим словам, у Василия Николаевича была своя позиция?
Он вспоминает, я люблю его слушать, когда он вспоминает, – в его рассказе о минувшем всегда есть настроение. Что сберегла память, у нее есть тут своя привилегия?.. Белая гостиная в тамбовском доме, шум огня в печи – в тот год затопили рано, – перестук телеги по булыжнику, которым была вымощена мостовая перед домом, отец, сидящий в затененном углу, голос дяди Бориса: «Прости меня, но зачем тебе нужна была Бразилия или Бразилии ты? Решительно не было смысла. Пойми: не было смысла… Самое удивительное – и это способно было постичь сознание, едва ли не младенческое: отец не возражал. Он точно вторил брату этим своим молчанием: не было смысла, ровным счетом не было смысла… Потом еще вечер, может быть в Покровском, а может, в Карауле, летний и пыльный, с солнцем, которое подожгло верхушки берез, стоящих посреди двора, и все тот же голос дяди Бориса: «Дуэль? Да кто в наше время защищает честь с помощью пистолета?» А вот был отец тогда или его не было, не запомнилось. Если был, то молчал, по своему обыкновению, точно подтверждая: да, кто в наше время защищает честь с помощью пистолета? И еще картина, которая впечаталась в сознание: веранда в Карауле и стол, накрытый белой скатертью, чуть розоватой в свете красных стекол. Державный шаг дяди Бориса по скрипучим половицам и его голос, едва внятный – опасался, чтобы не услышали мужики, стоящие посреди двора: «Погоди, чтобы лечить, надо иметь специальное образование, не правда ли? Да как ты их лечишь, не будучи лекарем?» И голос отца, поникший: «Так ведь и не лечить худо, помрут…»
И последнее: тут уже не было ни отца, ни дяди, впрочем, дядя Борис был, его строгое имя… Горела лампада, и стучали большие настенные часы, каждый их удар точно воспринимался чутким огнем лампады, огонь вздрагивал. Мать ходила из комнаты в комнату, причитая: «Эти ужасные болгарские горы, эти ужасные горы…» И как эхо далекой битвы названия безвестных мест: Плевен, Рущук, Шипка, Тырново… Отец был там, в этих местах, волонтер, действовавший в самом аду штыковой сечи, врач–солдат, несущий денно и нощно неусыпную вахту в палаточных госпиталях на поле битвы… А потом тамбовский дом и кашель за стеной, грудной, скрежещущий, не громкий, но странным образом прошибающий стены, – от него никуда нельзя было скрыться в доме… Кашель и все тот же блеск лампады. Нет, лампада вскоре погасла, как утих и кашель. «Да был ли смысл в его поездке на Балканы? – спрашивал Борис Николаевич. – Только подумать: Чичерин, друг канцлера Горчакова, без пяти минут посланник, записывается фронтовым лекарем и околевает в болгарских снегах… Не странно ли?»
Они были разными людьми, братья Борис и Василий, но всю жизнь тянулись друг к другу, пожалуй, у них даже был лад… Вот эта формула «се, что добро и что красно, но ежи жити братия вкупе» вспоминалась ими не ради красного словца…
Георгий Васильевич сидит прямо передо мной, глубоко уйдя в кресло, – кажется, он уходил в него все глубже, по мере того как продолжается рассказ. Была бы моя воля, пожалуй, спросил бы: «Рыцарственный Василий Николаевич?» – так, быть может, говорили и при его жизни, и позже. А вот можно ли сказать: «Рыцарственный Борис Николаевич»? Наверно, не вся правда здесь, но часть правды определенно…
Наш поезд пришел в Санта – Маргериту часу в одиннадцатом утра.
– Взгляни на небо, оно такое только здесь, – шепнула моя девочка, когда мы вышли из вагона.
– Какое, прости меня?
– А вот с этой бирюзой глубокой…
И действительно, в этот день небо предстало нашим глазам бирюзовым, не замутненным мглой, которая с утра наплывала с моря и делала чистую бирюзу молочной.
– Выкроим минуту и съездим в наш Град – Чернец? – спросил я Машу – очень хотелось быть рядом с нею в этой поездке.
– Да, не медля ни минуты, – согласилась она. Все казалось, что вокзальные часы, которые мы
видели из окна нашего вагона, точно сговорившись, все разом замедлили движение, как, впрочем, не очень торопилась и кавалькада лимузинов, встретившая нас в Санта – Маргерите и принявшая вместе с нашим громоздким багажом, чтобы отбуксировать в гостиницу. Но едва в наших руках оказались ключи с медной пластиной «Палаццо д'Империале», мы, наспех разместив наш скарб, дали деру.
Есть нечто печальное во встрече с городом, в котором ты не был годы: казалось, только море да горы остались молодыми, все остальное сгорбилось, приникло к земле – и часовенка на отлете от дороги, и стая домишек, ищущих спасения в земле и ушедших в нее едва ли не по пояс.
Как некогда, у основания дома лежал булыжник, мы подняли его и постучали в стену – когда–то на этот стук выбегал дед Джузеппе, отец хозяина. Если случалось нам приходить поздно, он выбегал к калитке в чем мать родила – надо было подождать, когда он сбросит щеколду и вбежит в дом, а потом уже входить. Но дед умер, и нехитрую эту обязанность взял на себя его сын – сизобородый великан, широкогрудый и косолапый. Он обычно бежал к калитке, переваливаясь с боку на бок, бежал и кричал: «Уно моменто, уно моменто, синьоре!» Но сейчас привычнее «уно моменто» суждено было произнести не хозяину, а хозяйке. Она распахнула калитку и обмерла:
– О, мой господь, это вы, синьоре Николо, это вы, синьорина Мария? О, мой господь, мой господь!..
Но, наверно, смятенное «мой господь!» надо было изречь нам с Машей. Моя добрая Сильвия, яркогла–зая смуглянка, стала вдруг сероволосой, с темными впадинами глазниц, такими округлыми и глубокими, какими они не были никогда. Ее вид так поразил меня, что я не удержал вздоха изумления.
– О, мой господь, да не перепугала ли я вас своим видом? – спросила она и попыталась улыбнуться, но ей это не очень–то удалось.
Да, наша память бескомпромиссна: человек, которого она восприняла, отказывается стареть. Я помню Сильвию, как она пришла в дом своего мужа и дом точно запел, озаренный жизнелюбием молодой женщины. Вот диво: разные люди, взглянув на нее, не сговариваясь произносили одно и то же слово – солнечная. Казалось, ничто не способно было загасить это солнце в человеке, так оно было сильно. Но то было итальянское солнце, оно строптиво: бывало, она не могла пройти мимо меня, чтобы не подтолкнуть плечом: «Эй ты… рус, или тебе не по душе гену эзки?»
Но осторожно–зоркое око мужа было недремлющим – он увлек ее на виноградники и поколотил. С тех пор она была не так храбра и, произнося: «Эй ты… рус, или тебе не по душе генуэзки?» – больше не касалась меня обнаженным плечом. И вот прошли годы, и озорная молодуха вдруг возникла седой и кроткой, да и я, пожалуй, был безобидным. Это было даже странно: сейчас, когда Джузеппе был нам не страшен, мы вдруг потеряли интерес друг к другу.
– Ах, не могу я показать вашего домика – квартирант повесил замок и укатил в Парму! – произнесла она, сокрушаясь, однако спустилась с нами в заросли эвкалипта, где стоял наш домик, и даже обошла его, заглядывая в плотно занавешенные окна; не очень верилось, что там, за этими шелковыми шторами, время отсчитало столько бесконечно длинных лет моей жизни.
Я поднял глаза и увидел белый островок особняка Маццини: казалось, только белокаменный особняк и не постарел за эти годы.
– Как синьор Эджицио – здоров?
Она рассмеялась громко, как смеялась когда–то:
– А что ему сделается? Поет хвалу бессмертной Генуе в своих книжках и стреляет перепелок!
Маша, которую смех хозяйки застиг на каменных ступенях, сбегающих к морю, вздохнула.
– Вы… давно его видели, госпожа Сильвия?
Хозяйка оживилась:
– Да он как старинные часы с движущимися человечками: ударит шесть – и он на крыльце своего палаццо тут как тут!.. «Я, говорит, Сильвия, должен быть точен, иначе – умру!» Наверно, он прав: все умерли, а он жив… Поневоле будешь точен!.. – Она помедлила. – Может, сказать мне о вашем приезде господину Маццини, а?
– Нет, не надо, – ответила Маша, пораздумав.
– Как знаете, а то я могу, – молвила Сильвия.
– Пока не надо, – подтвердила Маша, – пока.
– Я поняла, – был ответ нашей хозяйки. – Поняла… – повторила она и взглянула на Машу, как мне показалось, украдкой от меня. – Барышня, можно вас на минутку по женскому делу?
Маша откликнулась на зов Сильвии не без раздумий – конечно, у нее могли быть секреты и от меня, но она не хотела их обнаруживать.
Мы возвращались с Машей от нашей старой хозяйки, и молчание, нерушимое, шло вслед.
– У Рерберга может быть адрес Сильвии? – спросил я Машу, когда купы Санта – Маргериты показались впереди.
– А это… так важно? – встрепенулась моя девочка.
– Важно, – подтвердил я. – Если есть, нам не следовало идти туда.
– Почему, прости меня?
– Ты не находишь, что, явившись к Сильвии, мы как бы приглашали Рерберга к себе? – спросил я и попытался заглянуть ей в глаза, но она отвела их. – Но, быть может, это входило в твои планы?
Смех ее был необычно громким:
– Как знать, может быть, и входило!..
Все развивалось по худшему из вариантов – Маша не оставляла мне никаких надежд.
Если у Рерберга есть адрес нашей старой хозяйки, значит, ему ведома и дорога к Маццини, а это уже было совсем плохо. Маццини – человек порядочный, но закоснелый. Можно допустить, что встреча с ним немало обогатит Рерберга в его попытках отыскать истоки генуэзских поселений на Черном море, но вряд ли прибавит света тревожному существу молодого человека. Нет, определенно все складывалось не лучшим образом.
Палаццо д'Империале – в названии отеля, которому суждено было стать резиденцией нашей делегации, была романская склонность к преувеличениям и чисто итальянская пышность, впрочем, отель был хорош: трехэтажный особняк с многокомнатными апартаментами, окруженный парком.
Северяне, пережившие долгую русскую зиму, тут же заполнили веранду, своеобразным мысом вторгающуюся в сад, – необыкновенно приятно было выйти под открытое небо без пальто, ощутив прикосновение мартовского тепла.
Георгий Васильевич сидел в плетеном кресле, подставив бледное лицо солнцу, и большой сибирский кот, явившийся сюда невесть откуда, лежал у него на коленях, потягиваясь в ленивой неге. Кот был хитер и требовал ласки – каждый раз, когда чиче–ринская ладонь отрывалась от серо–голубой шерстки кота, животное приоткрывало хитрый глаз и просительно пофыркивало.
Появился Литвинов и, приметив кота на чичерин–ских коленях, на секунду смешался.
– Ллойд Джордж собрал на вилле «Альбертис» делегатов Антанты, – сказал Литвинов. – По всему, он готов поставить в известность союзников о своей завтрашней речи, которая так программна, что выглядит почти тронной… – Он взглянул на Чичерина, не скрывая неодобрения: кот на чичеринских коленях его шокировал.
– Вы полагаете, Максим Максимыч, что завтрашний день определит и соотношение сил и, так сказать, диспозицию?
– Диспозиция видна уже сегодня: местоположение штабов определено не без умысла – Антанта приглядела для своих штабов генуэзские холмы, нам с немцами отведены Санта – Маргерита и Рапалло…
Чичерин осторожно пересадил кота на соседний стул, подошел к краю веранды.
– Погодите, почему Рапалло? В Берлине мне говорили, что немецкий особняк будет виден из моего окна.
– Он действительно виден, Георгий Васильевич… – Литвинов оперся о перила, приподнялся на цыпочки. – Ах, мешает зелень… вот он, ярко–красный, меж деревьев…
Чичерин последовал взглядом за Литвиновым.
– Ну, это почти фатально! – Он задумался, ще–котнув указательным пальцем бороду. – Погодите, и Вирт в этом красном доме?
Литвинов рассмеялся – ему было приятно, что сделанное им открытие произвело впечатление.
– Ну разумеется: и Вирт, и Ратенау, и наш друг фон Мальцан – все здесь!..
– Нет, это поистине перст судьбы!
Чичерин затих: казалось, мысль, храбрая, подхватила его и повлекла, он доверил себя ее неодолимой силе.
Хвостов заманил меня в свою келью, которую ему отвели едва ли не под матицами отеля в Санта – Марге–рите, и, войдя в нее, я обнаружил, что она странным образом напоминает мне хвостовское купе, в котором он принимал меня на подходах к Одеру. Но меня объяла паника, когда Хвостов извлек флягу и из нее полилась, все так же весело булькая, черниговская наливка, густая, как прежде, и темно–бордовая, – да было ли дно у этой фляги?
– Вы были в Сан – Джорджо, Николай Андреевич?
Накануне я посетил по просьбе Георгия Васильевича генуэзский дворец Сан – Джорджо, где должна состояться церемония открытия конференции.
– Был.
Он вздохнул, провел ладонью по щетине, которой обрастал стремительно, он был одним из тех, кому надо было бы бриться дважды на день, – к вечеру его быстро отраставшая борода казалась лиловой, кстати, как у Бальзака.
– А не считаете ли вы, Николай Андреевич, что я… завис? – Он поднял глаза – казалось, он увидел сейчас себя висящим под потолком, толстопузым, с жирными икрами, с развевающимися патлами, смешно кудрявыми на затылке, с лиловой бородой. – Верно: завис? – Он свистнул и даже притопнул.
На лестнице – она была рядом – послышались шаги, не очень уверенные, оступающиеся, видно, человек, решившийся подняться сюда, не был здесь прежде. Хвостов обратил глаза к двери: по всему, и Для него это было необычно; раздался стук с интервалами, отбивающий такт марша, – да не Георгий ли Васильевич?
– Да, – произнес Хвостов, а потом уже взглянул на флягу.
Вошел Чичерин, вошел, не смирив дыхания – видно, восхождение по крутой лестнице было для него нелегким.
– Вот они, веселые отшельники. – Он скосил глаза на флягу. – Готов разделить трапезу, но позже… Как канцлер Вирт? – уставился он на Хвостова. – Готов? – Он принял из рук Ивана Ивановича стопку машинописных страниц. – Хорошо… – Он достал из жилетного кармана свои «Буре», не бросил, а как бы выплеснул на ладонь – тарелочка часов шлепнулась о припухлость ладони едва ли не со звоном. – Через пятнадцать минут жду вас, товарищи, внизу…
Он вышел, и вновь загремели его шаги по деревянной лестнице.
– Светится! – воскликнул Хвостов. – Именно светится! – повторил он, не скрывая восторга. – Это успех зарядил его таким электричеством!
– Не завис? – рассмеялся я.
– Какой там – взмыл!
Я посмотрел на Хвостова: он как–то померк – конечно же, он думал не о Чичерине, а о себе. Неудержимо желтела кожа его лица, и заметно лиловели веки, становясь едва ли не такими лиловыми, как щетина его бороды.
– Знаете… в чем секрет этой способности человека обретать крылья?
– В чем?
– В нем самом… Значит, в его способности дерзать… Именно дерзать: для меня это имеет совершенно определенный смысл…
– Какой?
– Человек должен решать задачу, которая больше его!
– Иначе говоря, которая ему не по плечу?
– Может быть, и не по плечу, но, решая ее, он дорастет до этой задачи, а значит, и превзойдет себя.
Вновь раздался стук в дверь, этот маршевый, с интервалами, чичеринский: на пороге был Георгий Васильевич – он будто и не успел отойти далеко.
– Тут есть одна просьба Москвы, – произнес он и повел указательным пальцем направо и налево, точно дирижируя: маршевый мотив жил в нем. – Редактор «Известий» просит написать статью о первом этапе
Генуи… По–моему, он таким щедрым не был: трех–колонник! Не взяться ли вам, Иван Иванович, за это? Была бы у меня свободная минута, честное слово, не пренебрег бы. Как вы? – обратился он к Хвостову. Тот только вобрал плечи.
– Благодарю, Георгий Васильевич…
– Я так и думал, – не скрыл своей радости Чичерин. – Значит, по рукам?
– Теперь остается только… взмыть, Иван Иванович, – улыбнулся я, когда Чичерин вышел, но моего хозяина сковала печаль, откровенная:
– Зачем он это сделал?
Когда я уходил, одна мысль не давала мне покоя: казалось, Чичерин пошел Хвостову навстречу; но тогда почему он поверг Ивана Ивановича в такое уныние?
Весь вечер Чичерин работал у себя над текстом завтрашней речи. Накануне прошел дождь, как обычно здесь в марте, стремительный, необильный, без грома и молнии. Ярко–зеленая хвоя в парке потемнела, из парковой полутьмы потянуло свежестью – Чичерин работал, распахнув окна.
Часу в одиннадцатом он постучал ко мне:
– Николай Андреевич, есть настроение спуститься в парк?
Мы пошли – земля не успела просохнуть после дождя, наш шаг обнаруживался, когда парковую дорожку перехватывала полоска гравия.
– Остановитесь на минутку. – Чичерин наклонился, всматриваясь. – Я как–то слушал Ллойд Джорджа в Вестминстере: ему больше давались полемические импровизации…
– Признайтесь, что вы думаете о вашей завтрашней речи, Георгий Васильевич? – спросил я, когда мы вышли на аллею, возвращающую нас в отель.
– Да, о речи в Сан – Джорджо, при этом не столько о ее содержании, сколько о форме, какую ей следует придать, – согласился он. – Никаких ораторских ухищрений, у советских делегатов тут должен быть, как мне кажется, свой стиль, своя добрая простота…
Он вошел в отель, а я остался в парковой аллее, точно дожидаясь, когда в окнах, выходящих на веранду, вспыхнет свет. Но в этот раз свет припоздал – видно, поднявшись к себе, Чичерин не спешил включать электричество, в темноте легче совладать с трудной мыслью.
– Это ты? – На парковую дорожку вышла Маша. – Я видела, как вы спустились к морю…
На Маше было сейчас темно–бордовое вязаное платье, что делало очерк ее фигуры четким. Эти вязаные платья, облегающие фигуру, в меру строгие, точно были специально придуманы для того, чтобы обойтись без украшений. Если человек и хорош, то естественной красотой – будто говорила моя девочка. По этой причине она даже перламутровый обод оставила дома, скрепив волосы гребнем. Наверно, надо очень верить в достоинства, данные тебе богом, чтобы вести себя так.
– Тебе следовало подойти…
– Нет, я боялась вспугнуть вас – беседа ваша должна была быть доверительной, не так ли?
– Возможно, хотя все сказанное им он мог бы сказать и при тебе…
– Спасибо. – Она улыбнулась. – Час назад я относила ему краткое резюме сегодняшней итальянской прессы и обратила внимание на столпотворение старинных книг в ремнях и металлических скобах… Не иначе, фолианты времен Петра и Екатерины, не так ли?
– Бери глубже: времен Грозного и Годунова! – заметил я, впрочем еще не зная, куда клонит Маша.
Она засмеялась, как мне показалось, искренне – ее явно позабавило открытие, которое она только что сделала.
– Значит, в Геную доставлены… годуновские скрижали, не так ли?
– Так, разумеется…
– Не смешно?
– А что здесь смешного?
– Ну подумай: к чему они в Генуе?
– Если баталию с Ллойд Джорджем доверить тебе, то вряд ли они тебе понадобятся, а если учесть, что она доверена Чичерину…
Она засмеялась – ее веру в свою правоту нельзя было ничем сшибить.
– Ты полагаешь, что у него будет необходимость в годуновских письменах, а я убеждена, что он к ним не приблизится и на сто верст… Никогда не держала пари, сейчас – готова…
– Если даже в этих письменах не будет нужды в Генуе, все равно заманчиво иметь их под рукой. Пойми, что у опытных полемистов есть правило, нерушимое: можешь цитировать Бисмарка наизусть и это тут же обратится в дым, но достаточно на стол положить том Бисмарка…
– Ты полагаешь, что дело может принять такой оборот, что по ходу полемики с Ллойд Джорджем Чичерин не скроет от британского премьера пудовые го–дуновские тома?
– Может быть, и так.
– Наивно, понимаешь, наивно – не думаю, чтобы наши потомки, направляясь на конференцию, подобную генуэзской, везли с собой контейнеры со средневековой библиотекой…
– Не все надо мерить на рационализм потомков, надо что–то оставить и нам, грешным, – может быть, мы и наивны, но и в нашей наивности, согласись, есть рыцарственность пионеров, прокладывающих первую борозду… К тому же…
– Да?
– Верность всегда была на вес золота. Она точно призадумалась на миг.
– Завтрашняя чичеринская речь – это и есть верность? – спросила она – ей очень хотелось все ответы на свои сомнения отыскать в завтрашней речи Георгия Васильевича.
– Ты вольна понимать и так.
Мы вышли из парковой полутьмы к свету, готовясь войти в здание. Сколько раз я ловил себя на мысли, что мне интересно ее лицо. Для меня кладезь богатств бесценных. Как мне кажется, здесь все на веки веков воропаевское, фамильное. Вот эти глаза с карим камнем, чуть подсиненным, от бабки, а раковинки ушей, крохотные, с характерным, точно повторяющимся рисунком, пожалуй, от Магдалины. У всего есть свой знак, свое объяснение. Единственно, что не очень понятно, это коротковатый подбородок без вмятинки, выражающий твердость Машиной сути. Но почему я заговорил об этом сейчас? Не в связи ли с тем, что произнесла Маша только что?
– А вы знаете, Николай Андреевич, Моцарт не мог появиться раньше восемнадцатого века, позже, как мне кажется, мог, раньше – ни в коем случае. А вот почему – могли бы ответить? Сам уровень познания человека был иным! Хотите доказательств? Пожалуйста: мысленно выстроите портреты, писанные лучшими мастерами четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого веков… Нет, на семнадцатом веке, пожалуй, надо остановиться. Да, да, мысленно расположите эти портреты, и все станет ясным: психологическое существо портрета, нет, не от столетия к столетию, а от года к году становилось все сложнее, пока не возник Рембрандт… Говорят, что великий голландец написал сто автопортретов. Сто! Не думаю, что он был одержим тщеславием, просто в своем познании человека он был неутомим, продолжая этот труд и тогда, когда перед ним было зеркало и собственное лицо. Но зато как значительно то, что он обрел, исследуя человека! Я могу смотреть портреты Рембрандта бесконечно – для меня психологическое содержание этих портретов неисчерпаемо. Этот мир городских чиновников, крупных и мелких менял, ремесленников, раввинов, медиков, просто крестьян обрел волей художника неубывающую ценность уже тем, что во всех случаях мы видим глубину душевного состояния. Этим, в сущности, мне интересен и Моцарт: он зовет меня к познанию человека, а следовательно, и самого себя… История свидетельствует: для античного мира самой большой добродетелью была невозмутимость. Боги, живущие на Олимпе, были одинаково не подвержены ни жалости, ни страху. Смысл известной заповеди античного мира можно понимать так: не отдавай себя В 9 власть ни чужому отчаянию, ни чужому ликованию. Если само представление об идеале изменилось, хотя на это ушли века и века, как велика была работа ума, которую проделал человек!.. Говорят, что интерес человека к своему «я» растет с ростом интеллекта, привычкой к мышлению, может быть даже с возрастом. Не думаю, чтобы привилегия тут была у возраста, а если она имеется, то у возраста отнюдь не преклонного! О чем я говорю? Есть пора в жизни человечка, когда его восприятие душевного мира обострено: это те самые тревожные пятнадцать лет, о которых я как–то говорил. У меня был приятель, который уверял всех, что в пятнадцать лет он был умнее, чем в последующие годы. Оставляю это утверждение на совести моего знакомца, но хочу обратить внимание на одно мое наблюдение: именно в этом возрасте природа сообщает человеку нечто такое, что потом у него может и утратиться. Вы наблюдали девушек–подростков, нет, не из состоятельных домов, выпестованных боннами и учеными немцами, а из простых крестьянских семей? Вы наблюдали, как эти девушки–подростки ходят, сидят за столом, ведут хоровод, поют песни, наблюдали их взгляд, улыбку, манеру говорить? Согласитесь, что в их манере держать себя есть тот особый аристократизм, который в иных обстоятельствах дают годы пестования, а в данном случае вызван к жизни природой и только природой. Иначе говоря, сама природа дает в эти годы нечто такое, что можно назвать новым достоинством человека, незримо обостряющим его ум, способность чувствовать. Есть некое противоречие в том, как человек осознает себя: понимание того, каким должен быть человек идеальный и каким он видится на самом деле. Оно, это противоречие, и тревожит, и настораживает, и, быть может, чуть–чуть обезоруживает, но способно возмутить все существо человека, возмутить и всколыхнуть, как может только всколыхнуть потрясение… Противоречие, о котором я говорю, явилось ко мне в пятнадцать лет.







