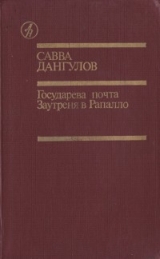
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 38 страниц)
По словам Георгия Васильевича, Борис Николаевич находил удовлетворение в самом ведении хозяйства. Здесь он был в какой–то мере учеником своего брата Владимира, который, как свидетельствует молва, был хозяином практическим. У Бориса Николаевича тут был свой взгляд на ведение хозяйства. Он стремился улучшить пашню, заменив сошную пахоту плужной, что было для той поры внове, улучшить овцеводство, что, как он полагал, было единственной сколько–нибудь выгодной отраслью скотоводства. Но наибольшие выгоды сулило табаководство. Плантации табака занимали в Карауле значительную площадь, превысив пятьдесят десятин. Хотя Борис Николаевич не относил умение хозяйствовать к своим главным достоинствам, он сумел извлечь доходы из табачных плантаций, проявив тут сноровку. Позже он вспоминал, при этом не без гордости, что у него в имении табак обрабатывают и дети. Понимая, сколь деликатен предмет, о котором идет речь, он счел необходимым опереться на свидетельства крестьян. «В прежнее время в голодные годы родители кормили детей, а теперь дети кормят родителей», – говорили, как свидетельствовал Борис Николаевич, караульские крестьяне. Он никогда не считал себя помещиком по призванию, оставаясь ученым, но караульское поместье давало средства к жизни, и это. надо думать, устраивало Бориса Николаевича. Если говорить о существенных чертах караульского поместья, то вряд ли оно отличалось от иных поместий средней полосы России – оно велось теми же средствами, какими велось повсюду, да и крестьяне, наверно, жили там не лучше. Но самому Борису Николаевичу его поместье казалось отличным от окружающих Караул хозяйств, как, впрочем, и караульская усадьба. Борис Николаевич полагал, что помещичий дом в Карауле призван отразить его европеизм, как этот европеизм впитала его, Бориса Николаевича, натура в памятные годы странствий по городам и весям просвещенного Запада. Отец Бориса Николаевича был человеком с немалым хозяйственным замахом, дело вел прозорливо и расчетливо, но в последние годы жизни был подвержен постоянным недугам и многое из того, что задумал, не успел осуществить. Главные постройки удалось завершить, в частности большая усадьба была почти готова. Но задуманный с завидной фантазией зимний сад не был достроен, как не были завершены и другие работы. Получив отставку и перебравшись в Караул, Борис Николаевич прежде всего перевез туда свое собрание картин, отразившее, надо отдать ему должное, широту и изысканность его вкуса: европейцы Веласкес, Веронезе, Пальма Старший и наши соотечественники – Боровиковский, Тропинии, Кипренский, Венецианов, позже Айвазовский. Много труда потребовало устройство библиотеки, почти семь тысяч томов которой составляли русские, французские, английские, немецкие книги. Вместе с картинами и книгами в специальные фуры, шедшие из Петербурга в далекий Караул, были погружены старинная мебель, люстры, вазы, фарфор, все немалое приданое жены Бориса Николаевича, впрочем заметно увеличенное за счет приобретений, которые сделали супруги в Петербурге. С особой тщательностью был упакован и уложен в просторную фуру старинный шкаф, который, по семейному гфеданию, украшал дворцы польских и французских аристократов. Короче, все, что удалось увидеть Борису Николаевичу в дни своих поездок по Европе, было своеобразно воссоздано в Карауле. Несмотря на примитивный транспорт, связывающий Караул с Петербургом и Москвой, тамбовское имение Чичериных продолжало благоустраиваться, необходимые покупки делались в русских столицах, как, впрочем, и в далеком Париже, откуда удалось выписать часть мебели. По всему, Борис Николаевич не противился славе, которая шла о нем: ученый муж, в своем роде государственный вельможа, ревнитель западных порядков, которые выражала придуманная им крылатая для той поры фраза «Либеральные меры и сильная власть». Да, едва ли не лихое вольнодумство Бориса Николаевича заканчивалось на этой формуле – «…сильная власть». Иначе говоря, как ни жестока была формула Чернышевского, адресованная Чичерину, она не уходила от существа: обскурант. Надо сказать, что Борис Николаевич догадывался, что думает о нем мятежный «Современник», и старался не оставаться в долгу. Он вообще считал, что сеятелями смуты являют ся не столько те, кто бросает бомбы, сколько те, кто зовет к этому огненным словом. Человек просвещенный, он был близок к истине: как это многократно бывало в истории, и на этот раз у колыбели мятежного деяния действительно стояло мятежное слово.
Положение Георгия Васильевича, когда он говорит о дяде, можно понять. Дядя был добр к племяннику, это общеизвестно. Вместе с тем весь облик дяди общественный, как, впрочем, и человеческий, далек от того, чтобы импонировать Георгию Васильевичу. Свести эти два начала воедино, наверно, и для Чичерина не просто. «Ретроград… Известный ретроград», – казалось, готов произнести Георгий Васильевич, определив расстояние, огромность расстояния, которое отделяет его от старшего Чичерина.
Явившись поутру домой, я оказался свидетелем картины необычной. Посреди большой комнаты стояло два чемодана, наполненных доверху вещами моей дочери.
Вот тут она вся: Машу раздирают сомнения до того самого момента, пока решение не принято, однако как только это решение состоялось, целеустремленность становится союзницей Марии: все побоку, есть только цель.
Она уже перенеслась в прибрежные рощи Сестри Леванте, в эту пору зацветающие. Очарование нашей поездки и во времени года. Именно в эту пору Магдалина впервые переносила нехитрую посуду из кухни зимней в летнюю, впервые накрывала стол под кроной нашей старой яблони, впервые на стол подавались к свежевыловленной рыбе молодые лук и салат, что были взращены в нашем садике меж деревьев, а к немудреному десерту если не белая черешня, что вызревала в знойную пору и в апреле, то королевская земляничка – в ветреную Геную ее привозили сицилийские крестьяне. Ну что ж, наш стол был хотя и небогат, ко по всем своим признакам выглядел весенним. Какой–то будет встреча с благословенной Сестри в эту весну? По нынешним временам пять лет равны пяти столетиям – нет ничего печальнее прогулки по городу твоей молодости, в котором время выветрило все, кроме,2 омов и булыжных мостовых.
Вздрогнуло окно, выходящее на улицу, и за стеклом Еырос каракулевый конус шапки Федора.
– Да неужто вы уже встали на лыжи? – возопил сн, взглянув на открытые чемоданы. – Ну, такая бойкость и для меня в диковинку – вас не обойти! – Он, пожалуй, заглянул бы в чемоданы, да Маша их вовремя захлопнула. – Ваш поезд отбывает завтра пополудни…
– Виндавский вокзал, двенадцать тридцать четыре, – заметил я, смеясь.
Он оторопел:
– А вы откуда знаете?
– Мне ли не знать – все–таки еду я, а не вы.
Он далее чуть–чуть расстроился: привык быть самым осведомленным, а тут такая незадача. Он добрался до своего кресла с обнаженными подлокотниками, сел – когда в нем бушевали страсти, он остывал в этом кресле. День еще не погас, и сильный боковой свет высветлил его фигуру. Он выглядел сейчас иссиня–чер–нобородым, смуглым, как мне казалось, смуглым благодаря сильному солнцу нынешней весны – он любил часами вышагивать по аллеям Петровского парка, – при этом заметно загорели и его руки, которые он держал сейчас на подлокотниках. Когда он говорил, его голос вдруг начинал звучать баском, как и надлежит быть голосу человека могуче ширококостного, отвечающего той известной мерке, которая зовется на Руси косой саженью в плечах.
– Вы будете в Милане к субботе, а ко вторнику поспеете и в Геную, – произнес он торжествующе и оглядел нас откровенно радостными глазами. – А от Генуи до Специи рукой подать… – произнес он и замер, точно говоря: я все сказал – теперь слово за вами.
– Вы бывали в Специи, Федор Иванович? – спросил я.
– Да, и предполагаю быть вновь, – подтвердил он. Час от часу не легче: да не думает ли он явиться в
Италию в то самое время, когда будем там мы, – для обычного смертного эта задача, пожалуй, почти невыполнима, Федору она под силу вполне.
– Нет, от Генуи до Специи действительно рукой подать, – повторил Федор Иванович с настойчивостью грубой, он возвращал нас к продолжению прерванного разговора.
Но я молчал, как не обнаруживала желания говорить и Маша, с нарочитым вниманием углубившись в книгу, которую она по этому случаю поспешно сняла с полки.
– А может быть, есть смысл Игорю явиться в Геную? – сказал он как можно громогласнее – совершенно очевидно, что эта реплика была адресована не столько Маше, сколько мне, как мне, очевидно, надо было на нее и отвечать. – Как вы? – Он смотрел на меня.
– Не знаю, – сказал я и сиял с полки том Соловьева.
– Ему это с руки – почему бы ему не явиться? спросил наш гость, нисколько не смутившись.
– В самом деле, почему? – повторила его вопрос Маша и взяла из моих рук Соловьева.
Ну, такого я, признаться, не ожидал: в решительную минуту они объединились.
– У нас там будет много дела, и нам не до Рербер–га, – обратился я к доводу, оказавшемуся под рукой; как все доводы, которые добывались без труда, этот был груб и не очень убедителен.
– Тебе не до Рерберга, папа? – тут же нашлась Маша – она точно хотела сказать: «Тебе – не мне».
Ты помнишь… Калашникова? – вдруг озадачил я ее – у меня не было иного выхода из положения, как биться до конца. – Калашникова Георгия Николаевича? – Право, не пойму, как мне пришел на ум этот Калашников, сын одесского купца и примадонны генуэзской оперы, вызванный к жизни не столько любовью двух натур, по–своему бесшабашных, сколько бурным развитием двух наших городов, которое в самом начале века приняло размеры значительные. – Моего приятеля, что дважды приезжал к нам из Сан – Марино? Помнишь? Так я решил не сообщать ему о своей поездке все по той же причине…
– По какой, папочка?
– Мы едем в Геную работать, Мария…
Ее Соловьев, брошенный наотмашь, долетел до дивана, Машины губы точно обдало известью.
Если ты опасаешься, что я буду тебе плохой помощницей, ты можешь меня и не брать…
Наш гость охорошил бороду и приподнялся: в самом деле, может быть, необходимо разминуться? Как будто поездки в Италию не было! Взять и разминуться!
– Я сожалею, что затеял этот разговор, готов скрыть ваш приезд от Рерберга. – Он пошел по комнате, погрузив нервные пальцы в бороду. – Это возможно вполне – скрыть…
– И не думайте скрывать, – засмеялась Маша, смех был громким, демонстративно громким – она смеялась так, когда ей было не особенно весело.
Я удалился в свою комнату, решив дождаться ухода гостя. Но ждать пришлось долго – прощание было обстоятельным. Уже в сумерки, когда я, не дождавшись ухода Федора, уснул, явилась Маша, явилась тайно – она не стала меня будить, а, устроившись на оттоманке, стоящей у окна, затаилась, дожидаясь, когда я проснусь, но в самом этом молчании, наверно, был гром трубный – я проснулся.
– Ты здесь, Мария?
– Да, конечно.
– г- Ты хочешь мне что–то сказать?
Она не ответила – нет, в этом молчании действительно была громогдасность, способная разбудить мертвого.
– Ты должен понять, что этой встречи мы не отвратим с тобой, – произнесла она. – Понимаешь?
Я не торопился с ответом – мне не хотелось с нею соглашаться.
– Я спрашиваю: понимаешь? – настояла она.
– Не понимаю, – сказал я. – Если ты этой ветре чх не хочешь, почему она должна состояться?
Она вдруг встала с оттоманки:
– Могу я зажечь свет?.. – Она зажгла, не дождавшись моего ответа, – Маша стояла сейчас надо мной, она очень похудела за эту неделю, кожа на шее стянулась, кулаки, которые она поднесла к груди, показались мне страшно маленькими. – Нет, в самом деле, почему она не должна состояться, эта встреча, если я хочу, чтобы она состоялась? Ты не веришь в меня, да?
Я встал, пошел к окну – мне не хотелось, чтобы она стояла надо мной, сжав эти свои кулачки.
– Не все зависит от нас, Мария… – сказал я, зашторивая окно – это несложное дело давало мне возможность не смотреть ей в глаза. – Не все, пойми…
Она подошла ко мне – я слышал ее дыхание.
– Напротив, все, решительно все… Ты мне не веришь?
Только сейчас я увидел: лицо ее было мокро от слез.
– Девочка моя, – мог только произнести я. Наверно, это смешно, но я, по слову наших друзей,
действительно был для Маши кормящей матерью. Помню, когда мы отнесли останки Магдалины на далекую окраину Сестри и, вернувшись, остались с Машей одни, великое беспокойство объяло меня: как я вскормлю ее, как я ее выхожу? Наверно, то, что зовется материнством, возникает вместе с ощущением того заповедного мига, когда дитя отсекается от пуповины, но в не меньшей мере оно рождается временем да той чередой лет, когда ты пестуешь твое дитя. Именно чередой лет: когда ты отдаешь ему последнюю корку хлеба; когда вдруг вспоминаешь, что он ушел в школу в прохудившихся башмаках; когда, обнаружив, что в доме холодно, готов искрошить и бросить в печь последний табурет; когда, углядев, что обветшала и высыпалась ватная подстежка в пальто, начинаешь выпарывать эту подстежку из своего пальто и наскоро перешивать; когда во имя жизни твоего чада вдруг открываешь в себе способности, которых не признавал прежде, становясь и стряпухой, и швеей, и прачкой… Вдовец? Да, пожалуй, так: вечное вдовство. Наказал себе: пуще всех напастей остерегаться влюбленности. Енушил: это измена Маше. Поэтому заклял себя: подальше от греха – уж как–нибудь Маша проживет без мачехи. И еще внушил себе: если есть свет в окне, то в ней, только в ней…
– Не находите ли вы, Николай Андреевич: каждый раз, когда разговор касается тебя, ты должен совладать с пониманием того, как скромно твое место в этом мире? Найди в себе мужество и взгляни на себя со стороны, взгляни и представь, как скоротечна твоя жизнь, соотнесенная с вечностью, как невелико место, которое тебе отвела природа, как, впрочем, и пространство, которое в состоянии охватить твой глаз. Найди в себе мужество и представь все это, и тревожная мысль полонит тебя. Ты обратишь себя к думам, которые не очень воодушевляют. Ты подумаешь: чем, как не случаем, определено твое появление в этом мире?.. Говорят, есть пора в жизни человека, когда ему надо еще поверить, что он ходит по земле, что он живет. Вот обратите мысленный взгляд к детству, самому раннему, вашего младшего брата. Он уже воспринял всех близких, он опознает их по именам, у него успели сложиться отношения с ними, он усвоил характер этих отношений и старается поддерживать их, учитывая их особенности, а самого себя он еще не осознал. Больше того, увидев себя однажды в зеркале, он немало озадачен, и ему необходимо усилие, чтобы признать, при этом не в первом лице, а в третьем, как он знает всех остальных: «Это Сереженька». Он проникает в свое «я», как бы отстранившись от себя и глядя не столько на себя, сколько на тех, кто его окружает. Он смотрит на них и все еще видит себя как в зеркале, постигая свое место среди них: в детских забавах, в немудреной беседе за столом.
Даже после того как ребенок признал себя, процесс узнавания продолжается, при этом его ждут открытия значительные. Истинно: я чувствую – значит, я существую. Способность чувствовать вдруг становится тем всесильным инструментом, который помогает ребенку познать себя. Но вот что любопытно: даже после того, как он установил многие из своих качеств, он продолжает именовать себя в третьем лице: «Дайте Сереже мяч… Наверно, у психологов есть тесты, точно засекающие сами скорости накапливания ребенком сведений об окружающем. По крайней мере память ребенка, ее емкость, ее, если хотите, пластичность, подготовлена к тому, чтобы эти скорости были завидными. Вольно или невольно свидетелем одного из таких тестов я сам был, наблюдая, как вбирают новые слова мои маленькие сверстники, изучая языки. Эта жадность к познанию создает инерцию, которую остановить нельзя. И в общении. Ребенок видит себя не только папой и мамой, он умудряется рассмотреть в себе лошадь и собаку, паровоз, автомобиль, воздушный шар… А знаете, чем определена эта жадность восприятия? Он уже смекнул, что общение дарит ему познание мира, а это с некоторого времени стало его главной игрой, ибо способно ответить на вопрос, ставший теперь для него главным: «Что это такое?»
Иначе говоря, чтобы человек стал человеком, выказав характер, а вместе с тем и волю, включившись в полезную деятельность, которой потребует у него школа, он должен преодолеть барьер, который для него серьезен весьма: осознать себя. А знаете, что тут самое замечательное? Он осознает себя общаясь, только так. Лишить чловека этого общения значит разнести вдребезги то магическое зеркало, глядя в которое человек впервые увидел себя… Согласитесь, что все это не праздно по той простой причине, что имеет отношение к проблеме куда как насущной: человек и общение. Заключите человека в раннем детстве в каменные стены одиночества – и он никогда не постигнет своего «я».
Отъезд назначен на завтра, и в Наркоминдел приехал Рудзутак – у него было дело к Литвинову, однако, уезжая, он решил не разминуться и с Георгием Васильевичем. На нем френч из дымчатой шерсти, просторные брюки из такой же материи и сапоги, голенища которых он любит подтягивать, опасаясь, что они собрались у щиколоток. Рудзутак явился, когда Чичерин заканчивал диктовать своеобразную памятку о концессиях – эта проблема не минет нас в Генуе.
Рудзутак. Да буду ли я вам полезен в Генуе, Георгий Васильевич? (Он испытующе–строго взглянул на Чичерина.) Дипломатия не моя стихия…
Чичерин. Думаю, что очень полезен – понимание проблем жизни, оно показано дипломатии…
Рудзутак. Но ведь дипломатия – это умение устанавливать связи, а я тут не очень силен.
Чичерин. Нет, дипломатия – это не только связи, но и совет, а вы тут можете быть очень полезны…
Рудзутак (улыбнувшись). У моего совета есть одно качество, которое может и не понравиться…
Чичерин. Какое?
Рудзутак. Я прям…
Чичерин. Прямота не испортит хорошего совета, Ян…
Рудзутак. Благодарю вас, Георгий…
Чичерин. Рад, что мы поняли друг друга, Ян…
Чичерин посветлел: в разговоре, который мог сложиться круто, вдруг проступили солнцелюбивые краски.
Чичерин. Послушайте, Ян, а не приходила ли вам на ум такая мысль: было нечто общее в нашей с вами судьбе – вас законопатили в русскую тюрьму, а меня в английскую, при этом и вас и меня вызволила революция, а?
Рудзутак. Да, действительно похоже. (Ему не меньше Чичерина приятно это установить.) Похоже, Георгий, похоже…
Чичерин (вздохнул). Английским казематам далеко до российских, верно ведь, Ян?
Рудзутак (смеясь). Пожалуй…
Рудзутак еще раз подтянул голенища и вышел. Чичерин взглянул на меня, улыбнулся:
– Как вам Рудзутак? Наверно, не очень–то покладист, как и надлежит быть революционеру, но человек принципа. Верно? Заметили – он точно хотел сказать: «Со мной тебе будет нелегко, но я об этом говорю заранее…»? Мне это нравится в Рудзутаке, а вам?
Я улыбнулся:
– Нравится ли мне? Но какое это может иметь значение – главное, чтобы нравилось вам, Георгий Васильевич.
Поезд отправлялся по ударам станционного колокола. На Виндавском вокзале у колокола была певучая медь, и удары требовали пауз. Три удара рассчитанно неторопливых и гудок паровоза: поезд отошел.
Наркоминдельский вагон вместил всю делегацию. Поезд идет всего часа три, и угадываются признаки походного быта, каким мы увидим его в предстоящую неделю. Окно по центру вагона, разделяющее его надвое, оккупировал Красин – в его руках Уэллс в мягкой обложке, чтение дорожное вполне, да к тому же полезное: современная проблема и добрый английский – целеустремленного Красина может устроить и это. Свое окно неторопливо занял и Ян Рудзутак – в его руке давно остыл стакан чая в подстаканнике, но он его даже не отпил, обратив глаза на панораму мест, которые сейчас пересекает поезд: завод с неосвещенными окнами, несмотря на сумерки, депо без признаков жизни, с нескончаемой вереницей паровозов на запасных путях – есть резон осмыслить и это в преддверии Генуи. Медленно проследовал из чичеринского купе в самое дальнее, где обосновалась канцелярия, деятельный Литвинов. У него под мышкой сейчас папка из тисненой кожи, та самая, которую я приметил еще на Кузнецком, – по всей видимости, в тисненую кожу с завидной тщательностью заключены главные документы, воссоздающие перспективу конференции. И только не видно Чичерина – он обещал дочитать книгу о генуэзских колониях на Черном море, которую я прихватил с собой, и пригласить меня для разговора, когда наш поезд минет Псков.
Но приглашение последовало много раньше – видно, оперативные дела, которыми он был занят, потребовали меньше времени, чем он предполагал.
Хотя в вагоне не тепло, он не может устоять от соблазна поработать в жилете; сорочка его без галстука, ворот расстегнут на две пуговицы, рукава закатаны – вид почти домашний.
– Древний Рим действительно добывал соль на Балканах? – вдруг спросил он, заученным движением подняв еще выше закатанные рукава и еще больше обнажив худые, в крупных пупырышках руки: в вагоне не жарко. – Откуда, откуда? Долина Прахова и Тиссы? Не знал, честное слово, не знал!
Ему приятно установить, что он этого не знал, – наверно, это бывает не часто, что он чего–то не знает.
Вы полагаете, что Черное море, которое на старинных картах значится как Русское море, было житницей Рима – Балканы, Таврия, быть может, даже Колхида? Нет, нет, отнюдь не только седая древность, так? Не знал! – Он проводит ладонью от запястья до локтя, пытаясь разогреться, но закатанных рукавов не опускает.
– И не только в древности, Георгий Васильевич. Россия кормила своим хлебом Италию и не в столь давние времена: русский хлеб шел из Одессы в Геную многие десятки кораблей в год, большой водный тракт, своеобразная рокадная дорога.
– И этого не знал, представьте, хотя должен был знать, – произносит он и опускает закатанные рукава, скрепив манжеты запонками, которые не без изящества извлекает из пепельницы. – Не знал, не знал… – произносит он, однако теперь уже без энтузиазма, по инерции – это повторение, многократное, лишило признание прежней силы, а следовательно, удовольствия: конечно же, он все знает и про Древний Рим, и его соляные шахты на Балканах, и тем более про римские колонии на. Русском море, но как прожить без игры? Да, жизнь для него утратила бы краски, если бы не было игры, хотя бы вот такой безобидной, как эта с Древним Римом и очагами его торговой мощи на Востоке.
– А как вы представляете нашу генуэзскую миссию? – вдруг озадачивает он меня неожиданным вопросом – вопрос столь внезапен, что я, признаться, думаю: да не продолжение ли это игры? – Хочу, чтобы вы отважились изложить свою концепцию Генуи… G какой целью?.. Есть желание проверить себя, сопрячь мои взгляды с вашими. Вы полагаете, что это не очень благодарно? – спрашивает он и заставляет меня задуматься не на шутку: ну что ж, если это действительно продолжение игры, то и от меня требуется нечто подобное,
– Готов ответить! – произношу я, отодвигаясь в сумеречный угол купе, чтобы получше видеть Георгия Васильевича, а сам думаю: наверно, не просто соблюсти правила игры, но я решусь. – Если отождествить два мнения на генуэзскую миссию с полотнами, например, известного голландца, то у этих картин достаточно точные названия…
– О, это забавно! – обрадовался Чичерин – в моей реплике он точно рассмотрел условие игры, его это устраивало. – Какие, простите?
– Первое полотно – «Возвращение блудного сына», второе – «Святое семейство»…
– С первым полотном отождествлен взгляд Антанты на Геную, со вторым – наш взгляд?.. Ну, разумеется, с известным приближением… Так?
– Да, конечно. – Иного ответа и нет…
– Значит, два полотна? – Он задумался, сощурившись, как мне привиделось, скептически – его вдруг посетило сомнение. – Но ведь это надо еще доказать. Рембрандт тЕерд в своей тенденции, его не очень–то можно гнуть – сломается. Однако попытаетесь?
– Попытаюсь! – отважился я: коли решился на игру, надо играть. – Да, они хотели видеть в России блудное чадо, трижды кающееся, прошедшее свой путь тернистый и вернувшееся под отчий кров: блудный, заблудший, раскаявшийся! Вен как сн упал в немой мольбе перед родителем, заклиная простить его… Путь изгнанника заблудшего был многотерпелив: лишай взрыл волосы, время не пощадило жалкое рубище несчастного, свалился с ноги башмак, обнажив задубелую ступню… Нет, тут конец великого сомнения, как и конец пути: идти дальше нет сил – раскаяние…
Я осекся на полуслове. Мне хотелось еще сказать ему: если и есть некая притча о заблуждающемся человечестве, то она здесь… Истинно возвращение блудного сына! И те, что в немой и кроткой печали наблюдают за этой картиной, – мужчина в красной одежде, старая женщина, человек, чье лицо смутно выступает из полутьмы, – все они, печально внемлющие, сдержанно наблюдающие, полны участия и понимания происходящего. Они свидетельствуют: совершилось справедливое, человек раскаялся в содеянном, он понял…
– Значит, раскаяние? Так? – спросил Чичерин заинтересованно – его увлек новый смысл рембрандтовских образов. – У всевидящего Запада тут свой резон?
– Очевидно, свой резон, – согласился я, – Антанте хочется видеть в нас… блудное чадо… Наоборот, наше понимание Генуи я бы отождествил с иным сюжетом великого голландца.
– «Святое семейство»?
– Вот именно! – подтвердил я воодушевленно. – Еще Маркс говорил, что Рембрандт писал свою мадонну с нидерландской крестьянки, да и сам облик ее, земной, как и все, что ее окружает, – и тихо тлеющий очаг, и плетеная люлька на сал. азках, и дремлющее в люльке дитя, в котором симпатично угадываются черты матери, – все это свидетельствует о мирских радостях: счастье не обошло молодых крестьян – явилось дитя и точно возродило надежду в себя, в жизнь… Мне мила курносая мадонна, широколицая, повязанная по–деревенски платком, в своем немудреном передничке, – наверное же, она нидерландка, но не будет большим грехом принять ее и за россиянку… Мне близка ее радость – было бы в моих силах, все сделал, чтобы помочь ей…
– Значит, россиянка? – улыбнулся Чичерин: он принял игру, признал ее правила, игра увлекла его. – Не грех и помочь ей, верно?
– Не грех, Георгий Васильевич…
Он протянул руку и, высвободив с деревянных плечиков пиджак, накинул его, сидел неожиданно притихший, улыбающийся – видно, думал все еще о Рембрандте, как он возник в связи с вожделенной Генуей.
– А если спуститься с небес на землю, Николай Андреевич, если все это перевести на язык презренной прозы, то тогда как? – спросил он; фраза была не очень похожа на него – он–то не любил перелагать поэзию на язык презренной прозы.
– Чтобы поставить нас в положение блудного сына, есть одно средство… – был мой ответ, рембрандтовский образ обязывал, не просто было расстаться с ним.
– Долги? – спросил Чичерин.
Я и прежде замечал: в его манере говорить пристальное внимание к собеседнику почти не обнаруживалось, но он умел удерживать в сознании нить разговора, как бы эта нить ни была длинна и извилиста.
– Да, очевидно, так: долги.
– Но ведь у нас есть контрпретензии: мы должны, но и нам должны…
– Если есть понятие «нашла коса на камень», то оно здесь…
Он встал.
– Значит, у блудного чада строптивый характер?
– Разве вы этого не знали, Георгий Васильевич? – вопросил я, вернувшись к началу разговора.
– Знал! – согласился он радостно.
Когда поезд тронулся, Хвостов постучал ко мне.
– Николай Андреевич, не обойдите меня вниманием, моя каюта в самой голове вагона, – произнес он и, собрав пальцы в щепотку, прищелкнул неожиданно громко. – Не могу забыть наливку, которой вы потчевали нас с Георгием Васильевичем в Петровском, – признался он. – Понимаю, что не в моих силах превзойти вас, но и я припас фляжку – гостинец сватьи из–под Чернигова…
К сожалению, мне удалось воспользоваться приглашением Хвостова только сегодня, когда поезд пересек Данцигский коридор и шел на всех парах к Одеру.
Не думал, чтобы посреди Европы было столько леса – второй час поезд шел лесными угодьями, лиственными, хорошо ухоженными, изредка разделенными лугами, чистыми и живописными, – немецкий лес. Здесь уже был вечер и, казалось, принял в свою прохладную тень и наш поезд, хотя над нами в необозримой небесной сини, в облаках, полных света, оставался еще день.
Хвостов достал флягу, обшитую шинельным сукном, и из нее весело забулькала черниговская наливка.
– За Геную, за генуэзскую весну, за удачу в делах! – возгласил Хвостов, тост был хоть куда – мы выпили. Наливка, видно, выстоялась порядочно и была слаще, чем хотелось бы, слаще и, пожалуй, гуще, но крепка завидно. – Вы заметили, что в жизни каждого человека есть момент, который я условно назвал бы последним привалом?
– Ничего не пойму: почему привалом?
– А вот почему, – откликнулся он с готовностью: ему хотелось объяснить мне это. – Как я заметил, этот момент приходится на сорок пять – сорок семь и означает паузу… Да, ке смейтесь, именно паузу в том, что есть движение человека к цели. Человек как бы останавливается, скованный незримой силой. Да, да, мои наблюдения никогда меня не подводили. Год, два он стоит недвижимо, погруженный в раздумье, а потом… или совершает рывок вперед самый головокружительный, взмывает, так сказать, или начинает сыпаться, именно сыпаться… Вот она, пауза жизни и смерти!
– Вы полагаете, что пребываете в состоянии этой паузы?
– Именно, пребываю и еще… буду некоторое время пребывать.
– Чтобы… взмыть, Иван Иванович?
– Или… посыпаться! – Он вздохнул. – Нет ничего горше этого… обвала!
Он сидел, неожиданно сгорбившись. Если бы Мария спросила меня, как обычно: «Отец, кто перед тобой?» – я бы не задумываясь ответил: «Бальзак в предрассветный час, победивший одиннадцатую страницу рукописи и пятую чашку кофе». Вот эта желтизна лица непобедимая и красные веки, которые тем краснее, чем из–желта–желтее лицо.
– Все приемлю, не приемлю этого… обвала! – произнес он и закрыл красные веки, затихнув. – А что, если сейчас пригласить нам… Марию Николаевну? – Его рука, дрожащая, пошла гулять по столу, освобождая место для Маши. – Пригласим?
– Попробуйте.
– Попробовать? – Он не успевает убрать руку, она остановилась посреди стола.
Машино купе в двух шагах. Мне слышно, как он стучит в дверь купе, в этом стуке нет твердости, кажется, что его рука, поднесенная к двери, беспомощно бьется о дверную доску.
– Сейчас придет.
Маша останавливается в дверях, в ее руках сколка машинописных страниц. Она точно принесла эту сколку, чтобы показать, что явилась на минуту.
– Ты что… боишься юбку помять? Садись, – говорю я ей – мне жаль бедного Хвостова, – но в ответ едва заметная белизна тронула ее губы, ее грозная белизна.







