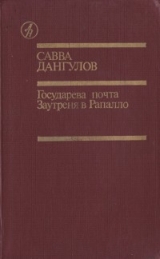
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
46
Вечером Стеффенс сказал Сергею:
– Хочет он или нет, а его имя отныне будет связано с красной лошадью…
Не значит ли это, что отныне он стал другом России?
Стеффенс дал понять, что ответ требует неспешного раздумья. Как некогда, вечерняя тропа сегодня снова привела их к лестнице Сакре – Кёр. На черном поле неба белый купол казался вырезанным из листа ватмана. Ватман был серо–белым, пористым, его толстый и прохладный лист лежал на поверхности неба, не шелохнувшись, оттеняя черноту неба.
– Не значит ли это, что он стал другом России? Нет, все много проще. Он просто поставил на красную лошадь, веря, что это обещает ему солидный куш. Тут нет особой прозорливости. В его положении смешно было бы этим пренебречь… К его взглядам это не имеет никакого отношения. Главное, чтобы лошадь пришла первой, а там хоть потоп… Выиграй он на этих скачках, он красную лошадь тотчас обменяет на белую или там голубую, а то и фиолетовую… Можно даже сказать наверняка: пока он будет сидеть на красной лошади, известной компрометации ему не избежать. Чтобы реабилитировать себя, по крайней мере, в глазах тех, к кому принадлежит он сам, ему надо сменить лошадь… Не хочу быть провидцем, но могу оказаться им… Вы с Буллитом моложе меня, Серж, и обладаете преимуществом, какого нет у меня, проверьте меня…
Сергея позабавила просьба Стефа, но он обещал.
Они вышли из–под кроны каштана и двинулись дальше, стараясь держаться ближе к домам, входя в тень и выходя из нее, она была не обильной.
Да надо ли мне ехать в Христианию? – спросил Сергей. Все, что удалось ему сегодня услышать, наводило на немалые сомнения – надо ли ехать?
– Надо, разумеется, – был ответ Стеффенса. – Надо, надо! – подтвердил он. – Это надо сделать для русских, для наших отношений с ними, – пояснил Стеффенс. – Они не должны нас принимать за Мюнхгаузенов, поймите, не должны!.. – в его голосе появилась заинтересованность. – Готов повторить вам то, что говорил прежде: в жизни всех людей, сколько их есть на свете, два причала. И вот у одних на душе день, у других – ночь… Небось скажете: идеалист Стеффенс… Готов принять и это, идеалист. И все–таки не устану повторять: у одних на душе день, у других – ночь… Простите, Серж, но и для меня не безразлично, что подумают о нашей миссии в России… Ну, Буллит, предположим, хлопнет дверью, а я? Поезжайте в Христианию, дорогой Серж, поезжайте в Христианию!.. Кстати, Нансен – это не Ллойд Джордж и не наш президент… тут я свидетельствую, так сказать, самолично, – он засмеялся. – Сейчас подумал: оказывается, есть такой момент в истории, когда великая привилегия как раз в том и заключается, чтобы не быть президентом!..
На следующий день поезд, вышедший из Парижа на заходе солнца, унес их с Диной к морю, пароход уходил завтра пополудни. Они стояли у окна вагона и смотрели, как поезд нырял в предвечерние тени, как в темную воду, а в вагоне то светлело, то смеркалось. Когда в очередной раз поезд вышел из тени, Дина раскрыла свою сумочку, с которой не расставалась все эти дни, и извлекла конверт с письмом Стеффенса.
– Как ты думаешь, что тут написано? – повертела она письмо. – Что?
– Ни дать ни взять, государева почта! – попробовал отшутиться он. – По–моему, так нарек Чичерин миссию Буллита в Москву…
– А все–таки… что тут написано? – она будто оттолкнула от себя шутку Цветова. – Как по–твоему?..
– Вот что сейчас пришло на память. Как я понял Стеффенса, то, что он называл «тихий ход», не заканчивалось нашей поездкой в Христианию… – произнес он, не умея скрыть волнения.
– Не заканчивалось поездкой в Христианию, – вымолвила она чуть слышно. – А чем заканчивалось? Я в Россию не поеду!.. Нет, не поеду!..
Поезд вошел в тень и, кажется, даже убавил ход. Сергею хотелось спросить ее: «Не поедешь? Почему?» Но он смолчал.
– Вот сейчас доедем до Гавра и повернем обратно. Не поеду… – сказала она и отвела глаза. Письмо все еще было в ее руках, оно тускнело вместе с наплывающими сумерками, сумерки гасили его.
– Но не вскрывать же нам это письмо сейчас? – был его вопрос.
– Не вскрывать… – произнесла она наконец.
В Гавр прибыли за три часа до отхода судна и направились в порт.
47
Они были у Нансена на исходе дня. Солнце упало в море. Был виден только его оранжевый срез. В том, как оно тонуло, была неотвратимость происходящего. Все казалось, оно потонет и больше не вернется. Хотелось крикнуть: остановись! Но оно кануло. Однако облака над морем еще долго светились холодным огнем да удерживались сумерки, по–северному стойкие. В их свете нансеновский особняк с необычным для русского уха названием «Пульхегда», сейчас лиловатый, с округлыми окнами, странно неосвещенными даже вопреки наступившему вечеру, казался необитаемым.
То ли волнение было тому причиной, то ли студеная круговерть, которая была особенно неодолима на верхней палубе, но Дину и теперь знобило и она все жалась щекой к плечу Сергея, повторяя: «Господи, чего мне так зябко? Ни капельки тепла не осталось внутри!.. Ни единой!.. А Сергей улыбался снисходительно, оглядывая стены нансеновского дома, подсвеченные вечерней зарей, которая особенно яркой была в облаках над небосклоном, видно, море уже погасло, а облака горели.
Они легко вошли во двор, калитка была приоткрыта. Полураспахнута была и входная дверь особняка. Как открытыми оказались и одна, и вторая двери, ведущие во внутренние покои. Все было открыто, все приглашало войти. Вечерняя заря нагрянула сюда внезапно, дом так и не успел зажечь огней А может, в этом не было надобности. Дом стоял на холме, и случайный луч, проникший через верхнюю фрамугу г давал ровно столько света, чтобы белые стены и белая мебель не потускнели. А дом был и в самом деле ли–лейно бел. Особенно столовая, посреди которой они сейчас стояли. Все тут светилось снежностью, все объяла крахмальная белизна, разве только цветная фреска, опоясывавшая стены у карниза, была иной. Но глаз уже не различал рисунка, жили только краски, северные, истинно норвежские – ультрамарин и вечная охра.
Видно, кто–то из них не удержал вздоха, и эхо его, ударившись о высокие потолки, побежало, покатилось по дому – все можно упрятать, не упрячешь эха.
– Кто там?
Да, интонация была именно такой – голос окликал. Нет, в нем не было тревоги, но любопытство было.
– Кто там? Кто?
Они пошли на голос. По деревянной лестнице во тьму, настоянную на дыхании сальных свечей и старой бумаги. Это были запахи дома, в котором живет старый человек.
И в самом деле горела сальная свечка и ее желтое пламя сообщило сединам человека, лежащего на тахте, желтоватость.
Сергей оглядел кабинет Нансена. Подле тахты, на которой полулежал хозяин, можно было рассмотреть столик и на нем деревянную тарелку с нехитрой едой, очевидно, ужин, к которому хозяин не успед прикоснуться. Темная булка, обильно обсыпанная мукой, ставшей в печи коричневой, была разрезана на тонкие ломти. Рядом лежала копченая сельдь, вернее, спинка сельди, освобожденная от костей и разделенная на прозрачные волокна. Оставшуюся площадь тарелки занял кусок овечьего сыра, ощутимо влажный и маслянистый, по всему, только накануне извлеченный из бочки. Ближе к тахте расположился глиняный кувшин, заметно массивный, его толстые стенки хорошо берегли прохладу.
– Вы хотите спросить меня: что в кувшине? Вода, разумеется, но какая?.. – Он приподнял скатерть, укрывшую столик, выставил глиняные кружки, такие же, как кувшин, разлил воду. – Ничего не знаю вкуснее хлеба и куска копченой сельди да глотка воды из колодца, только хлеб должен быть черствым, а вода обязательно из колодца…
Пришел привратник и сказал, что явился господин.
который был накануне у Нансена с письмом от министра торгового флота. Привратник заметил, что путь от ворот к маковке дома, куда уединился Нансен, был долог и он запамятовал имя чиновника в соломенной шляпе. Нансен в ответ махнул рукой и сказал: зови. Но привратник не сдвинулся с места. Как можно было понять Нансена, который не хотел держать русских в неведении, привратник сказал, что завтра воскресенье и он хотел бы привести свои бакенбарды в'порядок и по этой причине просит разрешения запереть ворота на час раньше. Нансена это развеселило.
– Прости меня, но ты бы сбрил эти свои бакенбарды, которые делают тебя похожим на Генрика Ибсена. Город возмущен: «Нансен поставил у ворот Ибсена, позор!»
Привратник ответил улыбкой незлобивой и, выйдя на минутку, внес керамическую тарелку с пышками, жаренными на подсолнечном масле.
– Это жена велела… Сказала: отнеси Фритьофу, он небось, бедный, околел там на своей голубятне!
Нансен был заметно растроган, однако настоял на своем:
– Ты все–таки сбрей свои глупые бакенбарды – не хочу, чтобы Ибсен стоял у нансеновских ворот.
Явился чиновник. Он был важен, как и надлежит быть министерской птице. Чиновника можно было понять. Он явился сюда как официальное лицо, а Нансен принимает его едва ли не на чердаке, да еще осмеливается угощать пышками, жаренными на подсолнечном масле.
– А по мне, ничего нет вкуснее!.. – нахваливал Нансен пышки. В ответ чиновник оттопырил верхнюю губу, отчего два уса важной птицы сердито шевельнулись и устремились на хозяина рогатинами. «На кой черт мне твои пышки, жаренные на подсолнечном масле! – будто говорил чиновник. – Да неужели ты не внял, с кем имеешь дело? Я посланец самого министра и к тому же директор департамента, вот я кто, а ты со своими пышками!»
Но Нансен, по всему, пренебрег высокими званиями чиновника, а может быть, их и не заметил. Сбросив шлепанцы и подобрав под себя левую ногу, Нансен дал понять посланцу министра, что готов его выслушать. Чиновник многозначительно кашлянул и заметил, что суть дела изложена в письме, которое он вручил Нансену накануне. Однако, к величайшему изумлению важной птицы, Нансен сказал, что не помнит письма. Чиновника объяло смятение, он смотрел то на Нансена, то на русских гостей, не зная, что ему делать, но Нансен будто не замечал этого. Чиновник мог обратиться к уловке, которая спасла бы его – изложить суть просьбы по–норвежски, – но представитель министра считал себя человеком воспитанным и не мог допустить такой вольности. Поэтому он мобилизовал не столь уж богатый запас своих английских слов и изложил свою просьбу. Получилось не столь лаконично, как могло получиться по–норвежски, но понять можно было. Короче, чиновник прибыл, чтобы склонить Нансена войти в подобие синдиката, который образовало министерство, решившееся поднять со дна моря затонувшие во время войны торговые суда. Имя Нансена, как можно было понять, должно было сообщить вышеупомянутому начинанию вес, которого ему недоставало.
– Нет, это не филантропия, а вполне реальная мзда, устанавливается гонорар! – заявил чиновник в заключение. Он, конечно, мог и не говорить о гонораре, тем более в присутствии иностранных гостей, но он приехал за согласием Нансена, а это согласие, как он полагал, было бы исключено, если бы не состоялся разговор о гонораре. – Что же я должен сказать министру? – спросил чиновник, когда суть дела была изложена.
Нансен сидел на своей тахте, поджав под себя, как было сказано, левую ногу; разговор длился уже минут двадцать, и нога могла занеметь, но Нансен позы не менял, только слегка наклонял и выпрямлял спину.
– И как же? – спросил чиновник, он слишком тщательно подготовил свой вопрос, чтобы ответ был отрицательным.
– Я, пожалуй, скажу «нет», – произнес Нансен. Чиновник помрачнел – ну, этого он никак не ожидал.
– Вы… серьезно?
– Серьезно. Чиновник вспыхнул.
– Как знаете, но я не могу вернуться к министру с отрицательным ответом… и это уже касается не вас, а меня.
– Но какой ответ дали бы вы на моем месте? – спросил Нансен, могло показаться, что ему стало жаль чиновника.
– Ну хотя бы вот этот: предложение неожиданно, вы должны подумать…
– Валяйте… – едва не захохотал Нансен и пожал руку чиновнику. – А я вас ожидал еще вчера, поэтому и распахнул все двери! – произнес Нансен, обращаясь к молодым людям. В его английском была степенность норвежского. – Письмо от Стеффенса? Ну что ж, это добрый знак… – он опустил с тахты ноги, отодвинул шлепанцы, нащупал кожаные туфли, выложенные поистершимся мехом, не иначе, туфли шились в перспективе очередного похода на «Фраме», они были очень стары. – Добрый знак, добрый, – он вскрыл письмо, прочел, быстро ухватил смысл – он силен в английском. – Вот одолела головная боль. Ходил по льдам на «Фраме», и голова была ясна, а тут… Засиделся, засиделся!.. – он пододвинул стол со странным сооружением, которое венчал картонный валик, утыканный шипами. – Вы видели такое? – он махнул рукой. – Похоже на даму сердца? Ничего общего? Странно. А в моем нынешнем положении это и есть дама сердца. Сегодня с утра разговаривал только с нею и, разумеется, клялся ей в любви и преданности… – он задумался, с пристрастной и твердой пристальностью взглянул на гостей. – Когда рука деревенеет, пожалуй, призовешь и даму сердца, – он перебрал пальцами. Рука была уже стариковской, бледная, в бугристой коже и шерсти. – Сколько горя скопилось в мире… Миллионы, только подумать, миллионы беженцев ждут возвращения на родину, голод подступил к России… Вот сижу и думаю, да по твоим ли слабым силам все это?
Он так и сказал: по твоим ли слабым силам… Слабым? Истинно, слабым. Вон как ввалились его глаза, и тревожная белизна тронула лицо – знак возраста, отнюдь не преклонного, а может, болезни, которую переборол человек?.. Да что там говорить, не могуч человек!.. И все–таки, как ни слаб человек, как же далеко простерлась его энергия. Те, кто утверждают, что в немалой степени от него зависит помощь бедствующей Греции, например, не пошли против истины. И Армении – тоже правда.
– Все идут телеграммы из Бергена, – он указал взглядом на столик, на котором действительно собралась горка телеграмм. – Пришло из Канады судно с хлебом для России, – он дотянулся до стопки телеграмм, прикрыл ее ладонью, будто оберегая от ветра, что ненароком мог ворваться и сдуть их. – Это как раз тот самый хлеб, о котором пишет вот тут мистер Стеффенс… – он посмотрел на Цветова, точно пытаясь выяснить, что говорит ему все это. – Вот тут он пишет: «Берген, Берген!» – Он взял письмо Стеффенса, отыскал нужную строку. – Судно пойдет прямо в Петроград, говорят, ни один русский город не нуждается так в хлебе, как Петроград… По–моему, судно отойдет послезавтра…
Оказывается, на нансеновском кабинете деревянная лестница не кончалась, она забирала выше. Нансен шел впереди, и каждый шаг давался ему с трудом, но он шел. Лестница оборвалась – они вышли на площадку, у которой не было иной крыши, кроме неба. Кто–то не удержал вздоха. Будто не маковка дома, стоящего на вершине холма, а что–то неизмеримо более высокое подняло их над землей. Звезды вдруг оказались на уровне лица, и шарф Млечного пути готов был упасть на их плечи.
– Прежде чем уснуть, прихожу сюда, – произнес он, не отрывая глаз от звездной россыпи. – Когда внизу лежит туман, такое впечатление, что я на «Фраме»… – он сощурил глаза, так они видели дальше. – У природы есть тоже свой дар, равного которому человек не знает, – счастье видеть мир… – он будто задохнулся от волнения, в его речи была интонация исповеди. У тех, кто его сейчас слушал, могла возникнуть мысль: он приходил сюда исповедоваться. – Говорят, что природа искреннее человека. Нет, нет!.. – в нем воспылала страсть, это категорическое «Нет!» дало ему силы. – Нет!.. – он не успел отнять глаз от неба, лицо его, казалось, восприняло отблеск звездного света, в нем родилось волнение, какого прежде не было. Он продолжал смотреть на небо, стремясь объять его необъятность, его ширь, потом вдруг остановил взгляд на неведомой звезде на северо–западе небосклона. – Берген… там! – он заволновался. – Завидую: в этот четверг будете в Петрограде!.. Только подумать, в этот четверг!.. А знаете, в этой мысли Стеффенса есть что–то: вот так вернуться в Россию вместе с хлебом, вместе с хлебом…
Русские покинули «Пульхегду», когда в бледносиней темноте летней северной ночи разлилась полуночная серебристость и на траву упали из окон пятна света. И из того высокого окна, где был сейчас Нансен. Видно, взгляд русских гостей, обращенный на нансе–новскую башню, совпадал со взглядом привратника с бакенбардами Ибсена, ему, по всему, не удалось запереть ворота, как он просил, на час раньше.
– Святой человек, – сказал привратник, глядя на окна Нансена. – Давно уже на земле не живут святые, он живет. Что можно сказать? Святой…
Они вышли со двора и остановились; раскачивались и поскрипывали сосны, закрывая темными купами звезды и открывая их,
Они подняли глаза и рассмотрели над собой вышку дома и там, на этой площадке характерную, но больше обычного сгорбленную фигуру Нансена. Не иначе, подумал Цветов, у него была потребность разделить одирочество природы.
Сергей обернулся к Дине, чтобы сказать ей это, и обомлел – глаза ее были обращены к Нансену, она молилась.
– Ты… молишься? – спросил он.
– Добру, – был ее ответ. – Помнишь эту мысль Стеффенса: все люди, сколько их есть на свете, разделены… У одних на душе день, у других – ночь?.. Помнишь?
– Помню, – мог только ответить он. – Но ты приняла эту поездку в Петроград? Только подумать, приняла?
– Как сказал Нансен: вместе с хлебом, что повезем в Россию, вместе с хлебом, – ответила она.
С первым же бергенским поездом они покинули Христианию, чтобы на следующий день в полдень отплыть в Россию…
Они были в Москве на исходе утра и, подрядив фуру на резиновых шинах, двинулись от Петроградского вокзала к неблизким сокольническим просекам. Они добрались до островерхой цветовской хоромины, когда рассвет еще не высинил чистого сокольнического наста. На осторожный стук первым отозвался Герман, которого банковская вахта лишила сна.
– Да ты ли это, брат? – поднял он забинтованную руку–тульская рана зарубцевалась, да не очень. —
Ие насовсем ли к нам? – уже приняв его в медвежьи свои объятия, Герман глянул через плечо брата и рассмотрел в снежной мгле раннего утра лохматую на французский манер шапочку Дины. – Погоди, погоди, а это кто с тобой в капелюхе?
– Жена…
– Коли жена, то насовсем… – и, обернувшись, крикнул что было мочи, не страшась напугать обитателей цветовского дома: – Эка вас сон одолел, все проспали – Сергей вернулся!..
Но дом не отозвался. Только было слышно, как в своей светелке всхлипывает, давя рыдания, проснувшаяся с первыми ударами в дверь и внявшая разговору братьев Лариса да где–то совсем рядом, покашливая и вздыхая, мается в тревоге жестокой баба Настя…
ЗАУТРЕНЯ В РАПАЛЛО
Был тот час, когда дневного света уже не хватает, а вечерний еще не включен, – в неярких мартовских сумерках беломраморная лестница, казалось, отдает свет, который она накопила за день. Не будь этого света, можно было бы и разминуться – он ходил по мрамору, как по ворсистой ткани, нога точно утопала в камне, шага не слышно. Он остановился, опершись о перила лестницы, его борода, в последнее время буйно завившаяся, была устремлена в меня:
– Это вы, Воропаев?
– Я, Георгий Васильевич. Он пошел на меня.
– Почему так поздно?
Этот вопрос мог задать ему и я, но пощадил.
– Собираюсь на дачу…
– А не ветрено?
– Нет, хорошо – я люблю мартовский снег с сол! цем пополам.
– Ах да… сегодня же суббота, – засмеялся он: мысль о субботе застала его врасплох, ему стало весело. – Не в Петровский ли парк?
Это и для меня было неожиданно – откуда он знает про Петровский?
– В Петровский… – протянул я растерянно.
Он ткнул кулаком в бороду и точно свернул ее набок.
– Некогда в Петровском парке была и чичерин–ская дача!
– На вашей памяти, Георгий Васильевич?
– Пожалуй, и на моей.
Про дядю Бориса не было сказано ни слова, хотя нам было ясно: в Петровском парке жил он.
– А нет ли у вас желания побывать в Петровском, Георгий Васильевич?.. Как некогда?
Он рассмеялся – ему было приятно мое приглашение.
– Не воспротивлюсь…
Я торжествовал – наверно, это отразил мой голос;
– Седельный, сорок два – в любое время…
Он будто смешался – только сейчас понял, что разговор чреват обязательствами, которые могли и не входить в его планы. – Благодарю.
Мы сейчас стояли у двери моего кабинета.
– А видели вы новый труд о венской опере, который мне привез Боровский? – спросил я и открыл дверь; он вошел не без колебаний, обычно он входил ко мне охотнее, видно, у него было дело, оно его торопило. Я предложил сесть, но он отказался – осторожно вынес книгу к свету, переложил лист, другой.
– Вот и тут эта не новая ересь: «Моцарт – век восемнадцатый». Ну, что можно сказать?.. Голословно! Нельзя человека вот так намертво прикреплять, нет, не только ко дню и году – даже к веку! Есть люди, в лике которых как в зеркало глядит завтра… Смотри на человека и понимай будущее. Мне скажут: простите, но Моцарт все–таки родился в веке восемнадцатом. Да, в восемнадцатом, но это в данном случае не самое главное!..
Он сделал шаг к двери.
– А как насчет Петровского парка, Георгий Васильевич?
– Благодарю, благодарю…
По правде говоря, мне казалось его «благодарю» больше церемониальным. Я даже готов был обидеться: да воспринял ли он мой адрес? Если же воспринял, то почему не извлек свой блокнот со спичечный коробок, не чиркнул карандашом–спичечкой, а всего лишь вымолвил почтительно–покорно «благодарю» и ушел, как несколько минут назад, вминая подошвы штиблет в мрамор, который все еще казался податливым? Признаться, в своей обиде я не учел, что его память обладает качеством цейсовского чуда – в нужный момент заветный лучик, усиленный линзой, откладывается на матовой поверхности негатива.
Но прежде чем закончился этот день, я стал свидетелем разговора, который, как мне померещилось, мог иметь отношение к завтрашнему визиту Чичерина в Петровский парк.
Разговор произошел в большой комнате отдела печати, где разбиралась пресса. Наркоминдельских полиглотов, читающих на нескольких языках, сама судьба влекла в эту комнату – сегодня здесь пересеклись тропы Воровского и Красина, да и моя смятенная тропа.
Боровский (он даже не успел сесть – отставил палку и привалился плечом к книжному шкафу: после брюшного тифа, которым Боровский жестоко переболел, он ходит с палкой). Воропаич, ты чего сбрасываешь окуляры, когда читаешь газету, а не наоборот? (Он произносит все это, не отрывая глаз от. иста, произносит так, чтобы слышал Красин, – ему надо затравить иронический разговор.)
Красин (не отстраняя газету). Всему готов доверять Николай Андреевич, не доверяет глазам своим…
– Наоборот, именно глазам и доверяю, потому и сбрасываю стекла, – пытаюсь отбиться я.
Боровский. Однако хорош Воропаич! (Вполголоса, но так, чтобы слышал Красин.) Есть идея, друг Воропаич: да не увлекла бы тебя Италия – Геную не обещаю, а вот Рим подам как на тарелке…
Красин (оторвал глаза от газеты – разговор заинтересовал и его). Таким щедрым я Вацлава еще не видел – я бы согласился, а? (Это «а» было прямо адресовано мне.)
– Значит, Рим? – вопросил я и надел очки: очень хотелось увидеть в эту минуту Воровского. – А Геную?
Красин. Не пренебрег все–таки окулярами, Воропаич! (К Воровскому.) Он не доверяет не только себе, но и тебе, Вацлав!
Боровский. Нет, я готов повторить: подам Рим как на тарелке!
Но я был упрям, настаивая:
– А Геную?
Боровский (мне показалось, что он подмигнул Красину). А вот Геную не обещаю…
Занялся разговор и погас, а в памяти остался след зримый – ну, разумеется, ироничный Боровский мог заговорить об Италии ради словца красного, да похоже ли это было на него – он пошел дальше в этом разговоре, чем обычно позволяла его ирония. С тем я и отбыл в Петровский, обрекая себя на неведенье долгое – завтра воскресенье.
Суть человека – в его мыслях. Увидеть Чичерина значит прикоснуться к его разуму.
– Вот вам задача для раздумий, Николай Андреевич: что есть универсальность человеческого дарования? Да, в одном лице: живописец., автор бессмертных шедевров, и ученый, положивший начало заглавным страницам целых наук, крупный поэт и столь же крупный ученый… Говорят, что универсалы намертво прикреплены к заре человечества, время их безвозвратно ушло… Как утверждают, время их безвозвратно ушло по той причине, что сами науки так разветвились и обрели столь глобальные размеры, что для их постижения даже всей человеческой жизни недостает: если и удастся сделать нечто иное, то в сфере смежной. Неверно: Леонардо жил в шестнадцатом веке, а наш Бородин в девятнадцатом – несмотря на разницу в триста лет, никто не будет возражать, что в сути Бородина было и нечто Леонардово… К тому же наш Бородин явил себя в сфере отнюдь не смежной: где его «Князь Игорь» и где его химия? Это же не случайно, что человек науки стремится прикоснуться к живописи или музыке, а муж искусства пробует свои силы в точных науках. Смею утверждать: чем дальше твоя вторая профессия лежит от профессии первой, тем больше эта первая профессия выигрывает. Тут есть законы, в которые надо еще проникнуть. Я вижу, вы улыбаетесь, Николай Андреевич? Улыбаетесь не без иронии? Где, мол, у Чичерина кончается дипломатия и начинается Моцарт, не так ли? Подумали так, верно? Если пришла вам этакая шальная мысль, готов заверить: я говорю не о себе…
Я был у себя в Петровском, едва занялись сумерки, и вновь пришел на память разговор с Чичериным: а вдруг прикатит? Вот и Борис Николаевич, как я помню, любил сверканье пиротехнического огня. Его конные прогулки по аллеям Петровского парка воспринимались как зрелище, у которого была своя публика. А может, дело не в пиротехнике? Деловой разговор на синих снегах Петровского парка? Чем черт не шутит! Нет, теперь не легкое беспокойство, а нечто похожее на тревогу обуяло меня: в самом деле, чего ради ему пришло на ум ехать на чичеринское пепелище? Не мокрые луга Караула или скользкий камень питерской
Дворцовой набережной привлекли его, а многоветвистые аллеи старого московского парка, который чиче–ринским можно назвать весьма условно.
Я застал Машу за писанием этой ее византийской премудрости – чем более смутно состояние ее души, тем сильнее ее увлекают миниатюры. Я заметил: цельность ее характера сказывается и в том, что все ее увлечения обращены к Востоку. Наверно, миниатюры интересны и сами по себе, но для меня они тем интереснее, чем больше объясняют Машу.
А погода истинно подладилась под состояние ее души – наш старый сруб точно помещен в трубе Жуковского и всесильные струи сотрясают домишко: неистово скрипят половицы, сажа летит из поддувала, и пакля, вышибленная из пазов, носится в воздухе, точно паутина на прохладном солнце бабьего лета. Не ровен час закричишь: «Эй, вы там, хозяева больших сквозняков, повергшие все живое в дрожь, дайте солнцу объять землю!» Не ровен час возопишь, взывая к ветру, на я молчу, вместе с Машей склонившись над тусклым квадрантом ватмана. Кажется, что ветер, который обдувает наш старый дом, вздымает и Машины волосы, рассыпая их.
– Ты не успеешь закончить свой рисунок сегодня? – спрашиваю я, следя за движением острой кисти – как только она не пронзит ватман.
Она взглянула на меня; сейчас были видны крапинки в ее глазах, светло–кофейных, не просвечивающихся.
– Ты ждешь?.. Кого? Я сказал ей.
Она пошла по комнате: подобно своей матери, Маша была нелюдимой.
– Я боюсь, что не успею закончить, – произнесла она, остановившись у окна и точно говоря с кем–то, кто был на заснеженной тропке под окном. – Может, я уйду на это время?
– Нет, будь дома и работай – я все сделаю сам…
– Хорошо, – сказала она, но, обернувшись ко мне, не успела отвести глаз, и я заметил: глаза еще берегли боязнь – видно, я ее переполошил не на шутку. В ее жизнь, подчиненную скучным ритмам, когда едва ли не суточные вахты в бюро переводов Наркомпроса перемежались многочасовой сряду работой над миниа-
•порами, работой до лиловых кругов в подглазье, до голодных колик, ворвалась буря: подумать страшно – Чичерин!.. – Что надоумило его? – спросила она, возвращаясь на свое место, однако, проходя мимо зеркала, взглянула в него и, как мне привиделось, осталась собой довольна: да не готовила ли она себя к завтрашней встрече? – Что надоумило!..
– Он не был здесь еще с той поры, когда был жив Борис Николаевич… – произнес я, стараясь утишить ее сердечко: я вижу, как оно встревожилось. – Помнишь… щербатовский особняк у старых берез? – был мой вопрос. Я рассказывал ей о дОхМе с мезонином, обнесенном белым штакетником, – он сберег название щербатовского и после того, как отошел к Чичериным. Там до сих пор можно разглядеть эти березы, под которыми, как говорят, стоял стол, врытый в землю, просторный стол, срубленный специально для братьев Чичериных, Бориса и Василия, – в погожие дни соседи видели братьев, тогда студентов Московского университета, под березами: с прилежностью, быть может характерной для провинциалов, явившихся завоевывать столицу, они трудились на зависть. – Помнишь этот флигель с тремя березами?
– Помню…
Она теперь склонилась над рисунком так низко, что ее красноватый локон, не успевший потускнеть за длинную московскую зиму, распластался на ватмане. Однако не померещилось ли мне, что я в ней поселил беспокойство, от которого не так просто избавиться? – вон с какой энергией пошла гулять ее кисть. Нет, это развоевалась не она, а ее двадцать шесть лет буйствуют – нет ничего страшнее этих двадцати шести девичьих лет. Боже мой, какой же красивой она мне сейчас кажется! Да, вот эта ее золотистость кожи, чуть красноватая, как у бабки–болгарки, вот эта копна волос, с которыми она постоянно единоборствует, так они обильны и так непокорны, вот этот разлет ее бровей – одно слово, болгарская бабка… Но у той еще была огнинка, стойкая при всех ненастьях жизни, – она, эта огнинка, повлекла вслед за нею полк женихов пеших и конных, именно и конных: по слухам, один такой молодой оболтус оседлал своего каурого красавца и пытался въехать в дом к девчонке. А у Маши есть эта заветная огнинка, сводящая с ума? Наверно, есть, но упрятана так далеко, что будто ее и нет вовсе.
Наверно, и печаль в глазах неразмываемая от этого; даже странно, Маша смеется, а глаза печальны… Чем мы приветим гостя?
– Чем богаты…
Нелегко сказать весной двадцать второго «чем богаты».
Я открыл кладовку, и разнотравье, пестрое, обильное, замешанное на знойном дыхании таврической степи, объяло меня. Точно взял на ладонь листья зацветающего сада, по листу с яблоньки–зимовки, вишни л а абрикоса – жерделы, – растер покрепче и храбро вдохнул, задержав дыхание, – в этих запахах и хмельное веселье, и бездумное лихо, и тоска бездонная, В иные времена наша скромная кладовка была побогаче, а сейчас только пустые банки, выстроенные по ранжиру, да аккуратные квадраты наклеек: «Айва», «Персики», «Абрикос», «Вишня», – да, пожалуй, запах вишневого варенья, сладко–тоскливый, очень юный… Но я плохо знал свои припасы. Отыскалась и банка с красным перцем, крупным, болгарским, и баклажанами, залитыми подсолнечным маслом, и, разумеется, квадратный пузырек с вишневкой, что, не скрою, вызвало у меня радость превеликую – с такими припасами мне было ничего не страшно.







