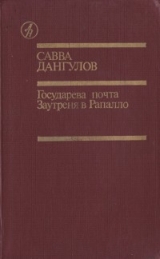
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
– Ничего не скажешь – деятелен, – кивнул Чичерин в сторону, где затих не очень охотно стек англичанина. – Мне иногда видится в происходящем закон всемирного тяготения: позиция небесного тела, называемого в просторечии Ллойд Джорджем, во многом зависит и от того, как действует такая фигура, как Ур–карт…
– Уркарт или Черчилль, Георгий Васильевич? Он остановился:
– Не приемлю слишком прямых аналогий, но тут… В палате общин Алкивиад сидел рядом с Клеоном. Когда я решил обосноваться в Лондоне, первое, что сделал, пошел в Вестминстер. Помнил наказ дяди Бориса: из всех заморских чудес самое большое – британский парламент… И, в частности, вот это: Ллойд Джордж и Черчилль, сидящие рядом, чувствующие локоть друг друга…
– У друзей все шло бы как по маслу, если бы не русская закавыка? – заметил я. – Не страх ли перед русской революцией вернул Черчилля к тори?
Чичерин стал строг–наверно, ненароком я коснулся существа.
– Знаете, кого винил Ллойд Джордж в русской революции? – спросил Чичерин. – Антанту! Есть смысл приглядеться к доводам, которые извлек валлиец, они должны быть нам интересны.
Мы покидаем галерею и вступаем на тропу, полого спускающуюся. Солнце удерживается на вершине горы – там мрамор еще белорозов, а здесь он уже стал синим, быть может густо–синим, здесь уже вечер… Да и в голосе Георгия Васильевича есть интонация вечера – вечер располагает к раздумью.
– Ллойд Джордж был убежден, что русская революция – это гнев и скорбь России по миллионам погибших, брошенных под немецкий огонь безоружными, – произнес Георгий Васильевич и пошел тише, в походке Чичерина была и неторопливость его рассказа. – Именно безоружными, что можно было предотвратить, если бы Антанта снабдила Россию оружием. Ллойд Джордж был не голословен: он добыл переписку начальника российского генштаба со своим военным министром, в которой первый просил второго прислать снаряды даже без боеголовок–не беда, что снаряды не нанесут урона неприятелю, польза будет хотя бы и от того, что их увидят солдаты. Надо сказать, что англичане не оставляли Россию без внимания и позже. Когда революция произошла, возникла новая проблема: а нет ли возможности как–то свести революцию на нет, сделать так, будто бы ее не было? И объявился Черчилль. Известна энергия Черчилля, как и его административные таланты. Ни одно дело не вызывало у Черчилля такого воодушевления, как вторжение в Россию. Презрение, что копилось в нем по отношению к простому люду Англии, он излил на революционную Россию. Клеймить английского рабочего как–то непатриотично, предать проклятию русского рабочего куда удобнее. Казалось, это неистовство было сильнее его. «Я, победивший тигров, не потерплю, чтобы меня побили обезьяны!» – стонал он. Но ему и его армии пришлось испытать горечь поражения, если это сделали «обезьяны», то тем хуже для него.
Чичерину, как мне показалось, стоило усилия заметного, чтобы сдержать смех, – он решил закончить рассказ в тоне строгого раздумья, в каком начал.
– Поводом для вторжения явился известный вердикт о признании Колчака верховным правителем России. Черчилль полагал, что вердикт предоставлял ему свободу рук. Он ошибся. Именно в те дни родился мятежный лозунг «Руки прочь от России!». Я был в Англии и могу свидетельствовать: английские рабочие воспользовались этим лозунгом, чтобы навести порядок и в своем собственном доме. И как навести порядок! Говорят, что Ллойд Джордж, которого волна рабочих стачек застала на мирной конференции в Париже, жаловался своим коллегам, что новости из Лондона сводятся к сообщениям о новых забастовках. Но произошло такое, что и для Англии было открытием: крамола перебросилась в армию – восстали войска. Нет, не в североафриканских или индийских гарнизонах, а в самом Лондоне. Красный флаг видели над лондонскими казармами. Для английских обывателей не было ничего страшнее: армия, имперская твердыня и красный флаг – оказывается, может быть и такое. Кстати, красный флаг над лондонскими казармами видел и я… Первым устрашился старый либерал. Он заклинал Черчилля не ввергать Англию в чисто сумасшедшее предприятие из–за ненависти к большевистским принципам. Трудно сказать, как себя чувствовали теперь Клеон и Алкивиад, расположившие свои депутатские места рядом, но, надо думать, им теперь было не очень удобно. Премьер склонил кабинет к отзыву английских войск из России, учинив разнос своему военному министру прямо на заседании кабинета – такого не бывало. Есть мнение, что с возрастом человека одолевает все большее желание сблизить расстояние, отделяющее грешную практику от совести. Надо очень хорошо думать о старом валлийце, чтобы допустить подобное, но не следует игнорировать и фактов: главным оппонентом по многотрудной русской проблеме у Черчилля теперь стал Ллойд Джордж…
Мы возвращались в Санта – Маргериту уже вечерней дорогой – в приморских отелях зажгли огни. Мне казались интересными раздумья Георгия Васильевича, хотя было в них нечто такое, что трудно было постигнуть: почему он обратил внимание к Черчиллю, которого в Генуе не было и который, по–моему, не очень–то влиял сейчас на генуэзские дела англичан? Нельзя же всерьез принимать тут Лесли Уркарта и его миссию? Не было ли иной причины чичеринского интереса к Черчиллю, а если была, то какая?
Рерберг явился в Санта – Маргериту. Да, прямо так, в открытую, при этом не к Маше, а ко мне.
Гостиничный служка, доложивший о его приходе, заметил:
– Синьор Рерберг просил сказать, что ждет вас в холле…
Я работал весь день, разбирая прессу, которая почтила своим вниманием Рапалло, и поход к морю был благом.
– Не гневайтесь на меня, Николай Андреевич, пожалуйста, что я пришел вот так, – хочу разговора… Я пришел, чтобы сказать вам нечто такое, что вам никто не скажет…
Никогда прежде он не был так категоричен.
– Да?
– Знаете, что меня удивило? Это то, что вы привезли сюда Манюню. – Он звал ее так еще давным–давно, в Сестри. – Простите меня, если я скажу книжно: так можно сделать, если веришь в человека, а значит, веришь в себя. Вот я и сказал вам все, что хотел сказать…
Я не сдержал смеха:
– Нет, Игорь, ты не все сказал, честное слово, не все!
Он смутился:
– Тогда слушайте остальное: скажите ей, чтобы она осталась, – вы–то знаете, Николай Андреевич, что я люблю ее.
– А почему бы тебе не переговорить с нею самому, Игорь? Не веришь в свои силы?
Он встал и, подняв камень, замахнулся и пустил его над водой. Штилевое море с полированной гладью будто стало холмистым, и это обнаружил летящий камень: он сшибал маковки этих холмов, при этом получился пунктир очень точный.
– Нет, я верю, но лучше, если скажете ей вы, Николай Андреевич… Если трудно, я помогу.
– Как ты мне можешь помочь, Игорь? – не сдержал я смеха, наверно, смех мой прозвучал издевкой над Рербергом, грубой издевкой. – Ты понимаешь, что говоришь?
– А я сейчас покажу, как я могу помочь вам, вот читайте. – Он сунул руку в левый боковой карман пиджака и извлек газету; судя по тому, как заученно он это сделал, он рассчитал все периоды этой операции, как и ее нехитрое исполнение. – Читайте, читайте, Николай Андреевич…
У меня в руках была газета «Секоло», ее вечерний номер, допускаю, что он взял его с машины часа за полтора до нашей встречи – разворачивая газету, я испачкал руки, краска не просохла.
– Читайте, Николай Андреевич, не бойтесь… – Он упер палец в свое имя, набранное крупно: Рерберг. Никуда не денешься, надо читать.
«Мнение русского – письмо в редакцию» – гласил аншлаг. Рерберг комментировал договор в Рапалло. Но как он комментировал! «Чтобы понять русских, надо влезть в их шкуру!» Он как бы говорил от имени новой русской дипломатии, проникнув в ее огорчения и надежды. Он говорил если не от имени Чичерина, то от лица человека, который связал себя с чичеринской позицией и ее разделяет. «Поймите русских: они все еще прорывают блокаду, в данном случае дипломатическую». Его письмо было обращено в два адреса: к итальянцам и русским. Итальянцам он сказал: не осуж-
дайте их, они вынуждены были так действовать. Русским: разве вы не поняли, что я говорю и от вашего имени? имею ли я право? если говорю, то имею.
– Иу как, Николай Андреевич? Что можно сказать после этого?
Я засмеялся:
– Силен Рерберг!
– Вот так–то, Николай Андреевич!
Мы пошли от берега. Надо отдать должное Рербер–гу, он усложнил задачу. Решение, которое он избрал, было в его положении едва ли не единственным – сам выбор этого средства требовал и ума и опыта жизненного, видно, у Игоря все это было. Он точно выдернул из–под меня землю. Чтобы что–то сказать, мне надо было собраться с мыслями, но не скажешь ему об этом.
– Ну как, Николай Андреевич? Не ясно ли, что ваше слово для Маши закон?
– Нет, для Маши ее собственное слово закон…
Я вернулся в отель и рассказал Марии о Рерберго–вом письме русского.
Мы стояли с моей дочерью в холле гостиницы, отыскав глазами полукресло, Мария придвинула его, села.
– Как ты понимаешь все это? – спросила она. Холл был полуосвещен, и свет паркового фонаря,
ворвавшись в здание, высветил лицо и Маши,
– Я вижу тут его предприимчивость, – сказал я, – А разве не так?
– Нет, нет, – не согласилась она и закрыла лицо руками.
– Почему «нет»? – был мой вопрос. – Я хочу понять…
Она открыла лицо, и оно мне показалось зеленым – оказывается, парковый фонарь, вставший у окна, был зарыт в листву.
– Ты понимаешь… все это вынужденно, – произнесла она. – Он увидел в этом выход из положения. Поставь себя на его место…
Я сделал попытку отойти от окна.
– Прости меня, но я не вижу себя на его месте… Не вижу и никогда не увижу.
– Будь справедлив к нему, – произнесла она. Она встала. Мы молча поднялись к себе.
Разговор в чичеринском кабинете.
Чичерин. Старое правило – хорошая дипломатия не увеличивает числа своих врагов: надо продолжать диалог с Ллойд Джорджем.
Красин. А если он не захочет?
Чичерин. Надо идти на риск и начать этот диалог.
Красин. Вы готовы на этот риск?
Чичерин (не без смятения). Если речь идет обо мне, пожалуй, готов.
Красин. Коли риск, то расчет – без расчета рисковать нет смысла.
Чичерин. Расчет есть.
Красин. Какой?
Чичерин. Узнав, что мы хотим продолжения разговора, Ллойд Джордж решит, что в нашем понимании проблемы возник новый элемент, и на диалог пойдет – расчет тут…
Красин. А на самом деле должен быть этот новый элемент?
Чичерин. Должен быть, разумеется. Иначе нет повода к возобновлению диалога.
Красин. Значит, новый элемент? Какой?
Чичерин (задумавшись). Хорошо, когда есть вопрос к задаче, легче дышится.
Красин. Насколько я понимаю, на менделеевской таблице нашей дипломатии эта клетка пуста? Но в природе этот элемент есть?
Чичерин. Если есть убеждение, что в природе этот элемент имеется, надо искать – будем искать вместе…
Нет, Уркарт не сидит сложа руки, как не сидит сложа руки и Ллойд Джордж, – делегация Антанты сзывает прессу. Мир прессы. Видно, разговор пойдет о Рапалло. Этим определены и его значение и, пожалуй, масштабы: предполагает быть корпус корреспондентов, аккредитованных на конференции, да еще подкрепление из больших итальянских газет. Пятьсот перьев. Такое не возникает стихийно. Не случайно встреча состоится в Сан – Джорджо. Ассоциация сознательна: как бы вторая конференция…
Чичерин просил быть с ним в поездке по городам, лежащим на побережье: издавна эти города были обиталищем гонимых русских. До того, как русские обосновались на Капри, они селились в Санта – Маргерите, Сестри Леванте, Кава–де–Лавания.
Мы снарядили стосильный «ланча» и отправились в дорогу. Не все еще выветрилось из моей памяти; я мог показать Георгию Васильевичу дом, где жил Кропоткин, свести его с семьей, которая помнила Лопатина. Но, видно, наши души не созрели для такого путешествия, всесильная Генуя полонила их. Поэтому, воспользовавшись тем, что день погас, а дорога спустилась в долину, обширное днище которой было выстлано виноградниками, мы покинули наш автомобиль, намереваясь остаток пути одолеть пешком.
– Очевидно, почин к возобновлению диалога с англичанами должен быть сделан нами? – спросил я Чичерина: не было для него дела более насущного, чем это.
Чичерин поднял на меня строгие глаза – казалось, и он думал сейчас об этом:
– Да, наверно.
А какую форму следует придать обращению: просьба о встрече, нет, не прямая, а посланная через третье лицо, или, быть может, письмо?
Все–таки письмо.
– В таком письме должен быть этот новый элемент, о котором как–то шла речь?
– Да, конечно, при этом не обременяющий нас. – Его увлек этот разговор, я чувствовал, как разогревается его голос. – Не очень обременяющий нас, – уточнил он.
– Тогда… за чем же остановка?
– Надо выбрать момент… Мы же знаем, что ошибка в выборе момента может погубить все.
Время работает на нас, Георгий Васильевич? И против нас.
И все–таки этот момент не настал? Мы стояли сейчас посреди долины. Где–то справа жгли костер батраки, работающие на виноградниках. Шипело масло, пахло жареным луком.
Я бы считал, что этот момент настал, если бы не завтрашнее действо в Сан – Джорджо.
– На ваш взгляд, оно имеет отношение к Рапалло?
– Да, уверен.
– Нам надо быть в Сан – Джорджо, Георгий Василь–звич?
Конечно.
– Вам кажется, что Ллойд Джордж завтра не одобрит Рапалло?
Мы минули рабочих, сидящих у костра. Они сидели недвижимо – это усталость сковала их.
– Определенно не одобрит, при этом он может да–же выступить резче, чем хотел бы… – Он ухмыльнулся. – Когда он говорит и от имени Барту, у него получается резче…
Я шел в Сан – Джорджо и думал об этой беседе с Чичериным. Ллойд Джордж запаздывал, и Зал Сделок выражал нетерпение – многоголосый гул был тревожным. Казалось, британский премьер не идет в зал, дожидаясь, когда напряжение достигнет своего апогея. Наконец толпа гостей, стоящая у входа, пришла в движение и нехотя раздалась, послышались приветственные хлопки. Они были как беспорядочная стрельба, выражая не столько единый порыв, сколько смятение.
То ли бессонница тому виной, то ли зубная боль, которая одолевала британского премьера все эти дни, – лицо его мне показалось больше обычного одутловатым. Но седины, ярко–серебряные, подсвеченные сильным светом моря, лежащего за окнами Сан – Джорджо, придавали его облику некую торжественность. По крайней мере сама внешность человека во многом способствовала тому, чтобы внимание заметно сконцентрировалось на нем.
Вслед за Ллойд Джорджем шли его коллеги по делегации Антанты: Барту, Теннис, Шанцер. Видно, те четверть часа, которые они провели вместе в непросторных апартаментах дирекции Сан – Джорджо, были использованы в полной мере, чтобы распечь друг друга. Это им удалось вполне: гнев клокотал в них. Зал, настроенный празднично, готов был разразиться аплодисментами, но, рассмотрев их лица, точно поперхнулся.
– Страны Согласия едины в своем мнении: русско–германский договор–проявление крайней нелояльности…
Как ни грозен был британский лев, он не вызывал страха. Тебе очень хотелось бы, чтобы я умер с перепугу, но мне не страшно–хотелось сказать старому валлийцу. Наверно, это почувствовала аудитория – она набралась храбрости, чтобы задать вопрос почти кощунственный:
– Русско–германский договор явился совершенной неожиданностью для англичан, совершенной?
Вопрос точно рукой снял с лица британского премьера выражение гнева. Нет, он не то что улыбнулся, но лицо изобразило решимость, больше того, лукавство, какого не было на лице до этого. Когда же настало время отвечать на вопрос, то валлиец переуступил эту честь одному из своих подручных. Повторяю: из впе* чатлений, которые дарило событие в Сан – Джорджо, именно этот момент требовал особого осмысления.
Нет, дело совсем не в заявлении Ратенау, который отводил обвинения Ллойд Джорджа, утверждая, что Рапалло готовилось едва ли не при открытых дверях и никакого секрета не представляло. Имелись иные доказательства того, что Ллойд Джордж если не знал, то догадывался о грядущем событии. Догадывался и* молчал, как бы благословляя Рапалло? Благословляя? С какой целью?
– Какими играми вы увлекались в детстве, Николай Андреевич? Нет, не только когда рядом был брат или однокашник, но и тогда, когда вы были одни? Наверно, повинно это мое страдное житье–бытье: любил играть в игры, в которых я один во всех лицах. Как за анализом шахматной партии: чуть–чуть фантазии и представь, что тебе противостоит некто, кто на голову сильнее тебя, – отдай ему все преимущества, не бойся, отдай!.. Наверно, и пианисту инструмент дан, чтобы создать иллюзию нерасторжимости с людьми?.. Но в ряду этих игр есть одна, совершеннее которой я не знаю: игра–признание, может быть даже игра–исповедь, хотя нет слов более противоположных, чем эти… Среди тех вопросов, которые можешь задать себе, ты отбираешь вопросы–опоры, они держат твое «я». Должен сказать, что я был не одинок и, пожалуй, не оригинален, обратившись к этой игре, – в нее играл весь круг молодых Чичериных, который в свое время был не так уж мал. Недавно я совершил своеобразный эксперимент, заставив память как бы реставрировать эти вопросы. А знаете почему? Любопытно соотнести их с тем, что условно ты мог бы назвать твоим мироощущением. Любопытно взобраться по лестничке этих вопросов – кстати, у них один общий знак: любимый художник, поэт, архитектурный стиль, язык, героиня?.. Итак, художник и поэт? Леонардо и Верхарн. Архитектурный стиль? Монументальный, заключающий в себе человеческий океан. Язык? Латышский язык народных песен. Героиня в литературе? Мадам Бовари, ненасытная. Любимые качества в героях литературы? Проблематичность, амбивалентность, философия? Философия вечного долга, вечного возобновления, всемирной взаимозависимости, познаваемой действительности и творческой деятельности. Философия количественного изобилия. Мои качества? Избыток восприимчивости, гибкость, страсть к всеобъемлющему знанию, никогда не знать отдыха, постоянно быть в беспокойстве. Величайшее счастье? Сцепления. Неутоленные и вечно живучие желания, недостижимые и вечно сияющие горизонты, неизгладимые и вечно страстные воспоминания, испытывать вторжение проносящихся ветров и трепет всемирных веяний. И принимать участие в созидательном огне… Эпикуреизм выполненного долга и ирония преодоленных контрастов. Одна борозда в степи бескрайней. Наверно, существует формула, которая способна объять все. Иногда мне кажется, что я нашел ее: «У меня была революция и Моцарт».
Если есть нечто такое, о чем ты хотел бы спросить себя в связи с Чичериным, то оно уместилось в ответах Георгия Васильевича. Ну, разумеется, это чичеринская исповедь, единственная в своем роде по своей лаконичности, выразительной силе и искренности. Не знаю, говорил ли он обо всем этом, значительном и сокровенном, в ином месте. Полагаю, что не говорил. Однако тут вот, в этой исповеди, даны ответы на такие вопросы, без которых нет Чичерина. Нет, речь идет даже не об эстетических пристрастиях Георгия Васильевича, что само по себе не ново, а о той сфере заповедной, где эти пристрастия соотносятся со взглядами на жизнь, борьбу, призвание, образуя то, что принято называть политическим идеалом. Этот идеал благороден: «Философия? Философия выполненного долга». Приняв этот идеал, Чичерин точно отдает себя в жертву вожделенной цели – никакой пощады. «Мои качества?.. Страсть к всеобъемлющему знанию, никогда не знать отдыха, постоянно быть в беспокойстве». Давно замечено: мечта человека тем выше, чем больше он сохранил в себе идеалы своей молодости. Наверно, особенность того, что есть Чичерин, и в том, что он пронес через десятилетия своего земного бытия многое из того, что исповедовал на заре дней своих. На его формуле о счастье точно лежит отблеск зоревой поры. «Величайшее счастье?.. Недостижимые и вечно сияющие горизонты, неизгладимые и вечно страстные воспоминания, испытывать вторжение проносящихся ветров и трепет всемирных веяний… И вот что хочется осмыслить: он избрал этот образ жизни не потому, что его кто–то ему навязал. Нет, так надо и так хочется ему самому. Поэтому, как ни трудна была жизнь, он воспринял ее, по слову почтенной старины, как дар небес. Для него счастье – это прикосновение к созидательному огню, это эпикуреизм (вон как характерно для Чичерина!) выполненного долга, это ирония преодоленных пространств, а значит, тот зримый след в жизни, который, впрочем, имеет и иное название: «Одна борозда в степи бескрайней».
Я вернулся в Санта – Маргериту и, не заходя к себе, пошел к Чичерину. Мне показалось, что он ждал меня: предвечерние часы он отдавал сну, чтобы высвободить для работы ночь, а тут сон был отменен. Он стоял у окна, листая томик в коричневой коже, едва ли не без остатка уместившийся в не столь уж обширных чиче–ринских ладонях. Тютчев или Баратынский? (Вспомнилось любимое чичеринское: «Я обхожусь малым: Тютчев, Баратынский да, пожалуй, Моцарт – с меня хватит…») В этот раз – Баратынский.
Я видел у Чичерина этот томик. Он не столько читал весь том, сколько перечитывал полюбившиеся десять – пятнадцать стихотворений: их было достаточно ему, чтобы встревожить мысль.
«Освобожусь воображеньем и крылья духа подыму…» – он читал мне эти стихи и прежде. Потом прочел еще, пушкинское, тоже не впервые: «Ты царь: живи один…» Казалось необычным: человек, посвятивший себя единению людей, начинал петь хвалу отшельничеству. Точно он ищет оправданья своему бобыль–ному житью–бытью, ищет оправдания и объясняет. Отыскал же он у того же Баратынского: «И один я пью отныне! Не в людском шуму, пророк… Думалось: вот эта жажда самопознания, наверно, характерна для человека, который привык быть наедине с собой.
Он вернул Баратынского на письменный стол, но не захлопнул, а положил как бы ничком на раскрытые страницы, приберегая для себя возможность вернуться к нему.
– Как старик Ллойд Джордж? – спросил он, искоса посмотрев на меня.
Я рассказал, какое смятение объяло старика, когда его спросили: весть о Рапалло была для него внезапной?
– Вы думаете, что он знал об этом? – Взгляд чиче–ринских глаз был пытлив.
– Мог знать и благословлял, мог знать, – сказал я, не остановившись перед тем, чтобы пояснить. – И благословлял…
Благословлял! Почему? Я понимал, что пошел далеко в стремлении объяснить позицию Ллойд Джорджа, но хотел, чтобы Чичерин знал: мне виделись в нем, в этом мнении, свои резоны.
– Он понимает свою поездку в Геную так: англичане считают, что это его, Ллойд Джорджа, миссия, если хотите, его предназначение. Как убеждены они, никто, кроме него, не может найти общего языка с большевиками. Поэтому успех Генуи для него в первую очередь его личный успех. Да, у Рапалло есть свой срок созревания, оно возникло давно, и человек такого опыта, как Ллойд Джордж, должен был это предвидеть, а предвидя, сказать, если это и совершится, надо сохранить спокойствие. Нет, внешне он может, конечно, гневаться, и сегодня он показал в Сан – Джорджо, как он это умеет делать, но по существу… должен демонстрировать спокойную уверенность, умение скрепить оборванную нить…
– А что предстоит делать нам? Понимать это и идти ему навстречу.
– Пожалуй, идти навстречу.
– Каким образом?
Он молчит, предоставляя мне самому решить, какой форме обращения к Ллойд Джорджу он отдал предпочтение.
– ПисЬхМо, Георгий Васильевич?
– Да, письмо.
Он говорит «письмо» и указывает взглядом на конверт, сооруженный из ярко–белой, заметно беленной бумаги, который он привалил тяжелым пресс–папье точно из опасения, что конверт сдует ветром, – видно, копия письма, посланного Ллойд Джорджу, здесь. – Значит, письмо?
Принесли почту, пришедшую с дипкурьерами (они явились сегодня в обед), и разговор прервался. Он прервался в тот самый момент, когда оставалось выяснить существенное: каким было это письмо и включило ли оно тот самый новый элемент, о котором последний раз говорил Чичерин.
Разговор на большой террасе палаццо д'Империале; Воровский, Красин.
Боровский. Конечно, каждое обещание относительно, но уместен вопрос: не много ли Чичерин посулил Ллойд Джорджу?
Красин. В каком смысле?
Воровский. Сказать, что мы вернем иностранным владельцам их собственность в России, значит дезинформировать и их и в какой–то мере себя. Оправдан этот шаг?
Красин. А мы спросим Чичерина – вот он… (Входят Чичерин и Рудзутак.) Георгий Васильевич, мы о письме Ллойд Джорджу… Да есть ли в нем смысл, в этом письме?
Чичерин (задумался – он точно разговаривает сам с собой). Надо понять: не в наших интересах прерывать диалог с Антантой. Чтобы он был продолжен, в нашей позиции должно возникнуть нечто новое… Именно это новое может явиться внешним поводом к возобновлению диалога…
Красин. Но может оказаться, что мы исчерпали наши резервы и нет возможности отыскать это новое…
Чичерин. Надо дать себе отчет: тогда у нас нет надежд возобновить диалог… Совершенно нет надежд. Это нам надо?
Красин. Нет, разумеется, но это новое не должно стоить нам принципов…
Рудзутак. Все верно: не должно стоить нам принципов…
Я не видел Хвостова целую вечность, но сегодня, когда очередная почта уходила в Москву и в чичерин–ском кабинете начался аврал, Хвостов пришел со связкой пакетов как ни в чем не бывало. Он ответил на мой поклон весьма дружелюбно и выпростал из связки один за другим все пакеты, пододвигая их Георгию Васильевичу.
– Вам не следует беспокоиться, Георгий Васильевич, все будет отослано вовремя, – произнес он, склонившись над, пакетами. – Нет сопроводительного письма? Я все сделаю, для меня это не проблема, как не проблема и для вас, Георгий Васильевич, – в сравнении с вашими бессонными ночами что значит моя одна?
Он принял из рук Чичерина связку с пакетами и вышел, мы остались одни.
– Я думал, что наши отношения с Хвостовым испорчены навсегда, оказывается, нет, – произнес Чичерин, будто бы склоняя меня поддержать его, он был очень заинтересован в том, чтобы я его поддержал. – А знаете, в чем дело? В доброй воле! Добро может победить все… Вы так не думаете?
– Нет, Георгий Васильевич.
– Почему, простите? Разве добро не всесильно?
– Хочу верить, что добро всесильно, хотя не следует умалять и силы зла.
Чичерин выключил свет настольной лампы – он мешал ему думать.
– Это обида?
– Хуже, Георгий Васильевич.
– Злопамятство?
Мне трудно было ответить на его вопрос утвердительно – такой ответ разил прежде всего Чичерина, но, наверно, такой ответ был ближе всего к истине.
– Георгий Васильевич, наверно, зрелость – это способность человека не дать себя обмануть…
Он пододвинул настольную лампу.
– Знаете, я много раз замечал: добро может сшибить и предвзятость, – произнес он, глядя мне прямо в глаза. – Главное не ожесточиться и сохранить способность влиять на человека, зная, что он был к тебе несправедлив. По–моему, у меня есть эта способность…
Я смолчал, но мне и не следовало возражать: у него действительно, как показывали мои наблюдения, была эта способность.
Итак, его поединок с Хвостовым продолжался – как долго он продлится?
Позвонил Маццини:
– Не могу ли я обременить вас беседой, короткой? Кстати, это будет интересно и вам.
Он казался мне в этот вечер напитанным своей удушливой парфюмерией. Мы шли с ним каменистой санта–маргеритской улицей, и сладкий запах одеколона протянулся за ним.
– Отнеситесь к тому, что я скажу вам, с доверием, господин Воропаев, – произнес он, когда над, нами возникла каменная ограда сада; казалось, стена оберегала нас от постороннего взгляда и постороннего слуха. – Вчера на вилле «Альбертис» был Лесли Уркарт, как говорят, был второй раз. Речь шла о последнем письме Чичерина британскому премьеру. Письмо напечатано, и есть возможность сообразовать его содержание с беседой, которая была на вилле…
Стена, вдоль которой мы следовали, как бы вогнулась, образовав подкову, мы стояли сейчас с Маццини внутри этой подковы: казалось, итальянец намеренно привел меня сюда, сейчас стена оберегала нас едва ли не со всех сторон.
– Уркарт все еще считает южноуральские недра своими?
– Да, конечно, взывая к международному праву и к всевышнему. – Указательный перст Маццини был поднят к небу; ограненное каменной стеной, оно было сейчас с овчинку. – Он винит Ллойд Джорджа.
– В чем, синьор Маццини?
– В том, что тот дал большевикам обмануть себя.
– Рапалло, синьор Маццини?
– Мне так кажется.
– Только отказ от Рапалло предполагает продолжение диалога, синьор Маццини?
– Не думаю – при всей своей агрессивности Уркарт реалист.
Но что означает его реализм?
– Признание долга, только признание долга, – ответил Маццини, но с места не тронулся, хотя, по всему, разговор подошел к концу.
Да, синьор Маццини продолжал стоять, точно дожидаясь, когда быстро сгущающиеся сумерки южного вечера заполнят каменный колодец, в который он меня заманил, – как ни масштабен был Лесли Уркарт и дело, которое он представлял, по всему, не он был главной персоной, о которой хотел бы говорить со мной итальянец.
– В Генуе говорят: чем больше у тебя седых волос, тем больше ты должен делать добра.
– По–моему, это желание похвально в любом возрасте, сеньор Маццини, – заметил я и умолк: реплика Маццини, как мне казалось, была бы лишена смысла, если за ней не следовало бы нечто для него необычное.
– Да, но в нашем возрасте это почти обязанность, – возразил он и поднес руку к глазам: как ни сумеречен был свет, он точно мешал ему сейчас. – Синьор Воропаев, мы знаем друг друга не первый год, и, смею думать, я могу быть с вами искренним?
– Конечно, синьор Маццини, – откликнулся я: простая корректность обязывала меня поддержать собеседника.
– Так вот мое слово: дайте понять Марии, что она свободна в своем выборе!
Мне стоило труда не издать вздоха изумления: однако издалека начал этот разговор синьор Маццини!
– Погодите, но я же не говорил ей «нет»…
Он засмеялся. Его смех прозвучал здесь неожиданно громко, поколебав, казалось, и каменные стены.
– Вы должны сказать ей «да».
– Но это как раз и лишит ее той свободы, о которой вы говорите.
Он помрачнел: его не устраивал мой ответ.
– Согласитесь, синьор Воропаев, что испокон веков такой шаг требовал не просто родительского согласия – он требовал благословения. В Генуе говорят: если нужно согласие отца, то оно необходимо на рождение и свадьбу, смерть уже этого согласия не требует.
– Но согласие может быть дано, когда его просят, не правда ли?
– Вы хотите сказать, что Мария такого согласия не просила?
– Нет, разумеется.
– А если попросит? Я молчал.
– Если попросит?
Я пошел прочь из каменного дворика.
– Не в ее характере, синьор Маццини. Он усмехнулся откровенно:
– Значит, не в ее характере?
Было часов одиннадцать, когда Мария вернулась в отель. Едва пожелав мне спокойного сна, она ушла к себе.







