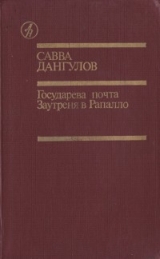
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)
3
Депеша из Парижа шла в Москву кружным путем. О содержании ее дал знать Стокгольм. Москва получила депешу за полночь. Чичерин принимал турецкого представителя (такого рода приемы могли происходить в Наркоминделе и в полночь), и депешу понесли Карахану. Настольная лампа Льва Михайловича напоминала ночник. Она давала ровно столько света, сколько требовалось, чтобы высветить лист документа. Карахан отпустил шифровальщика, принесшего телеграмму, склонился над текстом. Он пододвинул к себе чашку с кофе, который вскипятил на спиртовке, и, пригубив, отстранил – кофе безнадежно остыл. Он укорил себя, что депеша повергла его в столь долгое раздумье, и направился к Чичерину – по расчетам Льва Михайловича, турок уже ушел. После полуночи электростанция заметно прибавляла света, и желтый сумрак, заполнивший коридоры, точно в полнолуние, голубел. Это сообщало шагу уверенность. Было в депеше нечто такое, чего давно ждали в холодных нар–коминдельских хоромах, быть может, признание, а возможно, и готовность к переговорам. По крайней мере, Карахан хотел видеть в депеше и одно, и другое, хотя депеша, как понимал Лев Михайлович, демонстрировала сдержанность.
Кожаная папка, в которую Карахан заключил депешу, была взята с подоконника и берегла студеность вьюжного февраля. Вспомнилась питерская пурга, правда, не февральская, а декабрьская, переходы через торосистую Неву с охранной грамотой Военно–революционного комитета, черные полыньи, вой пурги, движение снежной тучи, застилающей все вокруг и точно ослепляющей тебя… Мудрено попасть с Охты на Черную речку – Карахан шел. Было сознание, ты нашел свою тропу. Да, вот эту, через торосистый лед, в обход черных провалов, через сугробы, скованные твердой наледью… Нашел, нашел!
Видно, турок отбыл давно, раньше, чем думал Карахан. И разговор с турком отступил в небытие. Томик стихов в темном сафьяне был в руках Георгия Васильевича. Так бывало и прежде. Вдруг посреди полуночной страды явится желание снять с полки Баратынского. На верхней полке слева собралась поэтическая библиотечка, как–то сама собой собралась. Неожиданно в промежутке между беседой с американскими сенаторами и сочинением ноты могучему падишаху являлось у Чичерина желание прикоснуться к поэтической строфе. И словно вышел навстречу ветру в родном Карауле, приник к родниковой стыни в лесном овраге – запах холодной травы, вечно живущий в тебе запах боровой земляники, слаще которой, казалось, нет ничего на свете, надо только исхитриться и услышать этот запах, а за ним тотчас явится все детство…
Покуда природу любил он, она
Любовью ему отвечала…
Он увидел Карахана и отложил книгу, отложил не без сожаления.
– Депеша? – кожаная папка в руке Карахана ему сказала все.
– Да.
Он положил депешу на томик стихов, все еще раскрытый. Читал, низко склонившись над машинописным листом, текст депеши завладел им, телеграмма была действительно важной.
– Что будем делать, Лев Михайлович? – спросил Чичерин. С тех пор как Карахан пришел в Наркомин–дел в восемнадцатом году, эта фраза стала дежурной. – Примем в Москве Буллита?
Карахан взглянул на Чичерина, не скрыв озабоченности, его опушенные густыми ресницами яркие глаза/в которых, как на армянских иконах, собралась сама старина, выразили тревогу.
– Надо хорошо подумать, Георгий Васильевич, – произнес он, в его добрый русский ворвались неистребимые краски Тифлиса, правда, едва приметные – Тифлис был городом его детства. – Надо очень хорошо подумать…
– Есть смысл разом отвести все, что для нас неприемлемо, – сказал Чичерин. – Надо выторговать хорошую основу для переговоров… – уточнил он.
– Статус–кво… понятие пространное! – произнес Карахан. Он сказал на свой манер «простра–анное». – Лишить Колчака помощи Антанты – это ведь тоже статус–кво!..
– Верно, лишить Колчака, – отозвался Чичерин и взял телеграмму, серая бумага попала в поле света и стала золотой. – А что думает на этот счет Кремль?.. – сказал Чичерин и снял трубку, не забыв извлечь из жилетного кармана часы; цепь, прикреплявшая часы к жилету, была длинной, часы с открытой крышкой лежали перед Чичериным, секундная стрелка, заметная, крупная, вздрагивая, уже отсчитывала время телефонного разговора. Карахан, шагнувший было к окну, остановился посреди комнаты. – Вот какая депеша только что пришла из Стокгольма, Владимир Ильич…
Собеседник Чичерина, определенно, был полуночником и привык к ночным тирадам Георгия Васильевича. Набрался терпения и слушал не перебивая. А тирада наркома и в самом деле была обстоятельной. Он начал излагать депешу и разом потерял интерес к ней – он воссоздавал не столько депешу, сколько свое понимание текста. Да, союзников, собравшихся в сиятельный Версаль, осенило, и они решили пойти на мировую с Россией. Для начала они отрядили специальную миссию. Ее возглавит некто Вильям Буллит, чиновник госдепартамента, впрочем, более подробно о Буллите позже. Миссия имеет целью установить: как себе мыслят такой мир русские? А это значит обрести ответ на весь круг вопросов. Старые российские долги? Колчак и Деникин – их права? Россия и Запад – судьба посольств, торговля? Весь круг. Если Антанта решилась на посылку подобной миссии, значит, ее намерения к заключению договора небеспочвенны. Так или иначе, а велик ли для нас риск? Может бытьг есть резон принять Буллита? Если мы говорим «да», Буллит выедет в Москву в конце февраля. Значит, ответ за нами? Карахан говорит. «Надо хорошо подумать!» Осторожный Карахан?.. Так я ему сейчас и передам: «Владимир Ильич говорит: «Осторожный Карахан!» Ну что ж, будем думать!.. Готов участвовать!.. Нет, десять утра и для меня не рано! Буду!
Он положил трубку, взглянул на Карахана, который затих в тревожной думе, поместившись в дальнем кресле.
– Как я понимаю, тут две проблемы: российские долги и Колчак с Деникиным… – Георгий Васильевич сдернул с раскрытой книги депешу, пододвинул томик к себе.
Но чувство презрев, он доверил уму;
Вдался в суету изысканий…
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний.
Казалось, все это время он держал в уме недочитанное стихотворение и только теперь нашел время дочитать его.
В десятом часу нарком пошел в Кремль. За ночь Москву завалило снегом. В свете утреннего солнца горы снега были округлы, с густо–синими провалами теней. Медленной и унылой чередой двигались трамваи. У наркоминдельского подъезда дожидались хорошей погоды дровни, бог весть как попавшие сюда еще с вечера. Старик в лаптях и онучах из льняного полотна, хорошо выстиранных, едва ли не праздничных, склонился над санями и подоткнул одеяльце, коротковатое, по виду детское, видно, под одеялом был невелик человечек… Чичерин остановился, намереваясь подойти к мужику в онучах, потом взглянул на завалы снега, предвещавшие трудную дорогу. Снег был развален первыми прохожими, но тропы не утоптались, идти было трудно. Нарком шел и думал: только сила способна заставить уважать себя. Пока Россия была слабой, Антанта молчала. Однако едва Россия эту силу выказала, Антанта обрела дар речи. Чтобы прибавить Антанте желания говорить, Россия не должна быть слабой.
У Троицких ворот он поднес руку к своей каракулевой шапке, приветствуя часового. Человек глубоко штатский, нарком чувствовал себя чуть–чуть военным – к изумлению своих сослуживцев, мог надеть красноармейскую форму, а позднее предпочесть фраку с белоснежной манишкой форму командира Красной Армии и принять в этой форме иностранного посла. Красноармейская гимнастерка была для него символом всеобъемлющим – она как бы знаменовала для него приобщение к армии, ведущей трудную борьбу, а значит, и к революции. Это чувство в нем было сильно – человек стеснительный, нарком мог появиться в красноармейской форме на людях, испытывая гордость, радуясь.
Он вышел из Кремля, когда Александровский сад уже высвободился от тени и снег, тронутый солнцем, опал и точно напитался синью. Он вспомнил крестьянские дровни у Китайгородской стены и мужика в онучах. Было бы повольнее со временем, он бы, пожалуй, заманил мужика к себе, порасспросил, как живет деревня. Беседа непоказная была немалым источником знаний о России, как он помнит, и для отца, Василия Николаевича Чичерина… Взяв правее, нарком полагал, что боковая тропа приведет его к Китайгородской стене, где поутру стояли дровни. Но дровней не было. Только снег берег отчерк полозьев да сенную труху, которую, видно, смел с полога мужик в онучах, собираясь в дорогу. Был повод пожурить себя – не так уж велик путь до стены Китайгородской, как ни мало было времени, не след бы проходить мимо…
Он поднялся к себе и вызвал Карахана. Теперь, когда вопрос был решен, телеграмму в Стокгольм можно было послать и без Льва Михайловича, но у наркома был соблазн поделиться новостью… К тому же нарком взял за правило: все, что ведомо ему, Чичерину, должен знать и его заместитель – не исключено, что завтра он останется вместо наркома и незнание вопроса поставит в трудное положение и одного, и другого.
Пришел Карахан и, украдкой взглянув на Чичерина, встревожился – уж больно пасмурен он, не имеет ли это ненастье отношения к тому, что произошло в Кремле?
– Звонил Веселовский из внешнеторгового ведомства… Говорит: можно по дешевке обмундировать армию, – Карахан снял е полки том Брокгауза. – Какая–то фантастически дешевая распродажа! – он все еще листал Брокгауза, стремясь отыскать расположение места, где назначена распродажа. – Триста тысяч башмаков по сорок лир пара, целая гора фланелевых рубах по двадцать лир каждая и шинели – клад… Десятки тысяч шинелей. И цена, цена… шестьдесят лир каждая шинель! Веселовский говорит: в три раза дешевле номинала!..
– Этот ваш Веселовский – фантазер порядочный, – отозвался Чичерин. – Только подумайте: итальянские шинели да по русским морозам… каково?
– Но ведь армия… голая да босая. Брат у меня в Реввоенсовете республики, так он говорит: крымские да беломорские камни злее пули – посекли ноги в кровь. Истинно, ложись и помирай!.. Босая армия! Не знаю, как шинели, а башмаками есть смысл не пренебречь, Георгий Васильевич…
Карахан вернул Брокгауза на место, они долго молчали.
– Разве только башмаками,
– Нет, этот Веселовский – молодец! Пусть поедет, взглянет!.. – подтвердил Карахан. – Как наш Буллит, Георгий Васильевич?.. Примем его?
– Если депеша уйдет сегодня, в первой декаде марта надо ждать в Петрограде… Да, по всему, это будет первая декада марта, Лев Михайлович… Может получиться, что я не смогу, тогда придется выехать вам.
– Готов, разумеется, но только в крайнем случае.
– Я сказал: если не смогу.
4
Буллит закончил свое слово и умолк, а Сергей потерял покой: миссия! Нет, тут дело не в самоцветах и медвежьих шкурах!.. Бери выше: миссия чрезвычайная!.. Но вот что вызывало сомнения: Буллит и Стеффенс!.. Наверно, смысл, который сообщили миссии те, кто ее инспирировал, должен был открыться при взгляде на Буллита и Стеффенса: кто они? В самом деле, кто? Но вот незадача: взгляд на Буллита и Стеффенса не столько прояснял проблему, сколько делал ее темной. Совершенно темной. То, что можно понять в Буллите, было не очень–то характерным для Стеффенса… Да есть ли в природе два человека, столь непохожих друг на друга, как они? Человечески непохожих, профессионально, самой сутью того, что принято звать симпатиями и антипатиями. И все–таки их усилия были сейчас устремлены к одной цели – миссия. Какой же должна быть эта миссия, чтобы соединить усилия Буллита и Стеффенса? Тут было над чем задуматься… Но верно и иное: как ни различны эти два человека, ответ надо было искать в них, только в них. Если эта миссия государственная, то при чем тут Стеффенс? Если же она, эта миссия, культурная, то Буллит явно должен быть не у дел.
А может, есть смысл на время отвлечься от Буллита и Стеффенса и обратиться к кому–то другому? К кому, например? Быть может, к мистеру Колу? Именно к мистеру Колу: обязательный Кол олицетворял больше, чем кто–либо другой из служащих Изусова, исполнительность. Быть может, в знак признания этих достоинств мистера Кола он был единственным, кого Хозяин переманил из Стамбула вначале в Петербург, а потом в Париж. Подобно Хозяину, а может быть, в подражание ему Кол не выпускал из рук четок – стамбульский атрибут.
– Не увлекла бы вас такая перспектива?.. – произнес Кол, когда в урочные восемь Сергей был в бюро. – В Россию срочно отбывает миссия, состоящая из двух американцев, – он бросил на стол четки, бросил наотмашь, что означало: он взывает ко вниманию, разговор серьезен. – Миссии необходим секретарь, с английским и русским языками, желательно молодой, знающий машинку и стенографию, жалованье – шестьсот долларов в неделю… Возникло ваше имя, мистер Флауэр, – переиначив фамилию Цветова на английский лад, шеф сообщил ей иронический подтекст: флауэр – это еще и цветок. Получалось не очень–то серьезно: не Цветов, а Цветок – господин Цветок.
– Но у меня нет… стенографии, – попытался возразить Сергей.
– Тогда пятьсот пятьдесят долларов в неделю. Итак? – он взял со стола четки, принялся перебирать не торопясь. Он как бы отщипывал бусину от бусины, отщипывал, а Сергей считал секунды: одна, две, три… Когда отщипнул последнюю и четки перешли из одной руки в другую, он спросил. – Ну как?
– Разрешите подумать…
– Пожалуйста, но недолго: ответ завтра в это же время.
Пришли в движение весы: на одной чаше – Дина, на другой – родительский дом в Сокольниках. Шутка ли: Сокольники, Сокольники!..
Зримо встало отчее обиталище в Сокольниках, сейчас занесенное снегом: оранжевый полумрак в окнах, оранжевый от шелкового абажура, мерцающий огонь голландской печки, отец, протянувший руки к огню, и, конечно же, Лариса, сидящая на своей оттоманке, с вязанием в руках. «Где наш Сергуня сейчас? – это сказала она. – Где он?» И отец ответил не задумываясь: «Все это его «Эколь коммерсиаль» с культом Ее величества Прибыли! Отсекли от нас Серегу!» Отца легко было растревожить – ничто не может его остановить, пока он не выскажет всего, что собралось в душе. «Ну, предположим, приедет он в Россию, но что он будет делать у нас?.. Куда он подастся со своей наукой об акциях и акционерах, о частных банках и неоплаченных векселях?.. Это для нас санскрит или древнекельт–ский – попробуй объяснись на нем».
Сергей узнавал отца, внимая горькому пафосу его речи, ее хватающему за душу откровению. У отца был саркастический ум. Все, что он намеревался сказать, вызывало в нем тем большее воодушевление, чем больше горечи было в словах. Его могла остановить только откровенная ирония. «Погоди, да ты мне уже говорил это третьего дня…» – «Каким образом?» – «Говорил, говорил… еще вспомнил этого своего дружка из Российского общества взаимного кредита». Намек на его слабеющую память убивал отца наповал. Но внимание его окрыляло, внимание и еще больше похвала. Слушать его было великим удовольствием. Он любил беседу, в которой присутствовала бы страсть, а такой беседой могла одарить его только молодежь… Его идеал: молодой собеседник, разумеется, строптивый, все опровергающий, одержимый своим пониманием жизни. Клад такой собеседник! Начать спор на заре вечерней и закончить его, когда бледный рассвет позолотит окна, да есть ли большее счастье на свете? Брат Герман как–то писал Сергею: с тех пор как в далекой Самаре предали земле мать, у отца вдруг распухли ноги.
Сергею надо было только вспомнить отца, остальное решалось само собой: он едет.
Он сказал об этом Колу, тот даже не выразил удивления.
– Простите меня, но я это предвидел и еще вчера сообщил о вашем согласии мистеру Буллиту, он просил вас быть в его отеле к одиннадцати.
– Кто он, мистер Буллит?
– Человек, подающий надежды. Без пяти минут посланник. Трудолюбив и обязателен. Кстати, намотайте на ус: представление о вас он составит, имея в виду вашу способность быть в делах предельно точным… У него свой идеал служащего: тот, по кому можно проверять часы.
Екнуло сердце: это уже что–то похожее не столько на человека, сколько на главные часы державы…
Буллит вышел к нему в бархатном жилете, какие носили парижские франты еще в прошлом веке. Сергей заметил, что рукава сорочки были закатаны умело, не заминая манжет.
– Простите, вы меня застали за работой, – произнес он и указал взглядом на пишущую машинку, из которой торчала страничка машинописного текста. – Мистер Кол все уже мне рассказал. Остальное я вам доскажу в дороге… Мы будем в поездке три недели, из них полторы в Москве и Петрограде, с нами поедет Линкольн Стеффенс… – На секунду он как бы расстался с личиной, которую надел на себя, куда делась его чопорность. – Да, тот самый Стеффенс, глава необъявленной партии разгребателей грязи!.. – он улыб» нулся. – Я сказал ему вчера: «Послушайте, Стеф, надо иметь немалое мужество только для того, чтобы назвать себя: разгребатель грязи, разгребатель!..» – он помедлил. – Билет вам заказан еще позавчера, остальное в дороге!
Он стоял сейчас перед Сергеем, оглаживая себя растопыренной пятерней от подмышек до бедер. (Бедра были заметно крупными. Не хочешь, да воздашь должное верному Динкиному глазу: женоподобен!) Каждый раз, когда его пятерня, охватывая торс, съезжала вниз, раздавалось поскрипывание. Звук был деревянным, неживым – не иначе, под жилетом был корсет. Уронив карандаш, он поднял его не без труда, при этом корсет явил такое богатство звуков, будто жилет сокрыл не корсет, а орган – хозяин был строен, но не гибок. Нужен был слух и, пожалуй, глаз, подобный тому, какой был у Цветова, чтобы составить представление о внешних данных молодого американца.
Буллит был высок, но не широк в плечах, у него были большие руки с твердыми ладонями и сильными пальцами, видно, он не пренебрегал гимнастикой – понимал, сколь важны внешние данные для дипломата, умел себя холить. В его облике была видна не столько порода, сколько дородность, чуть купеческая. С возрастом он должен быть массивным, с ощутимо выпирающим брюшком и тем характерным покачиванием в ходьбе при едва заметном горбе и неподвижных руках, которые выдают человека полного. Но сейчас это только–только обозначалось, и в его фигуре, надежно сбитой, было ощущение зрелой силы.
На столе, где стояла пишущая машинка, была аккуратно разложена стопка книг. С тех пор как возникла перспектива поездки, он добыл эти книги, погрузившись в чтение. Цветов сделал попытку приблизиться к столу: какие книги? Стопку венчал том Соловьева, что делало, на взгляд Сергея, Буллиту честь, хотя все еще оставляло в неведении: что увлекало его в русской истории сегодня? Иное дело карта. Ее туго свернутый валик полураскатан: Восточная Россия, Зауралье, Сибирь… Виден след карандаша – линия фронтов. Но вот парадокс, наверно, в нем есть смысл: расположение красных войск заштриховано синим, расположение белых – красным… Точно войска, противостоящие друг другу, поменялись знаменами. Человек, державший в руках цветные карандаши, не выказал ли тут своего отношения к враждующим сторонам? А если этим человеком был Буллит, говорит ли это о чем–то?
Телефонный аппарат, стоящий на столе, прыснул, точно его пощекотали. Буллит, не торопясь, снял трубку. По тому, как американец расправил плечи, заметно выпятив грудь, что было, разумеется, непроизвольно, на той стороне провода сейчас просматривалась важная птица. Как понял Цветов, Буллит должен был сейчас выказать способность координировать силы, возможно, противоположные: важную птицу, которая была для Цветова анонимной, и самого Цветова. Наверно, у Буллита было искушение улестить важную птицу, но присутствие Цветова его сдерживало. Так или иначе, а Буллит был обречен на поддакивание и невразумительное постанывание, что при всех иных обстоятельствах он вряд ли позволил бы себе.
– Простите, но со мной говорили от имени президента! – бросил Буллит важной птице, как могло показаться, теряя терпение.
Последняя фраза была столь эмоциональной, что птица вспорхнула и была такова, разговор оборвался.
Цветов задумался, он должен был остановить свое внимание на двух моментах: карта России с сине–красными пометами и эта фраза о чем–то значительном, что было сказано Буллиту от имени президента. Но эти два момента были так неясны по смыслу и находились друг от друга на таком расстоянии, что видимой связи между ними могло и не быть.
Прежде чем закончился разговор Цветова с Буллитом, американец счел необходимым свести русского со Стеффенсом.
– Предупреждаю, он почти неуловим, – остерег Буллит и, взяв со стола лист бумаги, характерным почерком, где все буквы стояли порознь, как в печатном тексте, начертал координаты Стеффенса. – Ловите его, ловите! Должен признаться, мне это удавалось не часто, может, вам удастся… Но у вас есть преимущество передо мной – к отходу поезда он все равно будет в наших руках!







