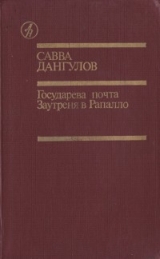
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Литвинов. Пугнуть?
Чичерин. Именно пугнуть… А что? (Деликатный Чичерин не сразу нашел это определение – «пугнуть серою»: перспектива произнести слово, которое может показаться собеседникам грубым, вызывает у него заметное смятение.) Если пугнуть серого справа, он кинется влево, если пугнуть слева, он кинется вправо. (Задумался.) И все–таки Ратенау не столько заяц, сколько…
Литвинов. Ну не волк же он?
Чичерин. Но и не заяц, как мне кажется…
Рудзутак (он до сих пор хранил молчание, внимательно следя за ходом разговора). Тактически всегда Еыгоднее увидеть в противнике… не зайца…
Раздался смех – казалось, формула Рудзутака устраивала всех.
Кажется, берлинская тема не отпускает делегацию и тогда, когда разговоры как будто и завершаются, – пришла пора воспоминаний.
Чичерин, наверно, вспомнил свои встречи с Либкнехтом, вечерние прогулки у черной, в нефтяных разводах воды Шпрее, черной и, казалось, безгласной.
Боровский припомнил свой последний приезд в этот город летом восемнадцатого по дороге из Стокгольма в Москву, ночные вахты в посольском доме на Унтер–ден–Линден, не было времени тревожнее: кайзеровская армия, сломив брестскую запруду, пошла валом на Украину. Впрочем, тогда в Берлине был и Красин – его поездка к Людендорфу относится к этому времени – да не пришла ли ему на память эта аудиенция где–то в старинном бельгийском замке?
Надо отдать должное Леониду Борисовичу, он и прежде не искал обходных путей, предпочитая им удар в лоб. Вот и тот раз: когда старик Сименс, тот самый… «Сименс и Шуккерт», акционерный клан которого в СЕое время сделал Красина представителем в России, как, впрочем, Воровского в Стокгольме, – когда старик Сименс, немало гордясь новым положением своего инженера, спросил, чем бы мог ему быть полезен, Леонид Борисович дал понять, что хотел бы видеть Люден–дорфа. Сименсу стоило труда скрыть изумление: речь шла о встрече едва ли не с самой влиятельной фигурой современной германской истории, с человеком, которого во всеуслышание называли в Германии преемником великого Клаузевица. Если же отринуть сравнение с Клаузевицем, то останется не так мало, ибо Люден–дорф сегодня соединил в своем лице престиж теоретика войны и крупнейшего практика, возглавив действия германских войск на западе и востоке.
Итак, Сименс сделал попытку возразить: да есть ли смысл в такой встрече? Возражая, старик Сименс ни словом не обмолвился насчет того, как трудно встречу организовать, считая, что такое признание невыгодно для самого Сименса. Красин настаивал: есть смысл. Он полагал: надо открыть глаза Людендорфу на перспективы торговых связей с Россией и показать, что военное давление на русских не имеет шансов на успех, оно обречено… Сименс уступил.
И вот штабной автомобиль, взлетая на пологие горы и спускаясь в долины, мчится к бельгийской границе. В автомобиле, кроме военного шофера, двое: Красин и человек, которого Сименс облек привилегией своего представителя. Красин верит в добрую волю Сименса, как, впрочем, должен верить в добрую волю человека, сидящего рядом, – не хочется думать, чтобы Сименс отрядил с Красиным недруга.
Пошли места, известные по фронтовым сводкам, – точно дохнула на тебя сама тревога: Льеж, Мобеж, Спа… И вдруг холодная хвоя Арденн, хранящая влагу прошедшего дождя, тем более темно–зеленая в сравнении с белыми стенами замка… Из окон замка видны макушки сосен, мягкоокруглых, похожих на всхолмленное море. Людендорф сидит в кресле, стоящем посреди комнаты, в самой позиции генерала не очень–то много уважения к гостям. Кресло поддалось под тяжестью тела, как бы вытолкнув ноги с крепкими коленями. Людендорф охватил колени, точно приготовившись к прыжку, – фигура напряжена, но, странное дело, эта поза не утомляет генерала, ему удобна эта поза.
Красин говорит, а генерал слушает, как с немалым вниманием обратился в прилежного слушателя и доверенный Сименса. Красин говорит, что германская армия не считается с духом и буквой Брестского договора, полагая, что договор не для нее писан. Она ведет себя так, будто бы демаркационная линия, установленная договором, для нее необязательна. Не ясно ли, что это не способствует политике взаимного доверия, которая установлена договором и которая могла быть выгодна и немцам, в частности в сфере торговли.
Красин, скосив глаза, мог рассмотреть письменный стол генерала. На просторной плоскости стола, укрытой новым сукном, лежал толстый фолиант в клеенчатом переплете – Шлиффен, Мольтке, Клаузевиц? – и рядом стопка нелинованной бумаги, приятно–кремовой, аппетитной, при этом верхний лист был наполовину исписан ровным, однако с заметным нажимом почерком генерала, как писали те, кто учился письму в прошлом веке, буквы, естественно, были готические, – стол ученого, быть может, военного писателя. Над столом возвышался книжный шкаф, стекло которого было тщательно задраено синим шелком, заметно гофрированным, – генерал скрывал от внешнего глаза книги, которыми были заполнены полки, быть может, он стыдился своей учености.
Красин, подняв глаза, видит, как время от времени подскакивают колени Людендорфа и откровенная ирония кривит губы генерала. Казалось, руки генерала для: того и сжимают колени, чтобы ноги не так пружинили и не подскакивали. Вид Людендорфа не сулит ничего доброго русскому гостю, но вот генерал разомкнул уста – и впечатление оказалось неожиданно иным. Можно подумать, что Людендорфу был приятен немецкий Красина, его произношение, как и сама манера, в какой русский высказал тут свое мнение. Но радушия Людендорфа хватило только на эту первую фразу. Генерал встал, и Красин вдруг услышал музыку генеральских сапог. Молодой хром, звонкозвучный, обрел силу органа. Ему вторили подошвы, их густые басы, – бычья кожа, для твердости укатанная и наспиртованная, не иначе явила голос самого животного, подарившего подошвы генеральским сапогам. Одним словом, генерал шагал по кабинету, избрав для этой цели самую длинную дорожку, и оркестр следовал за доблестным воякой, вздувая мехи и гремя литаврами.
То, что говорил генерал, было под стать голосу, который вышиб его спорый шаг. Русские вынуждают немецкую армию вести себя так, как она себя ведет. На что русские надеются, на кого? Русские должны уразуметь: ему, Людендорфу, достаточно взять вот этот лист бумаги и написать… Его рука ткнула в основание стопки, лежащей на столе, стопка сдвинулась, рассыпавшись веером, застлав стол, – он пошел дальше, победно гремя сапогами. Ему, Людендорфу, достаточно взять лист бумаги и написать, чтобы русские еще раз запросили мира. Генерал обернулся к сименсовскому директору, прося его подтвердить сказанное, но, странное дело, тот ухмыльнулся откровенно скептически, да, взял и ухмыльнулся безбоязненно.
Людендорф не ожидал такого. Он вернулся в свое кресло, и вновь с неубывающей силой подскочила его нога… У немецкой стороны нет оснований противиться заключению договора по коммерческим вопросам. Если же деловые люди так заинтересованы в торговле с Россией, то он, Людендорф, не склонен возражать – сейчас генерал обращался не столько к Красину, сколько к своему соотечественнику… Незримая сила вновь вытолкнула генерала из кресла, и вновь, как это было несколько минут назад, спорый Людендорфов шаг родил нечто похожее на маршевую мелодию. Генерал шагал. «На что надеются русские, на кого?» – точно продолжал вопрошать генерал.
А Красин слушал генерала и смотрел на его письменный стол, на котором дремал многомудрый том в старой клеенке. Генерал и в самом деле стыдился своей учености, ему она была сейчас ни к чему. На столе, брошенные неосторожной генеральской рукой, лежали рассыпанные страницы, конечно же, генерал не преувеличивал, когда говорил, что ему достаточно написать несколько строк, чтобы на Россию обрушилось новое немецкое наступление…
Наверно, вот это впечатление господствовало над всем остальным, когда штабной автомобиль вез Красина из ставки Людендорфа в Берлин. Что говорить, все произнесенное Людендорфом не было фразой. История знала, что немецкий генералитет, развязывая войну, и прежде не очень–то обременял себя раздумьями: часто решающим оказывался повод к войне, а не первопричина…
Повод?
Вот он и повод: депеша из Москвы – убит германский посол Мирбах.
Разве это не повод, всесильный, которого ждал Людендорф в своей белостенной обители? Быть может, те несколько строк о наступлении, которые он грозился начертать, рассыпав по столу стопку кремовых листов, теперь будут начертаны?
Из Москвы пришла вторая телеграмма: к Чичерину явился Рицлер, отныне исполняющий обязанности посла, и предъявил в некотором роде ультиматум: немцы хотели бы ввести войска в Москву. Страдный июль побратался с февралем: вот так же было полгода назад, когда немецкие войска двинулись на Петроград. И подобно тому как это было в ту пору, берлинская пресса пошла на приступ революционной России, требуя новых уступок. Правда, в этот раз пресса была не так монолитна. Это видел Красин, Смысл его телеграммы: на требования Рицлера отвечать отказом, категорическим отказом, осторожно и твердо отводить требования Рицлера, не соглашаться.
Если Людендорф решит продолжить диалог, начатый в арденнском замке, то Красин, пожалуй, готов и на это. В тот раз почтенный представитель Сименса корректировал генерала иронической улыбкой, всего лишь улыбкой, и возвратил генерала на исходные позиции. Сколь ни красноречиво молчание делового немца, быть может, теперь он разомкнет уста? Красин призвал его высказаться. И не только его, а мир своих друзей. Всех, чей голос мог быть услышан. Заводчиков и крупных чиновников, адвокатов и газетчиков, финансистов и ученых, университетских профессоров, издателей, дипломатов, деятелей церкви. Наверно, Красин действовал не один, но и один он мог сделать немало, отказавшись от сна, объявив многодневную вахту, склонив на свою сторону часть прессы. Если в этом диалоге прямо или косвенно Красину противостоял Людендорф, то можно сказать, что диалог закончился поражением генерала: требование о вводе немецких войск в Москву было отозвано.
Когда поезд подошел к берлинскому вокзалу, наше внимание привлекли господа в цилиндрах: не иначе, германское министерство иностранных дел сымпровизировало официальную встречу. Все остальное было выдержано в том же стиле: солидные «мерседесы» у главного вокзального подъезда, полицейские в парадной форме на перекрестках, толпы берлинцев на Ун–тер–ден-Линден, явно ожидающие проезда гостей из Москвы.
Русская делегация прибыла в Берлин в субботу, но в министерстве иностранных дел никаких признаков предпраздничного дня: видно, деловые немцы готовы были работать так, как будто бы в текущей неделе красный листок календаря потерялся, – расписание встреч, составленное министерским протоколом, подтверждало это. Можно подумать, что у немцев свои виды на эти четыре дня, как, по всему, свои немалые соображения были и у русских. Формула русских «достаточно отколоть одну страну, чтобы дрогнул весь фронт» могла получить в Берлине действенное воплощение. Если явиться в Геную, имея в ранце договор с Германией, закрепивший отказ от взаимных претензий, в какое положение это поставит Антанту? Истинно четыре дня в Берлине могут сделать погоду в Генуе: хочешь нарушить монолитность Запада – склони на свою сторону Германию. Кстати, это небесперспективно: если есть страны, которые пострадали от деспотии Запада, то это Россия и Германия. Поэтому тут своя основа для взаимопонимания, как свой веский повод для солидарности.
Уго фон Мальцану не просто совладать с глазами: каждый раз, когда он обращает их на Чичерина, всматриваясь, они разъезжаются. В такую минуту он выдвигает мизинец и принимается приминать им темный шнурок усов.
Визит к Мальцану первый в ряду тех, которые обещают быть в Берлине, поэтому в нем, в этом визите, есть протокольное начало. У Красина с Воровским свой план визитов, не столь официальный, свободный от протокола.
Георгий Васильевич просит меня быть рядом с ним.
Мальцан принимает нас в своем кабинете на Виль–гельмштрассе. В многосложном спектре современной германской политики у Мальцана свои цвета, точно обозначенные. Они отождествляются с линией германской политики, полагающей, что Запад надо держать в повиновении, грозя ему договором с Востоком, который может быть, на худой случай, и не заключен. У Мальцана есть антагонисты – Ратенау первый из них. Нынешний германский канцлер фон Вирт как бы занял позицию между Ратенау и Мальцаном. Канцлер точно возгласил: «Вот я и моя сиятельная особа – боритесь за нее. Завтрашний день германской внешней политики полностью зависит от того, кто возьмет верх в этой борьбе». Но все это завтра, а сегодня Уго фон
Малыдан принимает русского министра иностранных дел в своем кабинете на Вильгельмштрассе. Его диалог с министром имеет целью установить единственное: что ждут русские от договора с Германией, если немцы на такой договор пойдут?
Чичерин вошел в кабинет фон Мальцана и, взглянув на хозяина, подивился мягкой смуглости, которая одела его лицо, как коричнево–бронзовым сделался вице–директор мальцановского департамента, минуту назад ярко–рыжий: здесь было царство орехового дерева. Нет, не только письменный стол, похожий на ладью, и кресла, слепленные по образу коротконосых лодчонок, не только фронт книжных шкафов, а вслед за ними двери и панели, но и рогатая люстра, чем–то схожая со шлемом пса–рыцаря, громоздкая чернильница, темной кольчугой укрывшая половину стола, светильник, который отдаленно напоминал забрало, пресс–папье на столе, подставка для бумаг, пепельница, стакан для ручек, сами ручки… Судя по блеску, которым отливал знатный орех, запаху лака и дыханию свежеоструганного дерева, все было завидно новым, будто только что явившимся из–под рубанка столяра–мебельщика, еще хранящим тепло, вызванное соприкосновением металла и дерева. Но царство сановного ореха, в котором оказались русские, способно было вызвать мысли неожиданные: удивительна способность немцев встать на ноги. В конце концов, мальцановский кабинет призван демонстрировать иностранцу именно это, иного смысла тут нет.
– Вы полагаете, что Германия может рассчитывать на понимание Антанты? – спросил Чичерин, когда кресла были придвинуты к камину и оттуда совсем по–лесному пахнуло солоноватым дымком – пирамида дров вот–вот грозилась взяться.
– Нет, я в это не верю, как не верю, что на это понимание может рассчитывать Россия, – ответствовал немец и, указав взглядом на кресло, выждал, пока в него опустился Чичерин. – Если сказать – «друзья по несчастью», это будет верно, – добавил он по–русски.
– Значит, друзья по несчастью? – Чичерин поднял руки, обратив ладони к огню, точно защищаясь, – отблеск огня, вспыхнув, сбросил дымную пелену и коснулся ладоней, они пламенели. – Нам надо исходить в своих действиях из этой истины: беда нас может сблизить?
– А вы полагаете, что эта истина не очевидна и мы ее можем игнорировать? – спросил Мальцан, вернувшись тотчас к немецкому – ему было удобнее нападать с помощью немецкого,
– Если говорить о вас, господин фон Мальцан, то я не думаю, чтобы это было так, – заметил Чичерин почти кротко; дрова, горящие в камине, были не очень сухи, и пламя было дымным, каждый раз, когда задувал ьетер, дым точно полонил беседующих – была иллюзия, что кресла–лодки вплывают в это безбрежье. – Нет, действительно вас это не касается, – продолжил Чичерин с мягкой укоризной – его терпимость обезоруживала.
Коли не касается меня, то должна касаться кого–то другого, – произнес немец, прочно предав забвению знание немецкого – он отступал.
Мое кресло отодвинуто в глубину кабинета, и свет камина едва добирается до меня – уйдя в тень, я обретаю некие преимущества: я есть и меня нет.
– Господин Ратенау, надеюсь, будет на приеме у канцлера Вирта? – Чичерин оглядел комнату: огонь, до сих пор лежащий в пределах камина, выплеснулся на стены – орех точно полыхнул несильным, но устойчивым пламенем, и сами разводы дерева, с правильной ритмичностью прослоившие его, воспринимались как движение дыма. – Господин Ратенау… предполагает быть?
Имя министра иностранных дел было названо в опасной близости от чичеринской фразы, гласящей, что в русских делах у Мальцана могут быть и антагонисты, – хочешь не хочешь, но подумаешь, что к этой политике может иметь отношение и германский министр иностранных дел.
– Полагаю, что будет, – подтвердил Мальцан без энтузиазма: Чичерин явно заботился о некоем кворуме, без кворума главной проблемы не решить. – Впрочем, господин Ратенау может быть и завтра вечером у господина Дейча, – добавил Мальцан поспешно: он понимал, что ответственный разговор у Вирта будет тем успешнее, чем большая подготовка этому разговору предшествует. – Господин Воропаев, мне сказали, что с вами дочь? – вдруг обратился немец ко мне. – Покажите ей Пергам…
Я знал, Дейч – крупный делец, для которого торговля с русскими – немалая статья дохода.
Вечером я вышел из гостиницы. Затененная голыми кронами лип, лежала Унтер–ден–Линден. Был всего лишь одиннадцатый час, а город выглядел пустынным – Берлин засыпает рано даже в субботний вечер.
И в сознание вошел голос Георгия Васильевича – нет, не просто было оборвать этот диалог…
– Не ясно ли, что в этой встрече с Мальцаном спроецировалась Генуя, все ее страдные недели, а может, и месяцы, не так ли? – услышал я голос Чичерина. – Не люблю парадоксов, но тут действует именно парадокс: для нашей делегации Германия будет в Генуе в своем роде тылом…
– Ну, это уж совсем непонятно, Георгий Васильевич! – возражаю я ему. – Каким образом Германия может стать тылом?
– Да, именно тылом, дающим возможность маневра! – воодушевленно подтверждает он. – Нет, нет, вы послушайте, я вам сейчас докажу: Антанта понимает, что нам не под силу уплата долгов. Слышите: понимает, не может не понять. Но такова уж природа капитала: это не умерит ее аппетита, а увеличит его. Логика тут для них естественная: отказываются платить, тогда пусть жертвуют суверенностью своей первородины… Лесли Уркарт ждет этой минуты.
– Вы почти предрекли… провал Генуи? – вопросил я.
– Ни в коем случае! – возразил он. – Я же сказал, что есть страна, которая способна быть тылом, дающим возможность маневра…
– Значит, по–купечески – ты мне сукна, я тебе меду и пеньки, как во времена Ганзы?
…Я достиг Бранденбургских ворот, взглянул направо – в сполохах полуночного неба тяжело просвечивали громоздкие формы рейхстага, что–то тевтонское, навечно сумеречное было в его облике.
«Как во времена Ганзы, – вторила мне память, казалось, против воли моей, – как во времена Ганзы».
В первый день нашего путешествия я заметил: у Красина и Воровского практически нет свободной минуты, а если она образуется, они отдают ее беседе, в смысл которой мне, например, проникнуть трудно.
Едва такая беседа возникает, на стол ложится лист бумаги, который под быстрым красинским карандашом мгновенно превращается в карту. Собственно, с картой красинский рисунок сближает кровеносная система рек, которую Леонид Борисович рисует по памяти с уверенной точностью. Не надо быть знатоком отечественной географии, чтобы опознать характерные рогатинки Оскола, разветвления Северского Донца и Ко–рочи… Но тут уже не делает секрета сам Красин – города, которые он называет, действительно легли в междуречье Северского Донца, Оскола, Сейма, Валца, да и других рек, сам характерный извив которых точно свидетельствует, что это реки спокойно текущие, равнинные. Однако какие места припомнил Красин? Ну конечно ж, тургеневские Льгов и Щигры, как и более южные Обоянь, Ржаву, Корочу, Новый Оскол и даже Белгород, которым южный предел карты завершается. Но с новым движением карандаша на рисунке возникает нечто такое, что хочется назвать одушевленным. С севера на юг, возобладав над Донцом и Сеймом, на карту легли некие существа, напоминающие земляных червей, сейчас не столько быстрый, сколько обстоятельно–неторопливый красинский карандаш изобразил их мягкий извив, ощутимо утолщив и тщательно заштриховав. Но в красинских комментариях нет и намека на странных беспозвоночных, даже наоборот – разговор смещен в сферу совершенно иную.
– Магнитная стрелка… Вертикальная ось… Вектор напряженности… – Красин воодушевлен, его голос хранит это волнение, откровенное волнение. – Докембрий–ские отложения… Кварциты… Железистые кварциты…
– Значит, железистые кварциты… Двести миллиардов тонн?
Это спросил Рудзутак, тревога Красина не обошла и его.
– Можно допустить, что и двести, – отвечает Боровский, подняв на Рудзутака веселые глаза.
– Двести? – не может скрыть своего изумления Рудзутак.
Все понятно: внимание Красина приковала проблема магнитного Курска, проблема для нашего представления о богатствах, таящихся в недрах русской земли, фантастическая: двести миллиардов, которые со свойственной ему веселой бравадой назвал Боровский, это, конечно, цифра едва ли земная, но применительно к Курску, пожалуй, земная… Ну, разумеется, не просто связать интерес к Курску с прибытием в Берлин, но проницательный Красин связал, как свои ассоциации установил с Берлином и Воровский.
Если говорить строго, то Курск имеет косвенное отношение, к профессиональным интересам Красина. Красин – инженер–электрик не только по образованию, но и по опыту работы. Петербургский технологический, а затем Харьковский приобщили его к тому большому, что условно можно было назвать проблемой электрической революции, как эта проблема рисовалась людям науки в самом начале века. Именно электрической революции: в том, с какой широтой и основательностью электричество преобразовывало мир, была могучесть и новизна революции. Красину была симпатична эта формула: электрическая революция. В ней, в этой формуле, соединились самые большие начала его жизненного опыта – революция и электричество, начала, разумеется, не равнозначные, но насущные вполне. Но вот что существенно: круг его друзей нередко подбирался по признаку, который был тут обязателен, – были подданными революции и, пожалуй, чуть–чуть электричества.
Один из них – Воровский. Правда, он не строил вместе с Красиным электростанций в бакинском пригороде Баилове, не электрифицировал Петербург, не возводил тепловые станции в Германии, но был давним товарищем Леонида Борисовича по партии, как и коллегой по инженерным устремлениям и интересам. За большим дачным столом красинского дома в Павловске, где подчас собирались петербургские инженеры, друзья видели и Воровского – на этих вечерах, зарекшись, гости не говорили на инженерные темы, что не столько обескураживало, сколько окрыляло Вацлава Вацлавовича, ибо давало простор его литературным интересам. Однако человек, всем благам предпочитающий сдержанность, он не очень–то злоупотреблял правами. Но свою власть, почти абсолютную, Воровский использовал на этих вечерах своеобразно: он читал не столько себя, сколько Чехова, читал артистически. Сходство, которое было у Вацлава Вацлавовича с писателем, помогало чтению: казалось, читает сам Чехонте.
Но когда друзья оставались одни, беседа касалась и инженерных тем, при этом и стратегических: тоннель через Кавказский хребет, сокращающий связь России с Закавказьем, железнодорожные пути из Сибири в Новый Свет, или, как сейчас, освоение Курской магнитной аномалии. Реализации этих проектов необходима была самая малость: революция. Друзья не теряли надежды, что она не за горами. По крайней мере их мечты о техническом преобразовании России были той дополнительной энергией, которая мечту о революции приближала.
Но способность Красина к стратегическому мышлению была ценима не только его русскими друзьями, о даре сибиряка–россиянина знали и в Европе. Этому немало способствовал старик Сименс – красинские идеи технического переустройства фирмы во многом способствовали успеху «Сименса и Шуккерта». Когда совершилась революция и Красин занял свое высокое положение в штабе экономического обновления России, в Германии это было объяснено своеобразно: старик Сименс переуступил своего первого советника Ленину. Формула была именно такой – «переуступил», не исключено, что ее автором был сам старик Сименс: формула косвенно превозносила фирму. Но и Красин не был простаком, обратив свои немецкие связи на пользу революции. Когда Красин появлялся в Берлине, встреча с магнатами угля и стали, самыми крупными, для него не была проблемой. Последняя из этих встреч была в прошлом году в отеле «Эксельсиор» – там был весь цвет немецкого делового мира, правда представленный не столько хозяевами, сколько директорами. Но Красин, верный правилу говорить только с первыми, повернул дело так, чтобы встреча в «Эксельсиоре» стала серьезной прелюдией к встрече с Сименсом, Дейчем, Гугенмейстером. Он полагал, что встреча в «Эксельсиоре» не паритетна – то, что может сказать хозяевам фирмы он, Красин, может сказать только он.
Не позволит ли нынешний приезд в Берлин возобновить эти встречи? А если позволит, быть может, свое место займет и земная фантастика Курска? Интерес к этой фантастике в Европе непреходящ: в конце века француз–магнитолог Муро исследовал залежи руды и был потрясен обнаруженным. Едва ли не через двадцать лет прошел своей осторожной тропой немец Шварц, прошел, тщательно фиксируя виденное, и, онемев от изумления, уехал в Германию, бережно унося и свою немоту, восхищенную немоту. Едва добравшись до отчих пределов, многомудрый немец испустил дух – казалось, сама его кончина явилась следствием изумления, которое обременило сердце ученого германца, обременило и обрекло.
Нельзя сказать, что смерть немца смирила интерес к курской фантастике, скорее она пробудила этот интерес. Не исключено, что Курск своеобразно заявит о себе и в Берлине и в Генуе.
– Сказать «новый Рур» – не все сказать, – заметил Рудзутак.
– Далеко не все, – согласился Леонид Борисович, – Курск много мощнее, да и иной по своему существу: железная руда, железная… – Красин вступился за Курск с видимой страстью.
Утром мы увидели Новую Ганзу во всем ее блеске – Красин повлек всех к Феликсу Дейчу.
Завтрак был сервирован с грубоватым изяществом, чуть бюргерским: красная и белая рыба в ярко–зеленом окладе салата великолепно смотрелась на желтых керамических тарелках. С немецкой правильностью винная батарея была выстроена едва ли не по ранжиру, но главенствовало рейнское белое – ему отдали предпочтение и русские, при этом отнюдь не только потому, что были в этом доме гостями.
Послетрапезный час гости провели в библиотеке – расчетливый Дейч знал, куда повлечь Чичерина.
Хозяин показал свои дива: томик Гёте и фолиант Вольтера с автографами авторов, а потом как по команде появилась серия книг, исследующих доблести Ганзы и ганзейцев, – не было более действенного средства приблизить разговор к насущному, чем прикосновение к этим пыльным фолиантам, крытым телячьей кожей, желто–молочной, залитой воском и маслом, ссохшейся, в трещинах.
– Урок бессмертной Ганзы: ничто так не гасит огонь войны, как взаимный интерес, а следовательно, торговля.
– У купцов – хорошая память? – засмеялся Чичерин, в его реплике, как обычно, начисто отсутствовало категорическое – с ним легко было говорить.
– Именно, – подхватил деятельный Дейч. – В наших отношениях со славянским миром был свой золотой век: Ганза… – Он задумался: не иначе, его мысль зашла так далеко, что порядочно смутила и его. – Как у всех крупных явлений в истории, конец Ганзы неоднозначен: одни говорят, что ее сокрушили внутренние распри, другие – деспоты…
– Деспоты?
– Именно. Грозный, например… – Казалось, он и сам был изумлен, что у жизнелюбивой темы оказался такой конец.
– У немцев были свои деспоты, кстати, в их возвышении участвовали и купцы… – заметил Чичерин.
– И могут быть еще, при этом возникнут не без участия купцов, – согласился Дейч – можно подумать, что он вел разговор, чтобы утвердить эту истину: могут быть еще.
Он продолжал держать на своих раскрытых ладонях фолиант в телячьей коже: получалось, что из старинной книги он извлек эту мрачную истину о деспотах, которых вызвали к жизни и купцы.
– Но как предупредить появление деспота? – Он все еще смотрел в раскрытую книгу, точно стремясь найти в ней ответ и на этот вопрос. – Немцы считают: сила в предпочтении. Англичане наоборот: в отсутствии предпочтения.
– Вы сторонник английской точки зрения? – спросил Чичерин – хозяин сместил разговор в такую сферу, где, как он полагал, хранились ответы на все вопросы.
– Нет, разумеется, но у нас есть сторонники и этого мнения.
– Их много, этих сторонников?
– Они есть, – ответил Дейч.
Выходит, что мы пришли к Дейчу, чтобы познать мнение Мальцана и Ратенау. Очевидно, Мальцан за Ганзу, а следовательно, за предпочтение торговать с русскими, Ратенау – за то, чтобы ни одной из сторон не давать привилегии, а по существу за Антанту, за право иметь дело с англичанами, если быть точными, за преимущество иметь дело с англичанами.
Был смысл повстречать Феликса Дейча – иначе явишься к Иозефу Вирту обезоруженным.
И вновь сумеречная Унтер–ден–Линден. Невысокое небо, подсвеченное нещедрым светом уличных фонарей. Округлые купола соборов, украшенных громоздкой лепниной. Шуршание автомобильных шин по мокрому камню мостовых, сполохи фар, в ярко–желтом свечении которьтх прорвалась тревога.
– Не показалось ли вам, что немцы избегают ответа, который бы мог быть понят как обещание? – спросил Чичерин, когда мы вернулись от Дейча.
– Пожалуй, но чем это объяснить? Страх перед Антантой – в своем роде разновидность недуга, от него не просто отрешиться…
– А может, это всего лишь расчет: если сказать определенное слово, то только в Генуе, не так ли? – спросил Чичерин, он любил рассмотреть предмет с разных сторон, отыскивая его новые грани.
– Все оставлено на решение Вирта – вот ответ! – вырвалось у меня. – Конечно же, коллегия советников, но решающее слово не у них: ведь бывало и так, что сонм советников отступал перед мнением канцлера… Канцлер, только он… Даже интересно, в какой мере Вирт отождествит это мнение и возможно ли это мнение распознать при взгляде на человека…
– Ну что ж, пришло время графологов и физиономистов, – засмеялся Чичерин. – Какой он, аноним Вирт?
Но все получилось сложнее, чем можно было предполагать. Вирт был торжествен и малоречив, заметно избегая разговора по существу. Он защищался этой торжественностью. Он вышел навстречу Чичерину и, обменявшись с ним рукопожатием, как бы охватил поднятой рукой просторы кабинета. Жест означал: гость вправе выбрать любое место, любое… Но за столь щедрым жестом почти ничего не последовало: канцлер был улыбчив, тих и нем. Он явно избегал сказать русским больше, чем начертал себе заранее. И, следуя канцлеру, так же тих, улыбчив и безгласен был Ратенау. Это был заговор улыбок, чуть печальных и, по всему, не очень искренних. Улыбки казались заученными, нотная грамота улыбок. Единственно кто не воспринял этой грамоты улыбок, был Мальцан – вряд ли происходящее было для него неожиданным, но смятение коснулось и его, смятение, которое он не хотел скрывать и от русских.







