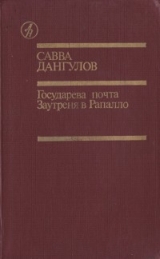
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 38 страниц)
5
Цветов не стал ловить Стеффенса, надеясь встретить того уже в поезде, так оно и получилось. К счастью, Стефу удалось подрядить носильщика, обладающего завидным ростом, и тот сумел подать саквояж американца в окно, когда паровоз, готовясь к отходу, уже грозно шикнул и выстлал перрон облаком пара. Тревога была напрасной. До отхода поезда оставалась такая бездна времени, что Стеффенс успел еще высунуться из окна, в которое он только что принял саквояж, и помахать девушке с красной лентой в волосах, оказавшейся, как потом выяснилось, подружкой молодого русского. Итак, если гора не идет к Магомету, то Магомет, определенно, должен подойти к горе: Стеффенс был в поезде, идущем в Россию, и пути возвращения в Париж были для него отодвинуты на добрых три недели, предусмотренных железным планом Буллита.
– Рад встрече с вами, мистер Флауэр! – произнес Стеффенс, появляясь в купе Сергея. Ну, о таком молодой русский не мог и мечтать: собственной персоной явился к Цветову. – Рад встрече, мистер Флауэр! – подтвердил американец. – Не удивляйтесь, что я знаю ваше английское имя – мне сообщили его ваши коллеги с авеню д'Обсерватуар, – он поблагодарил за приглашение сесть, продолжая стоять. – Значит, едем в Россию? Прекрасно! А знаете, у меня тут даже есть некое преимущество – был в России летом семнадцатого года… Да, и не просто в России, а в Петрограде. И не просто в Петрограде, а перед дворцом Кшесин–ской!.. Вы скажете: «Мюнхгаузен – Стеффенс!.. Одно слово, Мюнхгаузен!.. От тебя всего молено ожидать. Вот ты сейчас начнешь утверждать, что, стоя перед дворцом Кшесинской, слушал Ленина…» Так вот я вам могу сказать, мистер Флауэр: действительно стоял перед дворцом Кшесинской и слушал Ленина!
Откуда взялось у Сергея любопытство, жаркое любопытство, с которым он сейчас рассматривал американца? Стеффенс был невелик ростом, с живыми, полными веселого огня глазами, с острой каштановой бородкой, уже пересыпанной сединой, с коротко остриженными волосами. Его очки в тонкой, будто бы проволочной оправе и такие же тонкие дужки очков, тщательно заправленные за крупные уши (не музыкален ли он?), делали его похожим на дирижера церковного хора. Как все малорослые, он чуть–чуть важничал, очевидно, этому же служила его манера курить – затянувшись, он не без изящества выпускал дым изо рта и далеко отводил руку.
– Но вот что удивительно, я же не знаю русского языка! – произнес Стеффенс так, будто это открытие сделал только что. – Ровным счетом не знаю!.. Спрашивается, каким образом я нашел дорогу к тому единственному месту, где в этот момент выступал вождь революции? – он смешно смежил веки – увеличенные стеклами очков глаза были как бы не по лицу…
Это действительно было необычно: Стеффенс стоял так близко, что при усилии мог рассмотреть блеск глаз Ленина, движение его губ, розоватость ладоней, когда, отняв руки от перил балкона, Ленин вздымал их, как бы предостерегая слушателей и защищая их; он даже заметил приятную смуглость лица, в это знойное и для Питера лето семнадцатого года. Ленин, как говорили, был где–то в пригороде и мог не поспеть к событиям, но он поспел.
– Я слушал его речь и, казалось, понимал. Конечно, истинное значение того, что происходило в этот июльский день, я понял позже, но и тогда я постигал драматизм происходящего. Нас разделяло расстояние чуть большее, чем между мною и вами, я видел человека, который завтра будет объявлен вне закона, что равносильно призыву к казни без суда и следствия… Но то будет завтра, а сейчас люди, заполнившие площадь, повторяли вслед за ним: «Вся власть Советам!» И я кричал громче всех: «Советам, Советам!»
Дверь в купе оставалась полуоткрытой – в дверях стоял Буллит.
– И вы кричали, Стеф, вслед за всеми… «Советам»? – с нарочитой медлительностью произнес Буллит.
– Ну разумеется, кричал, при этом громче всех! – Стеффенс был невозмутим.
Буллит смотрел на Стеффенса, не скрывая недоумения: непонятно было, какой смысл вкладывает в эти слова Стеффенс, всерьез он говорит или шутит?
– Если бы вы сказали мне об этом в Париже, я бы подумал, брать вас в Россию или повременить, – произнес Буллит без тени иронии.
– Ну, полноте, шеф (видно, с некоторого времени он принял в отношениях с Буллитом это полуироническое «шеф»), полноте, кто не повторял всего этого в России в июле семнадцатого года? Да я и не такое способен сказать… Хотите, скажу?
– Не надо, – произнес Буллит едва слышно и вернулся в свое купе.
В нелегкое раздумье повергли американцы русского. Что это была за миссия, если два ее делегата стояли на столь противоположных полюсах? Хотел Сергей или нет, но он должен был себе сказать: впечатление, что миссия Буллита в Москву – это своеобразный дуэт Буллита и Стеффенса, решительно не соответствовало тому, что видел сейчас Цветов.
У миссии есть и третье лицо, при этом в полной мере правомочное, хотя и теневое: капитан Птит. Россию он знает по ее двум многосложным годам: шестнадцатому и семнадцатому Именно многосложным: самые тяжкие поражения в войне, как и падение царствующего дома, на его памяти. Какое амплуа было у капитана в России? Судя по широкому диапазону сведений, которые он поднакопил там, всесильное осве–домительство. Собственно, это же амплуа у капитана и сегодня. У миссии, как можно догадаться, две задачи: Буллита и капитана Птита. Из первой задачи не делается секрета, не должно делаться секрета, по крайней мере, для официальных русских. Вторая за семью печатями для всех русских. Но капитан Птит не в такой мере безвестен в России, чтобы не проникнуть в суть его обязанностей… У Буллита со Стеффен–сом отношение к нему чуть–чуть ироническое. Французское «петит», а возможно, «птит» (предки деятельного капитана явно происходят из Франции) Стеффенс переделал на английское «Литтл». Назвать капитана Маленьким даже симпатично. «Как там наш Маленький?» – словно бы спрашивает коллег Стеф. К тому же Маленький на то и маленький, что его можно, например, забыть. Может, поэтому, едва явившись в Петроград, не станет ли он молить главу миссии: «Ради бога, забудьте меня в Петрограде на ту неделю, какую вы предполагаете пробыть в Москве… В просьбе капитана будет свой резон: ехать с миссией, значит, быть на глазах, оторваться от миссии – все равно что уйти в тень. А тень, как можно догадаться, стихия капитана Птита, он в тени лучше себя чувствует, чем на свету. «Ну что вам стоит? Возьмите и забудьте».
Ночью поезд остановился на полустанке, который стерегли три березы и проселок, убегающий в поле. Сергея потянуло под открытое небо. Он вышел из вагона и долго стоял, обратив лицо к ветру. Пахло снегом, который уже взяло первое тепло. Видно, март пробудил эти первые запахи, дала о себе знать весна, северная, российская.
Сергей вдруг ощутил, что в его власти возобладать над одиночеством – ну, разумеется, Дина была рядом, да, вопреки расстоянию верст и дней, рядом, он видел эту ее прядь, которая первой выцветала на майском солнышке, становясь розоватой, видел ее шею, линию шеи, где она переходит в плечи. У Дины она, эта линия, была хороша… Быть может, надо было ей сказать это, а он не сказал, как не сказал он и иного… Когда он ее увидел впервые – она встала из–за рояля и пошла ему навстречу, не гася, а заметно чеканя шаг, однако напряжением воли, а может быть, и тела сделав так, чтобы упругость шага не передалась груди, – у нее была красивая грудь, она умела ее нести… Много позже, когда Сергей оказался с нею в этой комнате с мигающей лампадой и высокой постелью, он должен был признаться себе, что она и в самом деле такая.
какой привиделась ему тот раз. Да неужели прозрение было в том необъяснимом, но вечном, что родилось в нем с ее приходом в его жизнь?
6
В семье Вильяма Буллита было свое представление о посольской службе: семья полагала, что в стране, где нет стройной системы дипломатического образования, подготовка будущего… ну, по крайней мере, первого секретаря должна быть доверена дому. В конце концов, именно домашнее образование было той купелью, через которую прошли все великие дипломаты. Знание языков и, конечно же, французского, на котором франкоязычный восемнадцатый век все еще продолжал говорить с двадцатым, постижение истории, не столько американской, сколько всеобщей, безупречная грамотность и не в последнюю очередь владение слогом. Достигнув совершеннолетия, Буллит овладел этим минимумом дисциплин в такой мере, что готов был пробовать силы не только в дипломатической стилистике, будь то нота, памятная записка, дневниковая запись, меморандум, но и, смешно сказать, в словесности изящной – сколько жил, пытался писать романы, правда, романы, полные неземных красот, но романы…
Было еще одно важное, на что будущий дипломат не без оснований уповал: связи. Действовало правило: общение в дипломатии творит чудеса, то, что принято называть счастливым случаем, не дар небес, а дар общения.
Буллит справедливо считал, что поездка в Париж могла одарить его благами, которые несет его величество случай, упрочение связей не исключалось. В Вашингтоне у президента была своя тропа, которая с тропой Буллита могла не пересечься, а вот в Париже иное дело: при желании ты мог оказаться на глазах президента и на пленарных заседаниях конференции, и во время поездки в Версаль, и наверняка в обязательные для президента часы посещения церкви, что благочестивому главе американского государства могло бы даже импонировать…
И хотя Буллит пока не имел возможности подойти к президенту и произнести вожделенное: «А не изу-
чить ли нам, господин президент, перспективу назначения раба божьего Вильяма Буллита на вакантную должность генерального консула, например, в Глазго?» – такой поворот в отношениях президента и заурядного клерка, каким, в сущности, является наш герой, здесь, в Париже, не исключался. Правда, назначение на должность генконсула не компетенция президента, но чем черт не шутит. А пока не лишено смысла, пожалуй, обстоятельство, что ты вот так грубо вторгнешься в поле зрения президента и тому ничего не останется, как заметить полковнику Хаузу: «Что ни говорите, а есть в этом вашем Буллите нечто симпатичное! Мне нравится его тщательность в одежде и этакое… радушие, с которым он смотрит на тебя… Да, именно исправная, черт побери, выправка и неизменно бравый, как на плацу, вид!» Воздадим должное Буллиту, он тут все рассчитал: если костюм, то неброских, темно–серых, серо–коричневых, дымчатых красок, если сорочки, то ярко–белые, хорошо накрахмаленные, если ботинки, то темно–коричневые, а лучше черные даже при светлом костюме, если пальто, то легкое, в соответствии с модой, короткое, не обремененное громоздкой подстежкой. По парижской погоде, даже самой ненастной, достаточно, чтобы под пальто был пиджак с жилетом. Жилет, разумеется, необходим и при корсете – пусть думают, что фигуре не дает расплыться жилет… Присутствие президента держит тебя в узде, но, если бы президента и не было, Буллит хотел бы постоянно чувствовать на себе его взгляд – заманчиво удерживать в себе это напряжение.
Конечно, Еажно, что думает о тебе президент, но, быть может, имеет свой смысл и то, что накопил ты, наблюдая президента. Легко сказать: накопил! Что ты можешь накопить, если расстояние между ним и тобой равно едва ли не миле? Так уж и миле?.. А что ты знал о нем? Ну, например, все, что рассказал этот лютеранский поп Упсала, родители которого дружили с Вильсонами семьями. Мало сказать, что семья Вильсонов была патриархальной отчасти благодаря своей диковинной богобоязненности, она была ханжески патриархальной. Наверно, церковь довела порядок жизни семьи до тех жестко аскетических форм, какие и для набожной Америки внове. «Вот они, дети Иисусовы на земле!» – перст указующий был обращен на Вильсонов. Их пример и карал, и школил, и взывал к послушанию. Казалось, сам их образ жизни, на веки веков заведенный, был своеобразным повторением церковного календаря. Их кротость, их трудолюбие, их почитание власти и церкви поистине были притчей во языцех. И при этом превыше всего ценилась та хрупкая ниточка, которая связывала день нынешний семьи с днем вчерашним. Когда дело доходило до крестин, похорон или свадьбы, эта хрупкая ниточка не пресекалась, а становилась тверже, Вильсон и жену себе избрал, удерживая в руках эту нить: жена должна была быть похожей на мать. Ничто не может устоять перед усердием человека – он отыскал такую!
Когда на президентских выборах было названо имя Вильсона, казалось, его послало Америке само провидение. Совершенство, не президент: точен, скромен, а уж как осторожен…
И все–таки многое из того, что он делал, трудно было сообразовать с представлением о нем – не похоже на Вильсона! Да, да, не похоже, а он все–таки делал! Скрутил в рог мексиканских пеонов – не Вильсон! Подписал вердикт о вступлении Штатов в войну – похоже? Въехал в Париж едва ли не на белом коне – похоже? Дал себя наречь Вильсоном–спасителем, понимая, что это не его имя, – похоже? Подпустил к себе хитрюгу Хауза, сделав его своим душеприказчиком, – похоже? Не похоже, не похоже!
Кстати, история с Хаузом, может быть, и объясняет нам Вильсона?
Чисто американское явление: полковник Робине, полковник Хауз, а они как раз и не полковники в том смысле, в каком это принято в армии. И все–таки Хауз вошел в американскую историю как полковник Хауз, и дело не только в том, что обязательное «полковник» стало привычкой для людей, имевших дело с Хаузом. Этот человек с серым от постоянного недосыпания ли* цом и угнетенными глазами, однако традиционно деятельный и при всех обстоятельствах не теряющий присутствия духа, был и «кашеваром» всех вильсоновских затей, и настоящим государственным секретарем при живых госсекретарях, и единственным стряпчим при президенте, когда дело касалось особо деликатных событий, и, разумеется, гонцом, но гонцом особо доверенным, когда в перспективе возникал разговор, например, с президентом Франции или кайзером… Нельзя сказать, что Хауз был прообразом Вильсона, но он был той фигурой, которая в большей мере, чем кто–либо иной, отождествляла президента. Если учесть нелюбовь президента к дальним маршрутам, такому человеку цены не было. В самом деле, именно полковнику Хаузу Вильсон был обязан тем, что, не выходя из собственной спальни в Белом доме, больше того, оставаясь едва ли не под боком у родной жены, он одновременно вел неспешную беседу с германским монархом в его потсдамских хоромах и уединенно сумерничал с королем британским в покоях Бекингемского дворца, да еще имел по существу одной и другой бесед мнения, которые чудом не расходились с мнением Хауза.
Но это не все. Надо отдать должное президенту: призвав Хауза, он как бы стремился добыть качества, какими его обделила природа. Нелюдимый, вечно недомогающий, постноликий, откровенно раздражительный Вильсон, восприняв достоинства Хауза, становился не столь нелюдимым, постноликим, раздражительным и даже недомогающим. По крайней мере, в итоге простейшего арифметического действия два человека образовали как бы одного, и имя ему было – президент Штатов. Этот один человек, воссозданный из двух особей, вдруг обретал качества, которыми до Вильсона американские президенты владели не часто: энергию ума, оперативность, способность парировать беды, на которые столь изобретательна жизнь. Не часто один человек распадался вот так надвое, не часто он мог так органично воссоединиться, подчинив себя единому мозгу, сознанию, воле. Но вот что обращало внимание: все это видела Америка и делала вид, что не видит. Больше того, старалась отыскать термин, которым можно было бы это явление поименовать, а не найдя его, махнула рукой, остановившись на псевдониме: «Полковник Хауз». И, кажется, даже обрадовалась: «Полковник Хауз!.. Да–да, не президент, а полковник Хауз и все–таки в какой–то мере президент…
Но мог ли полковник заменить президенту крут советчиков, данных ему конституцией? Ну, например, синклит экспертов, совет министров, на худой случай, сенат? Могло бы иметь место таинство беседы, когда два человека, отгородившись от людей, стремятся объединить самое свое видение мира, способность понимать происходящее?
Буллит наблюдал не раз, как, явившись на заседание конференции раньше дежурного часа, они вдруг устремлялись из разных концов зала к окну, выходящему в парк, – завидная возможность перемолвиться словом. Вот это и есть колдовство встречи: их беседа уже родила сбивчивый шепот, именно сбивчивый – надо так много сказать, а времени в обрез… Но вот деталь: Хауз спокоен, а Вильсон нет–нет да обернется, при этом в глазах президента страх… Ну разумеется, все знают, что в природе есть Хауз, а все–таки… одним словом, хоть и президент, а, определенно, не из храброго десятка… Однажды Буллит увидел их гуляющими в Фонтенбло. Это было неожиданно: президент и Хауз на лесной тропе без видимой охраны, хотя охрана, конечно, была. Они прошли, впечатав во влажную землю подошвы своих больших штиблет, впрочем, оттиск вильсоновских ног был невелик… По тому, как верны были интервалы, отделяющие один шаг от другого, Буллит понял: их мысль была хотя и размеренна, но трудна… Какая мысль? Быть может, их уединенная беседа коснулась проблемы германских границ, а возможно, неодолимой русской проблемы – нет ее труднее.
Не родилась ли идея поездки Буллита в Россию в Фонтенбло?
7
Сергей не знал, что остановка на полустанке с тремя березами была предусмотрена расписанием.
В полуночной мгле возник зыбкий огонек фонаря, потом он угрожающе качнулся и встал рядом.
– Простите, американцы в этом вагоне? – человек, держа фонарь в левой руке, взял под козырек – не иначе, старый служака.
– Да, здесь, – ответил Сергей.
– Вот товарищ из иностранного ведомства, имеет указание встретить…
Из тьмы выступил человек в шубе с воротником шалью.
– А вы, случаем, не делегат? – он сунул руку под мышку, вытащив ее из варежки.
– В некотором роде, – ответил Цветов.
– Тогда… честь имею: Крайнов Станислав Николаевич, так сказать, вице–директор департамента иностранного ведомства новой России…
Крайнов снял шапку «пирожком», с силой тряхнул, освобождая ее от снега.
– Делегаты небось спят? Ну что ж, дождемся утра…
Он отвесил церемонный поклон человеку с фонарем, взобрался на подножку, Цветов готов был принять портфель Крайнова, но тот, легко совладав со своей ношей, вошел в вагон.
Видно, о появлении нового пассажира проводник был предупрежден, он встретил гостя с той унылой деловитостью, которая могла даже обидеть, впрочем, чай был предложен, что несказанно обрадовало вице–директора – по всему, ждал поезда под открытым небом и, несмотря на шубу с воротником шалью, порядочно озяб.
– Не составите ли компанию путнику, охолодав–шему и, пожалуй, оголодавшему? – окликнул Крайнов Сергея, который, войдя в вагон, встал у окна поодаль.
– Есть не буду, а горячего чаю с удовольствием, – отозвался Цветов, ему было приятно приглашение Крайнова – ехать по России да говорить с русским человеком, о чем еще можно мечтать?
Сергей смотрел, как Крайнов раскладывал на холщовой скатерке, которую извлек из портфеля, свои немудреные припасы, думал, что в них, в этих припасах, наверно, должно проглянуть положение сегодняшней России. Что говорить, не богат стол! Наверно, с тех пор, как матушка–земля начала свое вечное круговращение, департаментские начальники иностранного ведомства не принимали гостей за таким столом. Брусок чернятки, непропеченной и ощутимо тяжелой, три картофелины, которые Крайнов тут же освободил от мундира, вобла, очищенная и тщательно нарезанная, квадратик сыра, такой микроскопический, будто его только что сняли с аптекарских весов, – вот и все украшение департаментского стола. Не иначе, взгляд Цветова, обращенный на скатерть–самобранку и разложенные на ней припасы, был печален, Крайнов заметил это краем глаза.
– Наверно, подумали: «Оскудели русские закрома, коль хлебушек так потяжелел?» – взял он на ладонь брусок чернятки. – Наверняка подумали: хлеб небось у Колчака?
Сергей смолчал. Да и что можно было сказать этому человеку, с виду интеллигенту, склоняющему Цветова к разговору, в котором Сергей в его нынешнем несвободном положении был так зависим?
– Так и подумали: у Колчака хлеб? – повторил свой вопрос Крайнов. – Хлеб, а поэтому и силы… Не так ли?
Как бы не сорваться и не наговорить лишнего, сказал себе Цветов. Главное – сохранить способность себя контролировать. Сообщить речи и темп, и температуру – тоже искусство. Да, темп, в котором были бы паузы. В конце концов, что такое пауза, если не ведро холодной воды. Сказал и окатил себя.
– Я сказал: хлеб, а поэтому и силы!.. – как ни категорична была эта фраза, она не оторвала Крайнова от картошки, он продолжал есть.
– Значит, силы? – Цветов оплел пальцами стакан с чаем и только сейчас ощутил, как замерз. – Можно сказать и так… – он поднял стакан с чаем, но не пригубил – он не умел пить чай глотками, дожидался, когда чай поостынет, и выпивал залпом, как пьют водку. – Сравните свои силы и те, которые вы себе противопоставили… Сравнили?
Цветов вдруг понял, что в последнее слово, не желая того, он обронил капельку иронии, сделав это слово для собеседника обидным. Сергею вдруг стало жаль человека, сидящего напротив: почему он говорит с ним так, как будто бы за ним не было России, почему?
– Тут надо всего лишь хорошо подсчитать… – Сергей взял стакан и, к удивлению своему, обнаружил, что чай остыл. – Хорошо подсчитать, – он не мог не подумать: вот и сейчас хранителями истины у него, как обычно, были цифры. – Считайте, считайте, – повторил он и поднялся.
– Простите, но тут цифры ничего не объяснят, ровным счетом ничего, – сказал Крайнов и перестал есть.
– Почему? – изумился Сергей. – Нет, в самом деле, почему?
– Все заключено в душах людей, а это, согласитесь, больше цифр… – сказал Крайнов. – Все в душах…
Было такое чувство, что они не все сказали друг другу, что хотели сказать, но последняя крайновская фраза не шла из головы: «Все заключено в душах…»
Они так бы и разошлись по своим купе, пожелав друг другу спокойной ночи, если бы в конце коридора не послышался шум и ватага людей, говорящих на языке, в который и полиглоту Цветову проникнуть было трудно, не возникла перед ними. Неизвестно, как бы они нашли общий язык, если бы один из подошедших не бросил по–русски:
– Да здравствуют новая Венгрия и новая Россия! Теперь Цветову все было ясно: то были подзагу–лявшие венгры, обосновавшиеся, как помнил Сергей, в дальнем купе. Похоже, что в Венгрии назревают события грозные, может оказаться, что Париж семьдесят первого и Петроград семнадцатого одновременно?
– Вот услышали русскую речь и решили выйти, – объяснил паренек с червонными баками. – Русские и венгры – это хорошо!..
– Хорошо, хорошо!.. – раздался бас гудящий, и толстая ладонь легла Цветову на грудь. – Ура! – повторил человек с ярко–черной шкиперской бородой, толстая ладонь принадлежала ему.
– Мы купцы, едем в Москву… – возгласил парень с червонными баками.
– Купцы, купцы!.. – поддержал его чернобородый.
– Это как же понять: купцы? – спросил Цветов строго и оглянулся на Крайнова. Только сейчас Цветов проник в происходящее. Надо же было, чтобы в эти дни, да, именно в эти мартовские дни девятнадцатого года в центре Европы, между Дунаем и Тиссой, на исконных венгерских землях возникло или грозило возникнуть событие, прообразом которого были революционные Париж и Петроград.
– Россия и Венгрия – это уже полмира! – сказал червонный.
– Хорошо, хорошо! – поддержал чернобородый – единственное «хорошо», которым обладал венгр, у него славно работало и приходило на помощь в самых неожиданных случаях.
Принесли вино.
– Ура! – возгласили они с откровенной мощью своих голосов, однако не отводя глаз от купе, в которых сейчас пыталась досмотреть свой самый сладкий сон сановная делегация…







