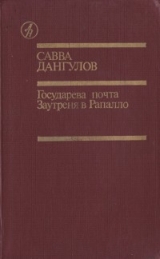
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 38 страниц)
35
Изжелта–желтая балтийская вода, желтое небо. Кажется, что корабль безнадежно зарылся винтами в пучину моря и стоит на месте. Хочешь не хочешь, а оседлаешь пушечное ядро, чтобы перебороть ненастную Балтику.
Прелюбопытно, как воспринимает море высокая миссия. Стеффенс и на суше не прочь соснуть. Спит он в любое время суток, в любом положении. Подушке он предпочитает свой твердый кулачишко. Когда, проснувшись, он отнимает его от щеки, кажется, что она побывала на сорокаградусном морозе, нужно время, чтобы вернулись ее прежние форма и краски.
Наоборот, Буллит во власти непокоя. Тревога возбудила в нем необходимость двигаться. Он единственный из пассажиров, кому не страшна балтийская непогода. Подняв воротник своего дождевика, он часами вышагивает по палубе. Только плечи напряжены да изогнулась спина – от дождя убережешься, от холода труднее… Горит душа у Буллита! Может быть, и в самом деле не надо было давать депешу?
Сергей замкнулся в своей думе. Как там Герман? Вдруг привиделась эта его больничная койка и фигура брата, неожиданно согбенная, и плечи, в которых чуть–чуть утонула шея, как показалось Сергею, утонула, наверно, и в страхе – да не принял ли он это положение в момент выстрела? Да, именно в тот миг, когда выстрел грохнул о каменные стены штольни и потек ручейками щебень, Хотел бы расправить плечи, да пуля не пускает, она точно острой иглой стянула мышцы, скрепила их твердым швом – и рад бы выпрямиться, да нет сил» И еще запомнился взгляд Германа, была в этом взгляде кручина неодолимая, будто выпростал глаза из черной тучи. То, что не понимал Герман прежде, понял теперь. Что понял? Разуверился? В штольню с голыми руками не войдешь. Видно, время безоружных минуло, огонь только и сшибешь огнем.
И Лариса припомнилась. Вдруг увидел эти ее завиточки вокруг лба и обнаженные до самых плеч руки, которые она выбрасывала, вздыхая: «Не оставляй меня, брат, забери с собой…» Ее точно морозом прохватывало. «Забер–р–ри!» Она как–то сказала Сергею: «Ты себе представить не можешь, как это для меня важно!» Даже смешно: важно! Ну, не поедет она туда, в конце концов, что случится? Или это для нее действительно важно, настолько важно, что лежит за пределами разумения?
А как Дина? Может быть, есть смысл предупредить ее телеграммой о приезде в Гавр? Не простит, что не предупредил, бросила бы все и выехала навстречу. Эта решимость безоглядная по ней.
Но это как раз и плохо, какой смысл в этой решимости, если она рождает боль? Ее, этой боли, хватало Дине и прежде. Надо явиться не предупреждая… Вот незадача: она готова была все понять, не могла понять близости Сергея к Изусову. А узнав о поездке в Россию, вначале изумилась, потом обрадовалась, потом отдала себя во власть тревоги, Еще не проникла в замысел Изусова, не прочла его, как хотела бы прочесть, но поняла, как это грозно для нее. Помнится, как они добрались до Ситэ, очутившись под стенами храма. На том берегу Сены все было напоено сухим теплом минувшего дня, а здесь было промозгло, почти холодно. «Я знаю Изусова, он ничего не делает зря, – сказала она. И для нее он был Изусов. – И твоей московской поездке он сообщил свой смысл…» Сергей взглянул на нее. «Какой?» Она молчала, она и так сказала много. Он заметил, когда она входила в тень степы, лицо ее оставалось светлым. Только лицо ее и оставалось светлым – нет, не только глаза, но и кожа лица несла свет. «Какой?» – повторил он. «Не знаю», – сказала она, хотя у нее было искушение смолчать. Много позлее, когда они покинули Ситэ и поднялись на высокий берег реки, она, оглянувшись на храм, произнесла, имея в виду, конечно, Изусова: «Он думает, что все в его власти. Не все, не все!..»
Как понять Дину, какой смысл она вкладывала в это «не все, не все»? Если ничего не знаешь о ее тяжбе с Изусовым, пожалуй, понять ее будет трудно. А если знаешь? Он карал ее строптивость поездкой Сергея в Россию? Можно сказать больше: он грозил ей возвращением Сергея в Москву. Он точно говорил ей: «И его отниму у тебя, и его отторгну!..» Да могло ли быть так? Могло, могло!.. Истинно, Изусов ничего не делает зря. Но могло быть и иное: Изусов мог допустить, что молодым русским завладела стихия поиска своей стези, он все еще не знает, кому отдать предпочтение, быть может, он не исключает возвращения в Россию… Чтобы отсечь эту перспективу раз и навсегда, Сергею есть смысл побывать в России. Нет–нет. не надо никаких опасений, пусть увидит самолично нынешнее, жестоко угнетенное, российское… Что говорить, Изусов и в самом деле ничего не делает зря…
Нет, Сергей не пошлет депеши Дине, он явится внезапно.
36
Едва ли не в тот самый послеобеденный час, когда поезд с миссией Буллита прибыл на Северный вокзал французской столицы, автомобиль с Крайновым остановился у подъезда гостиницы «Европейской» в Петрограде – неделя не столь уж великий срок для миссии, которой обременил Крайнова Карахан, но ее оказалось достаточно не только для поездки в соседнюю страну, но и возвращения на родину.
По звонку из Гельсингфорса Крайнову была отведена комната, выходящая двумя своими окнами на филармонию, здесь он имел обыкновение останавливаться во время своих петроградских командировок и, конечно же, последний раз, когда приезжал сюда встречать Буллита вместе с Чичериным. Тот раз чичеринские апартаменты были в конце коридора, впрочем, Георгий Васильевич вернулся в них и теперь, сочтя необходимым проститься с американцами в Петрограде. Край–нов успел расположиться в номере и даже развернуть утренний выпуск «Красной газеты», когда в дверь постучали. Стук был не столько робким, сколько осторожно–корректным. В дверях стоял Чичерин.
– Как поживает шведская корона? – не без озорства приветствовал он Крайнова. – Намерена она вернуть рабоче–крестьянское золото?
– К шведам не подступишься, готовы отдать золото только тем, от кого получили… одно спасение – вернуть в Зимний Александра Федоровича… – ответствовал Крайнов, сохраняя беспечальную чичеринскую интонацию.
– По современной политической погоде эта цена не столько низка, сколько высока, – откликнулся Георгий Васильевич, он продолжал шутить, хотя на душе было не так уж весело: честное слово, жаль было золота, по нынешним голодным временам отнять у России золото – значит, оставить еще один русский город без хлеба. – Американцы проехали Стокгольм при вас?.. – спросил Георгий Васильевич. – Телеграммы о колчаковском прорыве застали их в Швеции?..
Вот это истинно тревожило и Станислава Николаевича: как ни важен был вопрос о русском золоте, похищенном благополучными шведами, подробности, относящиеся к возвращению Буллита в Париж, были и для Крайнова важнее.
– Буллита я не видел, но говорил с нашим русским, Цветовым, при этом на тему, которая нас может интересовать… – произнес Крайнов. – Телеграмма о кол–чаковских победах, как я понял, прибавила американцам скорости – они пробыли в Стокгольме всего одну ночь…
– Скорости прибавила, не настроения? – спросил Чичерин.
– Как я понял Цветова, настроение не стало лучше…
– А почему?.. Ведь речь шла в телеграммах не о победах Красной Армии, а о победах Колчака?. – в вопросах Чичерина была настойчивость. – Настроение, по крайней мере у Буллита, должно быть определенно лучше. Не парадокс?..
– Парадокс, конечно, Георгий Васильевич, – не скрыл смеха Крайнов. – Я еще в Москве заметил: Буллит радовался нашим успехам и огорчался успехам Колчака… Конъюнктура?.. Конечно же, если тебе лично это выгодно сегодня, ты можешь и отторгнуть себя от интересов президента…
– Вы полагаете, Буллиту это выгодно?
– Не сомневаюсь… до поры до времени, конечно… Буллиту померещилась… новая ситуация?
– О новой ситуации говорить, быть может, и рано, но о первых ее признаках, пожалуй, можно уже сказать… они есть.
Чичерин взял графин, наполнил стакан, вынес на свет. Вода не пузырилась, она казалась вялой, городской, отдающей бледным ультрамарином. Он попробовал отнять, видно, цвет воды давал точное представление об ее вкусе. Чичерин поморщился.
Мы ничего не знаем, как создавалась миссия, кто стоял, так сказать, у ее колыбели, а между тем ответы на все наши вопросы как раз здесь…
– А полномочия Буллита не отвечают на этот вопрос? – спросил Крайнов. Он, человек ума практического, решил, что надо смотреть в корень – полномочия.
Полномочия… скорее усугубляют сомнения, чем рассеивают, – заметил Чичерин. Действительно, как помнит Георгий Васильевич, полномочия были конкретны, удостоверяя личность Буллита, и заметно расплывчаты, когда речь шла о прерогативах миссии. – Но есть смысл постичь проблему глубже, я говорю о таит; того, как создавалась миссия, кто персонально был лричастен к этому…
Если мне память не изменяет, еще в Москве Буллит больше говорил о Хаузе, чем о Вильсоне, – заметил Крайнов.
– Вы так полагаете, о Хаузе…
– Именно о Хаузе. Хорошо помню, как меня это озадачило, Георгий Васильевич…
– Пожалуй, вы правы, – подтвердил Чичерин. – Правы…
– Конечно, тут нет никаких Америк, но в словах Цветова, сказанных мне в Финляндии, при желании можно отыскать ответ на вопросы, которые могут интересовать и нас: «Миссия Буллита недостаточно официальна, и это, пожалуй, плохо – в самом статуте миссии есть своеобразная ширма, за которую можно спрятаться…
Чичерин не откликнулся на реплику Крайнова, но не забыл ее, сохранив до того неблизкого часа, когда с Нарвской заставы вернулся Карахан. Поездка за Нарв–скую заставу оттеснила у Карахана наркоминдельские тревоги на второй план. Не без волнения Лев Михайлович воссоздал картину баталии, разыгравшейся в цехе Путиловского: как это было на питерских рабочих собраниях в последние месяцы не раз, на завод язились сподвижники Марии Спиридоновой и превратили встречу со старым смольнинцем в допрос с пристрастием. «Не отчаивайтесь, Лев Михайлович, такой лее натиск сдюжил у нас в Питере товарищ Ленин… сказал Карахану путиловский боевик, доставивший его в гостиницу, но от этого на душе было не легче. Даже не очень была понятна причина печали, все прошло как нельзя лучше, и в смольнинской путевке это было обозначено черным по белому, а на душе было тревожно. Не хочешь выдать себя, да тревога вдруг взорвется вздохом: «Истинно, век лшви – век учись; нынче говорить на народе труднее, чем год назад», – убеждал себя Карахан, понимая, что сегодня уснет, пожалуй, позже обычного.
– Тут был Станислав Николаевич, его золотой вояж оказался отнюдь не золотым, – заметил Чичерин. Все, что осталось недоговоренным с Крайновым, очень хотелось договорить с Караханом. – Он был в Гельсингфорсе, когда туда прибыл Буллит…
– Станислав Николаевич только что сказал мне об этом, да, кстати, и о беседе с вами…
– И мы понимали, что миссия Буллита недостаточно официальна, Лев Михайлович, но те несколько слов, которые сказал об этом Цветов нашему Крайно–ву в Гельсингфорсе, могут сообщить предмету смысл, который нам нельзя не учитывать… Смятения, в какое впал Буллит в Гельсингфорсе, он не выказывал ни в Москве, ни в Петрограде… Впрочем, в Петрограде некие признаки этого смятения у Буллита были…
– Были, пожалуй, – подтвердил Карахан.
– Однако почему Буллит сообщил возвращению такие скорости? – Чичерин умел в деловом разговоре «держать линию», не разрешая себе слишком дальних и слишком вольных отходов в сторону, было даже любопытно, как этот человек, так любящий разговор на свободные темы, даже темы абстрактные, оказывался в деловом диалоге столь целеустремлен. О чем думал сейчас Георгий Васильевич? Почему Буллит с такой поспешностью обратил свои стопы в Париж? Колча–ковские победы поставили для Антанты все с головы на ноги? А нельзя ли все–таки не обрывать связей с Буллитом? Какие тут имеются пути? Стеффенс?
– А не полагаете ли вы, Георгий Васильевич, что, назвав этот срок – месяц, только месяц! – Ленин видел и силу миссии Буллита, и, пожалуй, ее слабость?..
– Хочу верить, что это было так, хотя для Ленина имел значение сам факт: Антанта послала в Москву своих делегатов, Антанта просит мира… Убежден, что в самой сути этого события для нас была перспектива, ее, эту перспективу, нельзя отсечь, рано или поздно она проявится…
Ночью, когда поезд, идущий в Москву, миновал Бологое, Георгий Васильевич вышел в коридор к вагонному окну. Поезд шел лесами. Их тьма подбиралась к самому полотну, преграждая путь поезду. Ночь в такой мере смыкалась с теменью бора, что порой казалось, поезд рассекает лес, взрывая его чащобу. В те редкие минуты, когда возникали озерцо или извив реки, темень расступалась, зеркальце воды вбирало в себя Еесь свет, который еще остался в ночи, чтобы взорвать завалы тьмы, но света не хватало, во тьме была мощь ночи, как и мощь леса…
И, как это было уже не раз, Чичерин обратился к мысли, которая укоренилась в его сознании… Человек должен чаще оглядываться назад, ибо в неблизкой ретроспективе можно отыскать такое, что как бы явилось сколком нынешнего дня. В этом возвращении к прошлому обязательно отыщется деталь, какой может и не быть сегодня. Дистанция отнимает у нас частицу физического видения, но зато прибавляет нам немалую толику видения духовного – торжествует мысль, она становится богаче. Неверно, что прошлое стало миром кривых зеркал, оно в немалой степени и мир зеркал верных. Как в том тамбовском детстве, когда солнечный зайчик мог пробудить историю, которая оказывалась тем значительнее, чем дальше были ее истоки. Не в этом ли был смысл чуда, которое звалось в том же Тамбове «Зеркалом воспоминаний».
37
Чичеринская мансарда на Ист–энд смотрела своим единственным окном в темную мглу загородного парка. Так уж получалось: вначале вечер свивал свое гнездо в парке, потом в чичеринской мансарде. Впрочем, была пауза долгая – вечер уже проник на мансарду и, пожалуй, обжил ее, но свет там не зажигался. Только Том Кемпебелл знал причину этого. Нет, не потому, что Том – провидец, просто он единственный из чичерин–ских соседей, кто вхож к Георгию Васильевичу. Не потому, разумеется, что Чичерин не хотел видеть других, смысл в ином – Кемпебелл был сборщиком страховых паев на лондонской товарной станции и имел дело с хлопотливым племенем «светлячков», так он звал железнодорожных стрелочников, собирающих и разбирающих составы, когда их зажженные фонари неожиданно возникали в ночи, сравнение со светлячками казалось естественным. Но интерес Георгия Васильевича к Кемпебеллу объяснялся не только этим: чичеринский сосед знал Карла Либкнехта, при этом и лично, а по этой причине, вступая в спор, не останавливался перед тем, чтобы опереться на мнение своего друга.
Вот это уже было серьезно, тем более что Кемпебелл не стоял на месте, обновляя свои познания. Либкнехта, определенно, увлекала личность лондонского пролетария, и он охотно отвечал на его письма – это были письма–реплики, сжатые до полустранички, но неизменно полемичные, в которых обязательно содержалось категорическое «нет», как обьГчно у Либкнехта, непреклонно–строптивое, возможно, даже укоризненное.
Последнее письмо от Либкнехта англичанин получил с утренней почтой, и ему стоило немалого труда перетерпеть день, не показав письмо русскому соседу. Но вот незадача: вечер наступил, а окно чичеринской мансарды прочно застила тьма, не иначе, русский лег засветло, лег отдохнуть и не поднялся до наступления сумерек.
Кемпебелл взял либкыехтовское письмо и пошел к Чичерину. Деревянная лестница, ведущая на мансарду, вздыхала под ногами Кемпебелла, и казалось, что вслед за тобой идет кто–то еще. Кемпебелл думал о Чичерине. Отшельник, хотя не отвергает общения. Но образ жизни именно отшельника: поселился на бедной лондонской окраине, в комнатушке едва ли не под стрехами. Пыльное и, пожалуй, холодное гнездо. Оборвал все связи с землей, воспарив к небу!.. Хочется назвать его звездным человеком, именно звездным – в устремленности его мечты что–то не совсем земное.
Англичанин постучал.
– Вы… Кемпебелл?
– Я, разумеется.
– Одну минуту… – он закашлялся, не иначе, простыл в этом своем сыром поднебесье.
Было слышно, как он идет к двери, постанывая.
– Который сейчас час? – это он спросил, уже открыв дверь. – Да неужели я проспал четыре часа?.. – он кивнул в сторону кресла, стоящего у окна, сам сел на кровать. – Вот оно, мое горло, когда слаб, сплю долго…
Говорил вам, полощите мятой, тибетская медицина хвалит мяту, – англичанин верил во всесилие тибетских медиков.
Чичерин не успел зажечь свет, они сидели во тьме.
– Я, наверно, кажусь вам безнадежным чудаком? – спросил гость.
– Простите, почему?
– Собираю страховые паи и превозношу тибетских эскулапов… Не чудак ли?
– Чудак – это тот, кто оборвал связи с жизнью, а мы с вами, слава богу, их сберегли… – произнес Чичерин. Нет, он не открещивался от чудаков, но не хотел отторгать себя от того, что называл землей обетованной.
– А я вам все–таки докажу, что мои интересы земными назовешь с оговоркой… Ахиллесова пята наших проблем: революция и сознание!.. – вдруг произнес Кемпебелл. – Вы понимаете, куда я гну?..
– Куда?
Кемпебелл потянулся к выключателю, намереваясь зажечь электричество, но потом раздумал: ему показалось, что хозяин не включил свет, чтобы не обнаруживать беспорядка, который царил в квартире.
– Не хочу быть пророком, но у революции,)б ди она завтра, не будет более острой и, скажу больше, неутолимо насущной задачи, чем формирование созк ния нового человека… Философы говорят: ничто не способно так точно отразить черт мира, окружающего нас, как сознание!.. У революции будет день второй, а может быть, и третий, явись он нынче, неминуемо встанет проблема, которая беспокоит меня: сознание… Да, да, может ли сознание стать тем мотором, который способен заменить все остальные моторы…
– Реальный политик обязательно учтет, что у сознания есть этапы мужания…
– Вы полагаете, что возможности сознания небеспредельны и оно не все может? – спросил англичанин.
– У сознания есть своя пора накапливания сил и своя пора зрелости, – был ответ Георгия Васильевича.
– А институт предпринимательства скороспел?
– Институт обогащения не может быть нормой нового мира, он реставрирует угнетение, предав его прах земле, человечество сделает шаг вперед к своему освобождению… Сознание не может народиться и обрести зримые формы без того, чтобы не быть антагонистом угнетения. Там, где оно заявило о себе, его сила была могущественной. Не обманет оно и теперь, как не обмануло, например, в девятьсот пятом, когда одним рывком вся Россия поднялась на дыбы и едва не опрокинула самодержавие!..
– Но это был взрыв негодования, его девятый вал, – возразил англичанин. По тому, как Кемпебелл отвел довод Чичерина, он предусматривал и такой поворот беседы. – Конечно, в этом натиске участвовало сознание, не могло не участвовать, но я говорю об ином, я имею в виду тот момент, когда надо будет тащить большой воз государства и сознание станет коренником… Потянет?
– Верю, потянет! Главное, чтобы человек понял, что государство – это он сам, остальное придет…
– А вот это как раз самое трудное.
– Вы считаете ставку на сознание необоснованной?
– Более чем обоснованной, – возразил гость. – Но не простой, на грани дерзости, может быть, даже риска!..
– Я вас не понимаю, дорогой Кемпебелл!..
– Вы меня должны понять! Нет, я говорю не о празднике революции, которому сопутствует штурм твердынь самодержавия, штурмы революций не выигрывают… Революции выигрываются позже, может, много позже, когда приходит срок самому скучному из наших обязательств – работе. Иначе говоря, той поре, когда каждый из коренников должен показать, на что он способен..с Вы полагаете, что я не прав?
– Нет, почему же, только не требуйте от меня ответов на все вопросы. Думаю, что с меня хватит, если я дам ответ на вопрос главный. Я верю в сознание. Верю прежде всего потому, что в его первосути вера в светлые начала человека, а это значит, и в революцию… Допускаю, что у сознания будет пора проверки сил, что путь его будет трудным, быть может, даже тернистым. Допускаю, что тут будут и взлеты, и разочарования, но человек неодолим в своей решимости не возвращаться к старому… Поэтому у него достанет ума и сил развязать и этот узел, хотя хочу сказать еще раз: все это потребует сил…
Кемпебелл ушел, забыв про письмо, которое было у него в руках. Чичерин включил электричество и приоткрыл дверь, подсветив лестницу, по которой сейчас спускался английский друг. Шаги гостя давно перестали быть слышны, Чичерин продолжал стоять у раскрытой двери, перебирая в памяти темы разговора, происшедшего только что. Ну, разумеется, у революции не может быть иного коренника, кроме сознания масс, эту революцию совершивших. Наверно, есть средства, способные стимулировать и сознание? Когда сознание из философской формулы превращается в инструмент деяния нового государства, а может быть, и в саму его идеологию, оно, это сознание, должно обрести новое качество и новую прибавку энергии? Хватит ее, чтобы на большом плацу экономического соперничества перебороть ту силу? Если революция предполагает творчество, поиск есть часть революции, хотя куда как рискованно быть провидцем – на поверку оказывается, что будущее подчас дальше твоей способности предвидеть.
Он вернулся в комнату и погасил электричество, оно ему мешало сейчас.
– Дальше, дальше… – повторил он.
Они решили выехать из Гавра пополудни, чтобы быть в Париже еще вечером. Телеграмма, разумеется, ушла, как только они оказались на берегу. Прозорливый Буллит теперь был обеспокоен единственным: кто встретит?
Давно уже не видна текущая на запад Сена, а Париж не появлялся. Буллит смотрел на часы, потом на поля, под мартовским солнцем ярко–зеленые. За пятнадцать минут до прихода поезда в столицу за окном был все тот же деревенский пейзаж с кирпичными домиками, обнесенными каменной оградой, со стадами пятнистых коров, с лошадьми, впряженными в телеги, с широкими решетчатыми, как у молоканских мажар, боковинами. Странно, что к самым стенам столицы подступала деревенька. Верно ли мнение об индустриальной сути Франции? Сколько мог заметить Буллит, у Франции был вид сельской страны. А может, это было впечатление от патриархального северо–запада?
Казалось, Буллит еще видел в окне зеленое поле со стадом пятнистых коров, когда поезд подошел к вокзалу. Американцу стоило труда остаться в вагоне и те три минуты, пока в сумерках длинного вагонного коридора не блеснул белый фартук носильщика. Честное же слово, возникло искушение ухватить перепоясанный ремнями чемодан, оказавшийся под рукой, и выбежать на перрон. «Нет, в самом деле, кого там отрядил для встречи праздный протокол?» Никогда прежде, по крайней мере для Буллита, протокол не забирал в свои руки всю полноту власти, как сегодня. Волна пассажиров схлынула, обнажив платформу. Ветер гнал белый ком бумаги, не без труда отлепляя его от асфальта и взвивая в воздух, хотелось схватить его и шлепнуть о землю с маху, намертво прикрепив, в этом случае платформа не вопила бы так громогласно, что она пуста.
– Не вижу, чтобы нас кто–то встречал, – обернулся Буллит к Стеффенсу. – Не застряла ли наша телеграмма на полпути из Гавра к Парижу?.. Ах эта французская почта!.. – воскликнул он почти в отчаянии.
– Да, французская почта! – поддержал Стеффенс мрачно.
Буллит еще следил за движением бумаги, когда увидел в конце перрона человека в котелке, приближающегося чуть ли не на рысях.
– Простите, ради бога, опоздал!.. – произнес он, переводя дух. – Эти здешние «ситроены» – беда!.. Едва успели завернуть за угол отеля, как из автомобиля выскочило облако, от которого стало темно…
Только сейчас Буллит опознал человека в котелке – это был Майкл Гроу, первый секретарь посольства, прикомандированный к американской делегации.
– Полковник просил встретить и доставить к себе!.. – произнес Гроу и сшиб котелок на затылок. – Прямиком к нему!..
Буллит улыбнулся – ничего более приятного человек в котелке не мог произнести.
– Да не поздно ли в такоц час к полковнику? – усомнился Буллит, его сомнения, конечно, были нарочитыми, на самом деле он был до смерти рад приглашению Хауза. – Все–таки… двенадцатый час…
– Полковник сказал: в любое время ночи… Буллит перевел глаза на Стеффенса, точно призвав
его в свидетели.
– Значит, в любое время ночи?
С виду вполне бравый «ситроен», точно опровергая возведенный на него поклеп, споро двинулся вперед, они поехали. Буллит думал о встрече с Хаузом. Не похоже, чтобы интерес Хауза к Буллиту не отразил бы настроений Вильсона. Есть мнение: большие политики не привязывают себя к лицу влиятельному, сохраняя суверенность, большой корабль, мол, легко увлекает с собой в пучину и другие суда. Но Буллит полагает иначе: в нынешние жестокие времена один не пробьешься. К тому же спаренность (есть такой термин и в политике!) не обязательно влечет за собой потерю независимости. Вот хотя бы Хауз: куда как спарен с президентом, а суверенен вполне. Правда, был бы он связан должностью, его свобода тут же улетучилась бы. Но Хауз вовремя остановился: завоевав приязнь Вильсона, он не пошел к нему на службу. Поступив так, он охранил и свободу президента, по крайней мере, в отношениях с Хаузом. Она, эта свобода, необходима была Вильсону не меньше, чем полковнику. Уже одно то, что, оставаясь советником президента и его близким другом, полковник был свободен от должности, позволяло президенту общаться с Хаузом, не ломая иерархии, не опасаясь, что общение кого–то дискриминирует. Ну, например, президент мог, как помнит Буллит, запросто посетить Хауза в личных апартаментах отеля «Крийон» или, воспользовавшись паузой в заседаниях, появиться с полковником в пустынных версальских залах. Наверно, статут отношений, в основе которых, по крайней мере внешне, лежала суверенность, давал возможность Хаузу в беседах с официальной Европой говорить о железном мужестве президента, а письма к Вильсону подписывать обязательным «Преданный и верный вам Э. М. Хауз». Конечно, прием Буллита Хаузом был не равноценен аудиенции, которую дал бы ему Вильсон, но этот прием мог приблизить аудиенцию президента. Среди тех, кто окружал Вильсона, не было лица, правомочного говорить от имени президента, нО если бы такое лицо было, то, конечно же, речь могла идти только о Хаузе.
Они были в отеле «Крийон», когда стрелки настенных часов в вестибюле, тем более ярко–серебряные, что были врезаны в черный циферблат, отметили без четверти двенадцать.
– Этот лимузин с венгерским флагом у подъезда вам ничего не говорит? – спросил Гроу, обернувшись на входную дверь, будто автомобиль, о котором шла речь, стоял за дверью.
– А что он мне должен сказать? – спросил Буллит.
– Когда я уезжал на вокзал, Хауз уже разговаривал с венгром два аса, – он взглянул на черный циферблат. – Значит, через пятнадцать минут будет ровно три, как венгр явился к полковнику…
– Венгерские Советы национализировали крупную недвижимость? – спросил Буллит, когда они вошли в синеватый полумрак лифта – лампочка горела вполнакала, а ярко–синее стекло, толстое и бугристое, вставленное в дверь лифта, почти не пропускало света извне.
– Они пошли дальше и создали Красную Армию… был ответ Гроу.
– Красную Армию? – переспросил Буллит. Ответа не последовало, только лифт отсчитывал свой
ритм, да по лицам текла процеженная бугристым стеклом синяя мгла. Однако хорошо это для Буллита или плохо, что венгры создали Красную Армию? В иное время сомнений не было бы, плохо. А сейчас? После поездки в Москву? Хорошо?
Буллит уже был в приемной Хауза, когда мимо промчался краснолицый господин, на толстой губе которого вздрагивала погасшая сигарета, не иначе, трехчасовой разговор в тиши полковничьего кабинета был жарким.
– Погодите минуту, Буллит, хочу проветрить кабинет, – произнес Хауз, вынося на раскрытых ладонях пепельницу, полную окурков. – Не человек, а топка паровозная, извольте взглянуть!..
– Поневоле станешь топкой паровозной, когда происходит такое!.. – отозвался Буллит и, взглянув на Хауза, будто уперся в его глаза испытующе.
– Заходите, заходите, сейчас закрою окна… – произнес Хауз, быстро возвращаясь в комнату. – Табачище бог знает какой, дым будто проник в камень… Нет–нет, я не шучу… – он взял со стола мраморную карандашницу, смешно повертел ее в руках, понюхал. – Извольте убедиться, – протянул он карандашницу Буллиту, смеясь. Смех у него был какой–то округлый, погромыхивающий, полковничий смех. – Венгр, а манера прусская: когда говорит, все сует нос к твоему лицу, хотя секрета, собственно, никакого… Как кайзер, тот тоже тыкал мокрым носом в щеку!.. – он подошел к окну, но, прежде чем закрыть его, взглянул во тьму, вздохнул всей грудью. – Минувший день был с теплым и мягким ветром, такой бывает только в Париже… Вечером выбрались с президентом в Барбизон, там рощи необыкновенные… Только и слышал от него: «Дышите глубже, друг мой! Глубже дышите!..» – он закрыл окна, медленно пошел к письменному столу, взглядом приглашая Буллита занять место в кресле у стола. – Ну, как ваша миссия в Москву? Из вашей финской депеши я понял, что все сложилось как нельзя лучше?.. Однако как все–таки это было?.. И, пожалуйста, подробнее, подробнее, не опускайте деталей!.. – он устроился удобнее в кресле, дав понять, что слушает. Это у Хауза профессиональное – когда каждая встреча заканчивается докладом, без мягкого кресла с удобными подлокотниками не обойдешься. – Итак?..
– Да есть ли у вас время?.. – улыбнулся Буллит, обратив внимание на то, как удобно устроился в' своем кресле Хауз, такое предполагало многочасовой разговор.
– Да, конечно… – он вдруг взглянул на окна. – Здесь светает теперь в шесть, а президент завтракает в четверть седьмого… – рассмеялся Хауз громко, он не таил смеха, хотя, вопреки полковничьему званию, считал себя человеком глубоко штатским, но смеялся как истинный военный. – Дождемся, пока президент пойдет к завтраку!..
– Ну что ж, я готов… – согласился Буллит, он понимал, что эта ночь будет у него бессонной.
Буллит начал говорить. Он полагал, что хронология дает ему преимущества, позволяя слушателю как бы проследовать с делегацией к месту назначения и быть свидетелем всех ее встреч, поэтому выстроил рассказ в точном соответствии с тем, как события развивались. Чтобы все сказанное было убедительным, он сопроводил рассказ точными именами русских, с которыми беседовал, не обойдя названия вокзалов, отелей, улиц, площадей, с которыми так или иначе были связаны нехитрые маршруты делегации, как, разумеется не обошел и дат… Таким образом, возник своеобразный дневник, помеченный числами и часами этого трудного марта. И, конечно, присутствовало главное, разговор по существу – английский текст проекта договора, как этот текст был выработан в Москве, лег на стол Хауза.







