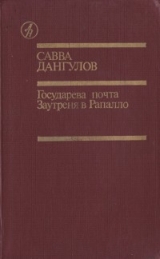
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
21
Ленин принял Буллита 11 марта 1919 года.
Американца сопровождал Чичерин.
День выдался ясным, со слепящим снегом и по–весеннему лиловыми тенями на снегу, а в здании было полутемно. Они долго шли коридором, входя в пределы электрического света и выходя из него. Время от времени им встречался красноармеец, стоящий на часах, он был одет так, будто над ним и не было крыши – в шинели, шлеме, валенках, – дом отапливался плохо, его толстые стены дышали холодом.
Они переступили порог приемкой Предсовнаркома и точно вновь вышли из тени к солнцу. Большие окна дали простор мартовскому свету,' заставив смежить веки. Когда Буллит открыл глаза,! он увидел Чичерина, склонившегося над столом, за крторым сидела женщина в теплой кофте.
– Нам придется подождать кинут пять, – сказал Чичерин, – Ленин принимает в, соседней комнате крестьян, прибывших сегодня утйом с Волги…
Но пяти минут ждать не пришлось. Вскоре из боковой двери вышел Ленин. Американец не отказал себе в удовольствии окинуть русского пристальным, все–оценивающим взглядом – первое впечатление всегда верно. А он хорошо сложен, сказкл себе Буллит. Да и в руке есть сила, хотя он жмет руку, не выказывая этой силы. Только вот левое плечо он несет, как бы щадя себя. Впрочем, это видно не столько по плечу, сколько по руке – след недавнегс ранения. Рука не на повязке, но прежней свободы, видимо, нет.
– Вот сюда, пожалуйста, господин Буллит… Американец оглядывает кабинет, оглядывает с ревнивым вниманием. Как у Чичерина: кабинет ученого,
может быть, писателя, военного писателя. Вот это обилие карт да, пожалуй, атласов, в том числе железнодорожного, должно указать–именно военный писатель, в поле зрения которого огромная страна. Какой зоркостью надо обладать, чтобы постоянно держать ее в поле зрения, видя ее всю, не утратить возможности рассмотреть детали.
– Крестьяне из Сарапула пригнали состав с хлебом. – Ленин все еще был под впечатлением встречи, которая произошла у него только что. – Сорок тысяч пудов! – он сделал усилие развести руками, однако остановился – больная рука не пускала. – Форти тау–зенд! – добавил он по–английски. – Дорога забита военными эшелонами, однако юезду с хлебОхМ зеленый свет…
Сарапул… это где–то на востоке?
– В Приуралье, на Каме, – сказал Ленин. Он подошел к карте и, окинув ее быстрым взглядом, отыскал Сарапул. – Говорят, могли бы добраться и раньше, да пропускали военные; эшелоны…
– Недели полторы? – спросил Буллит, он вкладывал свой смысл в этот вопрос.
– К сожалению, больше, почти три – военная дорога, – произнес Ленин, он полагал, что нет смысла представлять дело легче, чем оно было в действительности. – Милитари роуд, – обратился он к английскому. – Дорога и в мирное время трудна. Русские говорят: «В дороге и от^ц сыну товарищ», – он обратился к английскому, переведя пословицу. В те три года, которые Владимир Ильич прожил в Лондоне, он достаточно постиг разговорный английский. Сильнейшим из иностранных языков у него, конечно, был немецкий, а это давало немалые преимущества в постижении английского. Лондон позволил овладеть разговорным, что было самым трудньм. Он не переоценивал своих познаний и искал практики с желанием и усердием отменным. Старался проникнуть в живую стихию языка: бывал на публичных лекциях, слушал уличных ораторов, не останавливался и перед тем, чтобы заглянуть в церковь. Язык дазался, это его радовало. Но язык, как все имеющее отношение к уму и памяти человека, требовал обновления. Ленин начинал беседу осторожно, особенно если сэбеседник был новым, а разговор официальным. Короткая реплика, быть может, повторяющая слова, произнесенные по–русски, давала возможность войти в атмосферу языка… Чичеринский английский, которым он поражал иностранных гостей, был активнее и в начале беседы.
– Наверное, самое интересное в русском эксперименте – это отношения между пролетариями и деревенскими собственниками, – произнес Буллит. – В самой природе этих групп, как мне кажется, заложен конфликт…
Ленин улыбнулся, ему были любопытны сомнения американца.
– У пролетариев может ыть конфликт только с деревенской буржуазией, как неизбежен конфликт с буржуазией села и у Советской власти… Ленин вернулся на свое место за столом, дав понять, что экспозиция к беседе закончена и он готов начать собственно беседу. – Итак, о чем же нам следует договориться? – вопрос был обращен в равной мере к Буллиту и Чичерину. – Есть смысл взглянуть, как дислоцированы наши силы?
Он обратился к столь безобидному иносказанию о дислокации, чтобы иметь возможность улыбнуться. Нет, тут не было ничего необычного для Владимира Ильича – постоянная ленинская потребность в шутке.
– Ну что ж, я готов обозначить расположение сил, – откликнулся на призыв Ленина Чичерин, не нарушив форму иносказания, которую предложил Ленин: дислокация. – Вот проект документа, где наши предложения собраны… Тут английский и русский тексты…
Чичерин положил перед собой документ, однако читать не стал, а всего лишь перелистал. Итак, конференция по перемирию, к ней, к^к к главному событию, сбегались пути. Если конференция соберется в мае, то Принцевы острова будут, пожалуй, горячи, тут и Мраморное море не остудит. Не лучше ли благословенный север, норвежский север'—Берген или та же Христиания? Кто–то говорил Чичерину: сады зацветают в Осло одновременно с Воронежем, а ветры над фиордами дарят прохладу, какой) нет нигде в мире… (Когда возвращался с Британских' островов на родину, Норвежское море, а вслед за тем Норвежский желоб в Северном море были яростно студены, с ледяными ветрами, валящими с ног, сутки никто не показывал носа на палубу!.. Но не скажешь <рб этом даже вот тут: Принцевы так Принцевы!..) Не мал ли первоначальный срок перемирия – что можно сделать за две недели при столь полярном противостоянии позиций? Правда, двухнедельный срок может быть продлен, но тогда есть смысл сразу отмерить месяц, а потом продлевать по мере надобности?.. Сигнал о перемирии должен точно припечатать войска к тем местам, где они находятся, ни шагу вперед! Как, очевидно, точно огранить и ограничить власть «правительств» над землями и населением, которыми они владеют к моменту перемирия, если под правительствами понимать и столь своеобычную силу, как Колчак и Деникин. А это уже из сферы поэзии: все флаги в гости будут к нам? Да, все флаги! Перемирие дарует право свободно принимать торговые корабли, как и слать свои. И это возвышенно, словно к нему прикоснулась поэзия: пленные возвращаются на родину, как, очевидно, все, кто был обвинен в симпатиях к новой России, выходят на свободу… (Разом встал в памяти достопамятный Брикстон, куда летом семнадцатого упекла Георгия Васильевича лондонская тайная полиция вкупе с российским временным поверенным Набоковым.) А это уже из сферы грешной прозы: страны Согласия отзывают свои войска из России. И последний пункт – к нему будет обращаться мировая дипломатия многократно, и через сто лет укоряя союзников: не оценили доброй воли большевиков, не воспользовались! – новое российское правительство, как, впрочем, и правительство Финляндии, признает свою ответственность за финансовые обязательства бывшей Российской империи перед иностранными державами, участниками соглашения.
Но Ленин захотел взглянуть на документ и сам.
– Предусмотрительный Чичерин лишил нас возможности скрестись шпаги, – засмеялся Владимир Ильич, и улыбка русского передалась американцу, оказывается, и серьезные дела Ленин умел делать с улыбкой. – Ну, давайте взглянем, что вы тут приготовили. – По тому, какой огонь возник в его глазах при виде стопки машинописных страниц, можно было подумать, что он видит этот текст впервые. – Взглянем, взглянем…
Теперь, когда он)опустил глаза, углубившись в чтение, Буллит мог рассмотреть его. Ленин сидел, склонившись над текстом, время от времени поднося ко рту карандаш, который не столько по необходимости, сколько по привычке держал в руках при чтении деловой бумаги. Руки словно удерживали бумагу от ветра, это были бледные руки человека, не очень часто бывавшего на солнце. Глаз не видно, тем выразительнее был его лоб, в эту минуту чуть склоненный, правильно округлая линия лба, чистота, ясная чистота. Он закончил чтение и поднял глаза, золотистые, светло–карие, с желтинкой глаза, заметно теплые.
– Хочу сказать сразу: тут наша добрая воля… – его рука легла на стопку машинописных страниц. – Не ищу иных слов: добрая воля! – он удерживал руку, точно желая подчеркнуть, что сказал еще не все. – Хочу, чтобы вы прониклись важностью того, что чувствуем мы. Наши предложения–это единственный в своем роде случай, он может иметь место только теперь, я говорю о весне девятнадцатого года, и никогда не повторится впредь… Заметьте, господин Буллит, никогда!.. – он задумался, охватив лоб, сейчас бледно–голубые извивы кровеносных сосудов стали выпуклыми. – И еще, господин Буллит, прошу понять нас и передать вашим коллегам… Не объясняйте нашу сговорчивость слабостью, она, эта сговорчивость, в нашем желании договориться… – он задумался, и вновь посветлело его лицо, освещенное улыбкой. – Одним словом, таких добрых большевиков, каких вы видите сейчас, вы никогда не увидите… Поэтому мой вам совет, господин Буллит: пользуйтесь случаем, пока не поздно!.. – Он обратился к Чичерин^: – Думаю, что есть смысл ограничить время, в течение которого мы готовы заключить договор, – месяц!.. – j– он взглянул на календарь. – Сегодня 11 марта, србк ответа, крайний срок– 10 апреля!
Ленин отстранил стопку машинописных страниц. Он это сделал, сдвинув стул и обратившись всем туловищем к американцу. Сделал не зез усилий, не иначе следствие ранения, его незримый рецидив – где–то рядом с шейным позвонком залеглг. пуля. В положении туловища есть точка, когда пуля напоминает о себе. Можно подумать, что русскому известна эта точка и, остерегаясь ее, он принимает позу, которую сейчас заметил и Буллит. Когда русский был ранен? В конце августа? Значит, минуло немногим больше полугода. Невелик срок.
– Я хотел бы обратить ваше ^внимание на частное определение, господин Буллит, д^я нас важное. – Ленин повел рукой, оттенив последнее слово «важное». – В событиях недавней нашей истории, как, впрочем, и нынешней, правительство Франции было… особенно активно, – он испытал легкое затруднение, пытаясь отыскать это «особенно активно», была бы его воля, он сказал бы резче. – Ее посол месье Нуланс счел возможным грозить нам интервенцией и был нами объявлен персоной нон грата, – он побледнел, видно, вспомнил, сколько огорчений доставил злокозненный француз. – Он настаивал на применении оружия к новой России, руководствуясь и корыстью – Нуланс владел у нас недвижимостью. Единственная наша вина, что крупная недвижимость была национализирована в России, но такова природа нашей революции, как вы понимаете, мистер Буллит, мы не делали исключения для месье Нуланса. – Он усмехнулся – французский посол вернул ему хорошее настроение. – Допускаю, что Франции будет труднее соблюсти условия перемирия, но, быть может, есть средства повлиять и на Францию, господин Буллит… – он продолжал смеяться, ему было хорошо сейчас.
Когда они вновь оказались на кремлевской площади и, обернувшись, Чичерин взглянул на Буллита, Георгий Васильевич вдруг увидел, что американец улыбается. Не иначе он 'вспомнил реплику Ленина о французском после, которого судьба погнала в Россию, игнорируя тот факт, что посол к этой миссии не готов… Как можно было понять Ленина, тут произошел один из тех казусов, когда Нуланс убедил себя, что обладает монополией истины… Да, своеобразный вид догматизма, догматизма, как это часто случается, от незнания, больше того, н/евежества, когда человек напрочь отвергает мнение других на том основании, что оно противно его догме… Верное средство проверить собственную правоту – это чуть–чуть усомниться в догме, но до этой простейшей мысли сознание человека не поднимается… Вот человек и закупорил себя в сосуд, во всех отношениях герметический. Элементарное решение – разгерметизировать баллон, но как это сделать, если человек Не хочет?.. Однако сфера деятельности догмы отнюдй не только политика, она, эта догма, утвердилась повсюду, куда трудно проникнуть свежему ветру мысли..] Однако это не голословно?.. В самый раз обратиться! к воспоминаниям: не голословно?
В достопамятном Брикстоне, в котором день был равен веку и разграфлен на периоды, отмеченные лишь чтением книг (чтение не возбранялось), в железную дверь чичеринской одиночки постучал надзиратель и сказал, что дошла очередь и до русского: священник Томас Керр, которому тюремное начальство разрешало беседы с заключенными, имеет возможность поговорить с Георгием Васильевичем. Нельзя сказать, что Георгий Васильевич ничего не знал о человеке, который в брикстонских коридорах был столь заметен, что одарен кличкой Обсыпанный Мукой. Однажды, когда друзья из лондонского рабочего листка «Колл» принесли Чичерину мешочек с апельсинами и урочные полчаса, отведенные на беседу с брикстонским узником, были на исходе, Керр возник в проеме входных дверей и, увидев русского, замер, как завороженный, не иначе русский был ему известен по рассказам узников Брикстона. Но успел рассмотреть священника и Чичерин. У священника действительно было лицо, будто обсыпанное мукой. Керр был обязан этим, как показалось Георгию Васильевичу, рыжей коже лица, защищенного от прикосновения солнечных лучей толстыми стенами епископальной церкви, а возможно, и Брикстона, где он был не столь уж редким гостем. Не очень–то вязалась со священником его вторая кличка – Философ, но хотелось верить, что кличка эта верна, брикстонская молва так грубо не ошибалась.
И вот священник встал в дверях чичеринской камеры и чуть–чуть растерялся, обратиЬ взгляд на высокие чичеринские ботинки на застежках–крючках, которые так выручали Георгия Васильевича от студеной сырости Брикстона, студеной даже в удушливое лондонское лето.
Наверное, у священника был свой ритуал беседы с узниками Брикстона, свой жесткий план, и он начал без обиняков:
– Шел сюда и думал, как русский марксист относится к Лейбницу… – разом в глазах священника погасли веселые искорки. – Что гов 0 рит ему, например, такой афоризм Лейбница: «Не сражайтесь с богом – зовите его на помощь»?..
И этот не минул Лейбница!.. Однако почему не минул? Не потому ли, что захотел воздать должное ученым доблестям великого немца? Нет, разумеется. Просто для теологов нет имени актуальнее. Ученый, далеко не все идеи которого абсурдны и для марксистов, не прогнал бога – не в этом ли ответ?
Но чичеринский гость уже собрался с силами, мысль, которую он сейчас изречет, суть концепция.
– Если верно, что в природе скрыто духовное, нематериальное начало, которое есть начало жизни, а поэтому движения, то верно и утверждение Лейбница, который полагает, что мельчайшие частицы, из которых слагается мир вещей, окружающих нас, духовныг не так ли?
Чичерину казалось: когда священник вертит головой, то с его лица действительно сыплется нечто похожее на муку и сутана священника на груди становится белесой. Итак, формула Лейбница – Керр изложил ее чуть школярски, но от сути не ушел.
– Не означает ли все сказанное, что в мире есть творец, давший жизнь всему живому? – спрашивает Георгий Васильевич.
– Именно это я и хотел сказать, – подтвердил чичеринский собеседник с готовностью, ему казалось, что Георгий Васильевич облек его мысль как раз в те самые слова, которых Керру не хватало.
– Простите, но Лейбниц жил в восемнадцатом веке, и это единственная его вина. Если во времена Лейбница можно еще было говорить о способности природы чувствовать, то позже утверждать это было труднее…
– Но Лейбниц – это наука? – настаивал пастырь.
– Наука, разумеется, но тот самый ее день, который следует признать прошедшим…
– Но тогда что есть день непрошедший, – усмехнулся чичеринский гость.
– Все, что произошло почти через сто пятьдесят лет и явилось для церкви громом среди ясного неба…
– Однако что вы зовете громом?
– То, что сшибло науку и теологию в последней битве и, как мне кажется, навсегда лишило теологию права называться наукой…
Собеседнику Георгия Васильевича надо было бы задать следующий вопрос, но он смолчал. «Значит, лишило теологию права называться наукой?» – мог переспросить Керр, но он не решался спросить, полагай, что на этом спор с брикстонским узником закончится.
Возникла пауза, да такая прочная, что вдруг стадо сдышно, как гремят ключи в руках тюремного надзирателя, идущего по коридору.
– Я все–таки отважусь спросить: что вы зовете громом среди ясного неба? – он сощурился и, отыскав взглядом в сумерках, сгустившихся с наступлением вечера, чичеринские ботинки с застежками–крючками, отвернулся. Вопрос, заданный Чичерину, между тем жил в сознании Керра, его мысль работала напряженно. – Как понять это сравнение с громом? Что такое гром для святой церкви?.. Если вы имеете в виду Дарвина, то я скажу, что для меня Лейбниц одареннее Дарвина, душевно богаче… Дарвин – фанатик идеи, далеко не во всем убедительной, Лейбниц – личность, покорившая своей значительностью и, пожалуй, обаянием всех своих великих современников, кстати, и вашего Петра…
Чичерин рассмеялся – обращение к Петру было приемом запрещенным.
– Можно подумать, что для современной церкви у всевышнего второе положение, в то время как у Лейбница первое?..
Священник встал, в реплике Чичерина для Керра было нечто горькое.
– Думаю, что буду недалек от истины, если предреку: еще в наше время церковь причислит Лейбница к лику святых…
Чичерин улыбался, в то время как лицо Керра было грозным.
– Когда я говорю о Лейбнице как об ученом, я даже имею в виду не его учение о нематериальных элементах вселенной, а его труды по математике, в которых он дополнил Ньютона…
– Но какое отношение это имеет к существу нашего спора? – спросил Чичерин, он понимал, что Керр уводит спор в сторону, смещает его, разумея, что в главном его позиция уязвима.
– Самое прямое… Для меня доверие к личности ученого имеет не меньшее значение, чем доверие к его доводам… парировал Керр, он удерживал спор на почтительном расстоянии от сути. – Что я имею в виду, когда говорю о доверии? Лейбниц – Леонардова фигура, сын Ренессанса, питомец Возрождения, такой универсальности не было. Математик и физик, геолог и биолог, историк и лингвист, Лейбниц тем не менее не был дилетантом. И это характерно для человека Леонардова типа, наши познания о дифференциальном исчислении, как и наше представление о законе сохранения энергии, неотделимы от имени Лейбница… Что Дарвин перед Лейбницем?
– Простите, но для меня Дарвин–это мой взгляд на мир, больше того, истоки веры, в то время как Лейбниц – ученый муж, фигура действительно колоритная, но не безусловная. В мире моих мыслей Лейбниц оказался отнюдь не со щитом, и я не могу с этим не считаться… Я делю Лейбница надвое: принимаю математика, отвергаю философа…
– Разве личность… делима? – вдруг оживился Керр. – Чтобы понять личность, важно не нарушить ее цельности, не так ли?..
– Пожалуй, хотя в данном случае мы были корректны до конца, – согласился Чичерин. Спор был решен, и пришло время выказать великодушие. «Там, где можно согласиться, надо согласиться», – сказал себе Чичерин.
22
Сергей Цветов собрался в Сокольники. Думал, Герман уже знает о его приезде и ждет его. Небось нетерпение поселилось в брате, нетерпение, которому все нипочем: и высокий Германов пост, и крутые повороты натуры Германа. Это нетерпение прогнало брата из дому. Быть может, встал у калитки и глянул в перспективу просеки. Просека – что труба подзорная: все, что лежит в поле ее сильных линз, видно как на ладони. Надо, чтобы брат вошел в это поле, а там и его немудрено увидеть… Истинно не просека, а телескоп…
Однако все случилось по–иному… Сергей готов был снять пальто с вешалки, собравшись в Сокольники, и сунуть под мышку сверток с консервами, когда в дверь постучали. Стук был осторожным, будто этим стуком выражалось сомнение, стучать или нет… Сергей открыл дверь. На пороге стоял человек в тулупе и ушанке, ни дать ни взять мужик, пригнавший по снежной дороге санный возок с дровами.
– Не признаешь, брат? – вымолвил человек, распахивая тулуп, и не столько по характерному прищуру светлых глаз, сколько по замаху руки, с которым он рванул полу тулупа, а еще больше по голосу Сергей признал Германа.
– А дядя Кирилл сказывал давеча, что ты директор Азово – Черноморского банка! – расхохотался Сергей.
– А я и есть директор банка, да только не Азово – Черноморского, который приказал долго жить, а Государственного! – произнес он и несмело шагнул в комнату.
– Тогда стягивай свою овчину… директор! – произнес Сергей и протянул руки, намереваясь сбросить с брата тулуп. – Стягивай!..
Но старший Цветов отвел его руки.
– Да надо ли… стягивать? Надевай свою об шну ты, я за тобой!
Герман шагнул в полосу света, взяв в руки ушанку, и Сергей увидел, как виски брата подпалило дымное пламя седины.
– Однако седина приходит с производством в генералы! – бросил Сергей с несвойственной лихостью – не будь то Герман, пожалуй, не решился бы на такую вольность.
– Уж больно время щедрое на седины, сребрит напропалую – и генералов, и солдат! – ответствовал старший Цветов и, запахнув тулуп, поднял над головой ушанку. – Пошли, брат…
Госбанковский «паккард», громоздкий и дребезжащий, двинулся в Сокольники, взрывая оттаявший за день снег и разбрызгивая его по сторонам.
– Небось горько на чужой стороне, брат? – спросил Герман, когда автомобиль набрал скорость. – Горько… согласись?.. Он сказал «согласись», и Сергей услышал его тихое посапывание – брат спал. Он спал, вобрав в тулуп голову, согнув ноги, толстая шерсть тулупа угрела его, у него не было сил противиться теплу.
На Москву уже пали сумерки. Когда автомобиль въехал на заметно темную Мясницкую, шофер включил фары. На поворотах огни автомобиля упирались в тротуар, и толпа испуганно шарахалась. Этот свет, непрошено врывающийся во тьму, точно перелицовывал городскую улицу, выворачивая ее наизнанку. У Красных Ворот он выхватил из тьмы человечка в овчинном тулупчике, припертый светом фары к стене, он вытаращил глаза, с перепугу белые, А спускаясь по булыжнику к трем вокзалам, фары нащупали во тьме паренька в красноармейской шинели, он сидел на краю мостовой, и его большие руки скручивали на опорках проволоку. В тот летучий миг, в течение которого фары задержались на пареньке, Цветов рассмотрел, что подошва напрочь отлетела от опорок и человек в красноармейском шлеме пытался прикрепить ее к союзкам с помощью проволоки. А войдя в пределы площади перед вокзалами, автомобиль должен был вовсе остановиться, увязнув в толпе. Толпу ничто не могло поколебать: ни урчание автомобильного мото–ра, ни всполохи фар, ни утробные стоны сирены, которые издавала «резиновая груша», железно сжимаемая пятерней шофера. Путь «паккарду» преградила дюжина старух, безбоязненно двигавшихся на автомобиль, обхватив ведерные кастрюли, закутанные в детскую шубейку, телогрейку, а то и в ватное одеяло… Ну, все понятно, на большой московской площади шла торговля щами, и не было силы, которая бы могла помешать этому.
– Чуешь? – проснулся Герман. – Небось подумал: «Здесь русский дух…» Нет, скажи, подумал?
– Подумал о другом.
– О чем?
– Как это ты мог уснуть, брат? Герман молчал.
– Прости, Сергуня… веришь, двое суток не спал. До дому еще было порядочно, но разговор не шел.
Сергей встревожился: «Что же это такое? Или я для него так мало значу или на самом деле он две ночи не спал? Если не спал, то почему? Что я знаю о его жизни? А коли не знаю, могу ли я судить его? Судить – значит, явить привилегию. Откуда она у меня? И за что я обрел ее? За какие доблести? Перед кем?»
Когда Сокольники поднялись темной горой своих сосен и в перспективе глянуло правильно вырубленное ущелье родной просеки, Сергей приготовился увидеть острый конус крыши родительского дома и огни по фасаду – так хотелось, чтобы дом приветствовал его огнями. Но дом был темен, тревожно темен.
Они отпустили машину и снежной тропкой, которую высинила вечерняя тень, пошли к дому. Уже пройдя половину двора, Сергей приметил в кухонном окне желтое пятно керосиновой лампы. Он оглянулся вокруг, сколько мог обнять глаз, дома повсюду были темными – не иначе, электростанция отключила свет… Герман постучал, за окном дернулась тень, и прямо перед глазами встало искаженное разводами стерла лицо няни. Сергей не мог не приметить, какой неправдоподобно белой привиделась седая прядь, упавшая на щеку, и как велики стали вычерненные тенью глазницы, особенно черные в сравнении с белой прядью. Он вошел в дом и увидел над собой на лестничной площадке старую женщину и еще раз должен был сказать себе: чтобы понять, как это долго – пятилетие, надо смотреть на стариков. Няня словно побывала под прессом лет, непонятно укоротившись и как–то раздвинувшись – ноги пошли дугой, да и руки в пору ногам изогнулись; выперли заострившиеся локти.
– Принимай, старая! – сказал Герман.
И то!.. – няня поднесла ладонь козырьком к глазам, как в открытом поле. – И какими ветрами тебя прибило, Серега! – она охватила его руками чуть повыше поясницы, ей было сподручно ухватить его в свои полукольца. – Вот так: гоняет ветер по морям, по волнам, вроде гоняет без глаз, а прибьет как надо… А?
– Как Лариса… не припоздает нынче? – подал Герман голос сверху. – Когда обещала быть?
– Лариса? – она подняла руки, неопределенно мотнула. – Ты полегче вопрос припаси. Лариса. А я почем знаю, когда она будет… она пошла к печи, раскачиваясь, точно одна из ее кривых ног была покороче другой. – А Полкан наш жив!.. Видел, говоришь? До чего умна собака! Как человек, только не говорит!.. Видел, значит? – она качнулась к двери, открыла. – Полкан, Полкан!.. Совсем слышать перестал!.. Вот сейчас приоткрою дверь пошире, явится… – в дверях Возник Полкан, устремил заспанные глаза на Сергея, долго смотрел опознавая. – Не узнаешь? Это Серега!.. Ему надо пошибче крикнуть: Серега! Наш Серега!.. – собака ткнулась мокрой мордой в руку Сергея, пошла прочь. – Глаза померкли, да и уши затупились, а нюх остался! Он им, этим нюхом, и видит, и слышит – нюх, нюх и опознал! Вот так и остались горе мыкать три старика – я, Полкан да старая сосна за сараем, она старше всех нас!.. – Няня задумалась, жалостливо сложив на груди руки. – При тебе эта сосна была еще зеленая, а сейчас правый бок ей выжелтило… Небось решил жениться, Серега?
Он повел плечами – вопрос был неожиданно прям.
– Не знаю!
– И возвернуться не надумал?
– Не знаю!
Она подняла руку, неверно повела ею, точно оттолкнула его.
– А ты знай!..
Она вобрала губы, двинула рукой, отводя упавшую прядь; в жесте была молодая бойкость, которую и годы не берут.
– Никого не слушай, внемли мне! – она смотрела на него, непонятно сокрушаясь. – Моя родительница прожила, почитай, тьму годов. Я уж была бабкой, а она все меня принимала за несмышленыша… А? «Вот запомни, Настенка: кто любит тебя за красоту, кто за богатство, кто за руки золотые, и только в доме отчем любят тебя такой, какая ты есть… Вот и мой тебе наказ, Серега: промотаешь завалящие свои копейки, что еще хуже, состаришься, а то обратишься в калеку, и погонят тебя, как зряшнего, будто грош тебе цена! Отовсюду погонят!.. Отовсюду, да не отовсюду – в отчем доме примут!.. Только и есть на свете один дом, в котором ты всегда красивый, Серега, всегда молодой, всегда богатый!.. А?..
Герман кликнул Сергея наверх, где в тишине да в сумерках развернул он куда как небогатую скатерть–самобранку, сверток, привезенный братом, явился великой подмогой,
– Как «Эколь коммерсиаль», одолел? – спросил Герман, когда они сели за стол.
Ну что ему скажешь? Не вразумишь, что учение, даже одарившее тебя истинными знаниями, во сто раз тяжелее на чужой стороне. Незримая мета расколола тебя, сердце оставив в родной стороне, а тело бренное кинув на чужбину.
– Как «Эколь», брат? – настаивал Герман, стараясь наладить разговор, у него все еще было сознание вины.
– Окончил, разумеется.
– И должность схлопотал, Сережа?
И тут всего не объяснишь. Иван Изусов готов и впредь благодарно беречь память о дяде Кирилле, но что для железного человека, каким всегда виделся Сергею Изусов, память сердца? Все, что неподвластно
деньгам, отнесено хозяином к ценностям сомнительным и достойно единственного – осмеяния.
– Говорю, должность при тебе, брат?
– Выходит, так.
– И корни пустил? Ты что, не понимаешь? Спрашиваю: женился или все еще холостой?
И он тоже: женился? Дина, Дина, где ты? Господи, что бы он отдал, чтобы повидать ее. Вот этот магнит всесильный, который его притягивал к ней, где он помещен: в самой сини ее глаз или в руках, которые в минуту волнения начинали дрожать? А может быть, он в ее коже, которую не брал и свирепый парижский загар… Вспомнилось, как утро застало их в излучине Сены и в предрассветном дыму вдруг встала зеленоокая Венера, и Динка вскрикнула: «Я никогда не видела ее такой яркой, меня слепит, я щурюсь!..
– Спрашиваю: женился ты или все еще холостой?
– Холостой…
Герман вдруг всполошился, крикнул что было мочи:
– Настенушка, карабкайся к нам, да пошибче!
– Ты дай твои ноги, тогда, пожалуй, я и вскарабкаюсь… – вымолвила она. – Мне до тебя, как до неба!
Она двинулась наверх, и старая лестница взъярилась и заохала – до сих пор как будто бы была безъязыкой, а тут высвободила стон, что таился в ней.
– Дай бог памяти, когда я тут была? – спросила няня после того, как верхняя ступенька была побеждена. – Не было бы тебя, Серега, пожалуй, не решилась бы лезть на небо! – произнесла она, переводя дыхание. – Теперь уж до того раза, когда на постоянное жительство к богу… – она взглянула над собой, того гляди, продолжит путь к высокому высоку.
– Садись, старая, вот тут… – положил Герман руку на стул рядом с собой. – Значит, свободен, как птаха? – обратился он к брату.
– Выходит так, как птаха… – согласился Сергей не очень охотно – почуялось, что реплика брата предваряла разговор крутой.
– Ну, ежели говорить о птахе, то и она, как пригреет солнышко, чистит перья, чтобы отправиться в путь…
– Чистит, родимая, перышки, чистит, – поддержала, смеясь, няня, еще не разобравшись, куда Герман клонит разговор.
– Ты это к чему, Герман? – поднял строгие глаза Сергей. – К чему?..
– Ты полагаешь, что твои знания нужны Франции и не нужны России? У тебя есть сомнения? Ты что молчишь?
Сергей задумался – и в голову не могло прийти, что вот так вдруг, без подготовки да еще при няне Герман затеет этот разговор.







