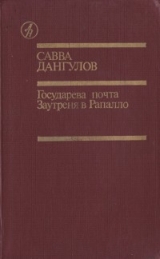
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
– Вилла «Альбертис»… там? – спросил он, глядя в поднебесье, сейчас заваленное облаками. – Холм Куарто–де–Милле?.. Ничего не скажешь: набожный Ллойд Джордж расположил свою резиденцию ближе к богу, – заметил он, смеясь; у него вдруг появилась потребность в иронии. – Без помощи всевышнего, пожалуй, на этакую гору не взберешься…
Мы вернулись часу в одиннадцатом. Убедившись, что чичеринские апартаменты освещены, Красин поднялся к нему. В сознании жило это Ллойд Джорджево: «Если согласен мистер… Чи–чи–че-рин». Теперь уже ясно, что поединок Ллойд Джордж – Чичерин не отвратить. Однако что надо знать, чтобы проникнуть в существо поединка?
Его привычное состояние – столкновение мысли. Когда нет оппонента, он придумывает его, наделяя достоинствами, которых подчас не имеет сам. Начиная спор, он не прочь отпустить остроту и в свой адрес – самоирония в нем очень сильна. В этом случае он говорит: «Чтобы познать, надо быть более образованным, чтобы отрицать, такого образования не надо». Оппонент, которого он придумал, скрестив с ним шпаги, единоборствует с его системой взглядов – иногда мне кажется, что это форма войны с идеями, которым он объявил войну не на жизнь, а на смерть.
«Вы обращали внимание на такой парадокс: философия того, что мы зовем христианством, не так беско^ рыстна, как нам кажется? – сказал мне Георгий Васильевич однажды. – В самом деле, что может быть более возвышенным для человека, чем сознательное от–давание себя. Никакой награды! Сам отдал себя, свою жизнь, потому что сам решил, без принуждения, сам из себя. (Наверно, для его лексики характерно это «сам из себя», сегодня так никто не говорит.) Да нравственна ли тогда философия христианства, узаконившая своеобразные награду и наказание – награду раем, наказание адом? Да не жесток ли этот бог карающий? Я был бы подлецом, если бы остался в раю, когда несчастные мучаются в аду…»
У того, что мы зовем благородством, есть одна мера: бескорыстие. Но у чичеринского бескорыстия вполне реальный герой. Нет, не абстрактный, а вполне земной, вызванный к жизни и российской действительностью, которую Чичерин знает. «Безвестные могилы в Сибири, за Полярным кругом, океан мучений и лишений, который добровольно претерпели эти великие мученики…» Именно у чичеринского бескорыстия, храброго, реальный прообраз, мученик революции. Не случайно он сам отыскал этот образ и повторил многократно: великий мученик, а следовательно, воитель, а может, и подвижник.
В братстве русских гонимых, будь то Париж или Лондон, Чичерин никогда не жил лучше других. Те, кто помнит его парижское житье–бытье, сберегли в памяти его более чем скромное жилище в пригороде французской столицы с овальным окном под потолком, которое было столь сумеречным, что письменный стол пришлось водрузить на специальный помост, чтобы быть ближе к свету. Те, кто знал его по лондонской страде, помнят его комнату, заваленную книгами, – было нечто петербургское в этой чичеринской каморке: лондонский Ист – Энд напоминал Черную речку, где сановный Петербург поселил бедных мастеровых и студентов. Да и сам Чичерин своим обликом сделался похожим на бедного департаментского служащего: холодное деми, ботинки, полуприкрытые теплыми гамашами, большой шерстяной шарф вокруг шеи – с дет* ства он был подвержен простуде и старался держать горло в тепле.
Наверно, он мог жить лучше: ему удалось перевести за границу немалые суммы, доставшиеся по большому чичеринскому завещанию. Но он справедливо полагал, что деньги принадлежат не столько ему, сколько русскому мужику, добывшему их своим потом. Следовательно, у этих средств может быть единственно разумная статья расхода: русская революция. Как свидетельствовали старые партийцы, лондонский съезд финансировался и из чичеринских сумм.
Но вот что обращало внимание: съезд начался и завершился, а в чичеринскую папку, которую завела на него английская тайная полиция, легла строка, несмываемая. Не было строки важнее для полицейских клерков весной семнадцатого года, когда русские хлынули на родину. Бдительные клерки не без деятельной подсказки российского посольства решили установить своеобразный фильтр для возвращающихся на родину.
На лондонской Чешем плейс, где находилось российское посольство, послу Набокову противостоял Чичерин. Да, именно Чичерина колония русских изгнанников облекла правом говорить с посольством. Чичерин был резок, быть может впервые в своей жизни так резок: известный каламбур об Александре Федоровне и Александре Федоровиче, которым не моргнув глазом попеременно служил Набоков, принадлежал Чичерину и был произнесен во время аудиенции на Чешем плейс. Посол дал на это свой ответ: по сигналу с Чешем плейс Чичерин стал узником Брикстонской темницы – союзническая солидарность обретала и такие формы.
Но ответственность за Брикстон несли и англичане, при этом не в последнюю очередь Ллойд Джордж – его правительство упекло Чичерина в брикстонские застенки. Революция своеобразно ответила и Ллойд Джоржу, сделав узника Брикстона министром иностранных дел и послав его во главе делегации новой России в Геную. Конечно, тут есть и случайное стечение обстоятельств, Ллойд Джордж мог и не знать об аресте Чичерина, а назначение Георгия Васильевича главой делегации могло быть сделано и вне связи с брикстонским эпизодом, но у истории хорошая память: человек может забыть и, пожалуй, простить, история – никогда. По крайней мере Ллойд Джордж, садясь за стол переговоров с Чичериным, не может не знать, что собой представляет делегат русской революции и какой смысл несут лондонские страницы его биографии.
«Если согласен мистер… Чи–чи–че-рин!» – в этой формуле, казалось, была полная мера терпимости. Однако как оно будет на самом деле?
Б этот раз наш автомобиль как бы набросил на холм десять колец одно уже другого, и мы на Куарто–де–Милле у монументальных врат виллы «Альбертис». А врата, как и ограда, идущая от них, действительно монументальны: все сложено из камня, очевидно добытого где–то рядом, и построено на века. Рисунок парадных ворот и ограды, как и сам камень, из которого они возведены, повторен в особняке: видно, обширная усадьба «Альбертис» возводилась с одного удара и не перестраивалась, поэтому стиль ее так един.
Хозяин виллы вызван по делам в город, и нас встречает его молодая супруга, в которой светскость сказывается и в умении завязывать узелок беседы, при этом и на отвлеченные темы. Тех двухсот метров, которые легли от ворот до особняка, было достаточно, чтобы историю особняка на генуэзском холме Куар–то–де-Милле воссоздать в деталях. Ну, разумеется, это фамильное гнездо. Оно построено триста лет назад и ревниво охранялось от посторонних даже в пору столь грозных событий, как минувшая война. Не без раздумий хозяева дали согласие на то, чтобы вилла стала резиденцией Ллойд Джорджа. Отдать виллу даже на несколько недель значит непочтительно обойтись со святая святых семьи – ритмом жизни, что складывался столетиями и казался неколебимым. Но к хозяевам виллы обратился кто–то из сильных мира сего, и строптивость была укрощена. Хозяева обнаружили покладистость, не свойственную д'Альберти–сам, и удалились во флигель. Только подумать: во флигель!
А сейчас молодая д'Альбертис шла, полусклонив голову, небольшая, светловолосая, белолицая, бог знает как уберегшая лицо от здешнего свирепого солнца; впрочем, на высоте одиннадцати колец холма Куарто–де–Милле солнце, возможно, и не так свирепо, как у моря. Рассказывая, она то и дело обращалась к Красину – то ли его английский вызывал в ней большее доверие, то ли то изящество врожденное, которое было свойственно ему и позволяло вопреки сединам выглядеть моложе. В те редкие минуты, когда Красин поднимал глаза на молодую женщину, взгляд его был заметно пристален и строг. О чем он мог думать в эту минуту? Наверно, он раздумывал над тем, что зтой молодой женщине нравится амплуа хозяйки большого поместья, что у нее есть потребность обнаружить перед русскими гостями это свое качество и что она тут, наверно, чуть–чуть подражает своему мужу, который сейчас в городе договаривается о поставке дополнительных десяти тонн угля, чтобы британский премьер не дай бог не замерз на вилле «Аль–бертис». И еще мог думать Красин: а нельзя ли, глядя на жену, заметно влюбленную в своего супруга, представить себе его облик? В самом деле, какой он, этот граф дАльбертис? Наверно, коричневобородый итальянец, бронзоволицый и массивный, именно такой может быть без ума от маленькой блондинки… Нет, есть смысл отдать себя игре воображения, засечь возвращение графа д'Альбертиса из города и проверить себя: такой он?
– Когда я думаю о Моцарте, я зову на помощь пушкинское «Моцарт и Сальери»… Зову на помощь! И знаете, что мне кажется прозорливым в толковании Моцарта, как его понял Пушкин?.. Именуйте это как хотите, но тут существо Моцарта: тема смерти… Пушкин точно пробудил эту мелодию, она у него звучит как предчувствие трагического конца, как видение гробовое, а на самом деле обнажает Моцартову тему, близкую сути его музыки… Простите меня, но Пушкин это ухватил с превеликой прозорливостью. Не скажу ничего нового, если напомню: ложное представление о Моцартовой веселости – это как раз то, что мешает нам подойти к композитору. Это восприняли не столько современники Моцарта, сколько наши современники, познавшие композитора так, как его при жизни не знали, как, впрочем, и вскоре после смерти. Пушкин был одним из первых, кто проник в это. Да не пророческим ли было вот это пушкинское: «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь мне кажется, он с нами сам третий сидит…» Но Пушкин в точном соответствии с существом Моцарта перебил тему смерти иронией – она точно луч солнца рассекает мрак. Это Моцарт говорит Сальери:
«Да, Бомарше ведь был тебе приятель; ты для него «Тарара» сочинил, вещь славную. Там есть один мотив… Я все твержу его, когда я счастлив… Ла–ла–ла-ла… Да, именно чередование солнца и мрака, отчего солнце резче и мрак непобедимее. Не об этом ли говорит и конец этого пассажа? Вот он: «Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого–то отравил?» Вызывает изумление, с какой точностью поэт тут провидел. Есть свидетельства о предсмертном часе Моцарта, именно предсмертном: уже холод сковал его члены, уже тьма подступила к глазам и уже сомкнулись губы и ничто не в состоянии было их разъять… Нет, простите, они отворились, и отворила их улыбка. «Известный всем я птицелов, я вечно весел, гоп–саса!» – не пропел, а прошептал Моцарт песенку своего Папагено и с песней этой на устах ушел в мир иной… Моцарт!.. Говорят, что «Моцарт и Сальери» была единственной пушкинской вещью для театра, которая увидела сцену еще при жизни поэта. Мы–то знаем, что это достойно.
Нас вводят в большой зал особняка, и невольно глаза стремятся обнять все пространство зала. Нет, дело даже не в размерах, в обилии света и воздуха – зал очень хорош по своим пропорциям. Да, соотнесены размеры, соотнесены так точно, что уже одно это делает зал в какой–то мере неповторимым. Как по сигналу дверь, встроенная в торцовую стену зала, распахивается, и в зал входит Ллойд Джордж. На нем сегодня темный костюм, отчего его седины кажутся заметно яркими. Чтобы достичь середины зала, где теперь находится советская делегация, ему надо пройти метров двадцать. Пока он идет, есть возможность продолжить наблюдения и рассмотреть такое, что не удалось увидеть прежде. У него уже стариковская походка. Он косолапит, заметно припадая на левую ногу, при этом руки остаются в такой мере неподвижными, будто бы они ему не нужны. Приглашая сесть, он не без труда поднимает правую руку, в то время как левая не очень–то обнаруживает признаки жизни. Но опустившись в кресло, он словно оживает, при этом в движение приходят и руки.
– Итак, что будем делать, господа? – спрашивает он.
В вопросе Ллойд Джорджа есть свой смысл: встреча экспертов, предварившая нынешний диалог, была трудной.
– Быть может, есть резон выслушать экспертов? – спросил Чичерин: он хотел разговора без недомолвок, разговора, когда бы все вопросы были заданы, все ответы получены.
– Ну что ж, я согласен. А как мои коллеги? – произносит валлиец, обращаясь к Барту и его спутникам, которые с церемонной медлительностью вошли сейчас в зал; поклон француза, едва заметный, был призван выразить возможную холодность по отношению к русским. – Быть может, все вопросы суждено решить за этим столом, – пояснил британский премьер, теперь прямо обращаясь к Барту, и указал на овальный стол на круглых точеных ножках, за которым сейчас сидели делегаты; все, кто находился в зале, пристально, хотя и недоверчиво взглянули на стол – стол вдруг обрел значение, какого не имел прежде.
– Решить или не решить? – усмехнулся француз, ирония была очевидна.
– Или не решить? – заметил Ллойд Джордж, улыбаясь. – Как вы? – спросил он русских. – Ну, предположим, завтра в четыре?
Чичерин в знак согласия смежил веки.
– Мы готовы быть, – произнес он. – Готовы… – повторил он, в этом его повторении «готовы» было слишком заметное желание не говорить большего.
Ллойд Джордж встал, приглашая русских в комнату рядом, из которой он вошел в зал, в то время как его коллеги с веселым вниманием наблюдали за происходящим – казалось, что он повел русских в соседнюю комнату с их ведома.
Мы вошли в комнату, и с предупредительностью, в какой–то мере обдуманной, Ллойд Джордж закрыл дверь, точно преграждая своим коллегам дорогу сюда; комната, в которую мы вошли, была неожиданно мала, казалось, она не имеет права быть такой рядом с залом.
– Я разговаривал с Виртом, – произнес он, возлагая руку на письменный стол и точно давая понять этим, что разговор будет коротким. – Перед немцами перспектива выбора, наверно, в такой же мере, как и перед русскими…
Он поднял смеющиеся глаза, и мы увидели, что стоим перед фреской, воссоздающей известное полотно «Парис с Герой и Афродитой», – в жесте Париса было желание, но не было энергии, он не столько выражал собственную волю, сколько уповал на волю женщины.
– А знаете, мне любопытна эта картина… Выбор, нет ничего труднее выбора, не правда ли? – засмеялся неунывающий валлиец. – Вы одобряете выбор Париса, нет, скажите искренне: одобряете? – вдруг обратился он к Чичерину. – Я бы поступил иначе! – воскликнул он, не дождавшись ответа.
Чичерин приподнял плечи, утопив в них шею, глубоко утопив, на поверхности, казалось, осталась только борода.
– Не знаю. – Русский не выразил большого желания продолжать этот разговор, он для русского был деликатен. – Ей–богу, не знаю!..
Ллойд Джордж подмигнул понимающе, хотя русский и не дал ему ответа.
– Мне иногда хочется поставить перед этой картиной и канцлера Вирта, – произнес валлиец: конечно же, ему была интересна эта картина только в той мере, в какой она давала возможность исследовать самую проблему, которой был сейчас занят его динамичный ум. – Истинно нет ничего многотруднее дилеммы выбора… – Он не без усилия отлепил ладонь от поверхности стола, отвел голову – сейчас глаза Чичерина были ему хорошо видны. – Вы не согласны со мной?
Чичерин, как мне казалось, мог подумать: по тому, что у деятельного валлийца был соблазн подвести к фреске и немца, проблема выбора становилась для одной и другой стороны актуальной.
Хвостов приболел, и я поднялся в его келью под матицами. На столе стоял стакан с марганцовкой, и воз? дух был пропитан дыханием валерьянового корня. Хво* стов лежал опрокинувшись, заломив руки, подле уга* дывалась сколка машинописных листов.
– Не иначе трехколонник для «Известий»? – спро* сил я.
В его взгляде явилась пасмурность:
– Есть желание прочесть, Николай Андреевич?
– Готов.
Он безбоязненно придвинул машинописные страницы ко мне. Окно было полузашторено, и я подсел к подоконнику. Странное дело, но я почувствовал, как утоньшилась кожа у меня на спине, и я ощутил, как его тяжкое дыхание ударяется мне в спину. И не только дыхание: вздох, нетерпеливое покашливание, едва слышный клекот разомкнутых губ. Одним словом, это были муки ожидания, муки – встреча со мной обрела для него смысл, который выходил за пределы наших с ним отношений. Я мог сделать его почти счастливым, и в моей власти было глубоко разочаровать его.
Видно, моя бедная спина, принявшая все удары этого утра, меня и выдала. Хвостов рассмотрел в ней согбенность, в которой было мало радости.
– Ну как? – не выдержал он. – Говорите, говорите… не пытайте. Вижу: плохо.
Я молчал. Вспомнил хвостовскую формулу дерзания: «Человек должен решать задачу, которая больше него». В' данном случае это была как раз такая задача, но она не подняла человека до своих высот, а, как бы это сказать поделикатнее, покарала его.
– Ну вы можете сказать слово? Боитесь?
– Боюсь, – не утаил я от него. – Надо показать Георгию Васильевичу.
– Ну вам и карты в руки, покажите, – произнес он.
Если быть откровенным, то мне бы не хотелось нести статью Чичерину. Я не виноват, но само прикосновение к несчастью, самое легкое касание, делает и тебя повинным в этом несчастье.
Одним словом, я взял статью и передал Чичерину.
Часов в одиннадцать я обычно шел к Чичерину с почтой, которая накапливалась за вторую половину дня. Пошел я и теперь. Он стоял у окна, из которого доносился шум дождя и явственный, столь характерный для ранней весны запах молодой листвы, смоченной дождем.
– Ничего не знаю прекраснее дыхания весеннего сада, – произнес он и, казалось, приблизился к окну. – Нет, что ни говорите, а нам с вами повезло – апрель и для Италии лучшее время года… – Он отошел от окна, и я увидел в его руках стопку машинописных страниц. – Что будем делать, Николай Андреевич? – Он осторожно положил статью передо мной.
В его словах была и оценка того, что он только что прочел, хотя на этот счет прямо не было сказано ни единого слова.
– А может быть, отослать «Известиям» – и пусть они сами разговаривают с Хвостовым? – Поставив вопрос так, я как бы выводил из–под удара и Чичерина.
– Ну что ж, это, пожалуй, хорошо, но тогда бремя ляжет на плечи Хвостова, все бремя – да справедливо ли это? – Георгий Васильевич точно проник в смысл моих раздумий и устыдил меня. – Надо говорить с Иваном Ивановичем, но тут есть риск немалый…
– Какой, Георгий Васильевич?
Он вновь подошел к окну, посвободнее раскрыл створки, сказал не мне, а кому–то там, за окном!
– Сумеет ли смирить гордыню, поймет ли?
– Но тогда тем более надо доверить этот разговор «Известиям», не так ли?
– Нет, нет, это как–то нехорошо…
Он недосказал, а было искушение сказать так, как это слово вызрело в его сознании: «Нет, нет, это как–то нехорошо, не по–рыцарски». Не знаю, так ли хотел сказать Георгий Васильевич, но моему сознанию его ответ рисовался именно так: «Не по–рыцарски».
Рабочая комната Маши выходит на дорогу, которая разделяет Санта – Маргериту и Рапалло. Красный особняк, где обосновалась немецкая делегация, прямо перед окном. Виден въезд в особняк, полузастланный плющом, и дворик, тщательно выложенный камнем, старые деревья с ветвистыми кронами, по–апрельски ярко–зеленые и густые, как все деревья неподалеку от воды, рядом просторное озеро, настолько просторное, что берега его едва видны.
Пока Маша читает свою сводку, Чичерин сидит неподалеку от окна, изредка поглядывая на особняк.
– Мне попалась на глаза «Секоло» – что–то там было насчет холодного чичеринского догматизма? – спрашивает Георгий Васильевич не в силах скрыть смеха.
– Будет и… холодный догматизм, Георгий Васильевич, но разрешите по порядку, – говорит Маша: она подготовилась к обстоятельному докладу, как обычно подчиненному системе, и ей не очень хочется нарушать последовательность. – Первый день конференции: дуэль Чичерин – Барту…
– О, дуэль – это хорошо! – Он пошел по комнате. – Ну, разумеется, на шпагах. Эфес, граненый клинок!.. Три шага вперед – выпад!.. Рука на уровне плеча – туловище подвижно!..
В его реплике есть полет фантазии – она неудержима. Быть может, вспомнился Караул, сарай, заваленный свежим сеном, когда, забравшись на сеновал, он отдавался стихии Дюма… Его легко населить тенями. Вон взметнул граненую сталь д'Артаньян и взмолился, подняв толстые руки, Портос. Кажется, растворились в сумерках храбрые мушкетеры – они едва видимы. Да и звон шпаг погас. Только сами шпаги зримы – вон как скрестились они, располосовав сумерки. Их тонкая сталь светоносна – не будь воспоминаний о рыцарственной Франции, можно принять сверкающую сталь за лучик, прошибивший кровлю сарая. Шпага попала в полосу света и ослепила. Шпага, ударившись о шпагу, вздрогнула – видно, как колеблется упругое лезвие и поет голосом шмеля, заблудившегося в стрехах… Однако надо иметь немалую фантазию, чтобы представить себя скрестившим шпаги с воинственным Барту.
– Чичерин в дуэли с Барту проявил спокойствие и ловкость, свидетельствует «Секоло»… – Маша улыбнулась не без иронии. – Я воспроизвожу точно: ловкость!..
Она ходила по комнате, выдвигая и задвигая ящики стеллажей, как хозяин провинциальной аптеки, который стремился внушить уважение наивным землякам и самим видом своего заведения – чем больше многоцветных сосудов окружало его, тем таинственнее и, пожалуй, значительнее должно было казаться его фармацевтическое королевство.
– Там еще сказано: «Холодный догматизм Чичерина ничего не имеет общего с его итальянской перво–природой». Так и сказано: холодный догматизм.
Она мигом развеселила его.
– Холодный догматизм – это совсем не плохо для политика, – ответил он и взглянул на нее не без вызова. – Честное слово, сколько жил, столько и мечтал стать холодным догматиком! – заметил он и рассмеялся, не очень–то стремясь скрыть, как ему сейчас весело.
Чичерин просил меня съездить в Рим и повидать известного в Италии хлеботорговца, который противился отправке транспорта со жмыхом в Одессу.
Поезд пришел на заходе солнца, и прямо с вокзала я отправился в наше представительство. Тот, кто бывал в те годы в Риме, помнит трехэтажный особняк с трехгранным фонарем и башенкой, венчающей особняк, с балконами, огражденными кованым железом, с верандой, где по римской жаре обычно ожидали приема гости представительства.
Мой приезд в Рим предварил звонок Воровского, и я был освобожден от хлопот о ночлеге – мне отвели комнату в полпредстве.
Я оставил вещи и сошел вниз, намереваясь отдать час–другой прогулке по городу, но, едва ступив на веранду, услышал, как у дальней стеночки скрипнуло, плетеное кресло и навстречу мне двинулся человек в светло–коричневой рогожке.
– Николай Андреевич, да вы ли это? Необходимо было усилие, чтобы, преодолев низкое предвечернее солнце, бьющее в глаза, рассмотреть человека, обратившегося ко мне.
Истинно неисповедимы пути твои, всевышний, – передо мной стоял Федор Рерберг; впрочем, правды ради надо сказать, что его поездки в Европу в последние годы были столь обычны, что встрече с ним в Риме можно было и не удивляться.
Я почувствовал, что гнев овладевает мною при одном прикосновении к его жаркой, чуть влажной руке: это ведь он, Федор Рерберг, подготовил уход Игоря в Специю, это он, Федор, был ответствен за последствия этого ухода.
Мы вышли к набережной Тибра и прошли вдоль ее борта, сложенного из песчаника, к скромной траттории. Несмотря на ранний вечер, тут было почти безлюдно, река дышала запахом теплой воды, едва ли не банным, и почему–то серы – римские запахи.
Мы заняли столик у самой воды и заказали сицилийское красное и пиццу с томатами и сыром – к ночи такой ужин был приятен.
– Вы уже были в Специи? – спросил я: у меня сложился свой план беседы, пока мы пробирались к берегу Тибра.
– Нет, – ответил он и с пасмурным вниманием посмотрел на меня–ничего хорошего мой вопрос ему не обещал, он это почувствовал.
– Будете?
– На следующей неделе, как только покончу с делами, – пояснил он, не сводя с меня глаз и точно стараясь угадать, что лежит за этим вопросом.
Мы подняли бокалы и даже протянули их друг другу, но не дотянулись – я увидел в этом признак недобрый.
– Вы готовы оправдать его переезд в Специю? – спросил я.
– Если не оправдать, то понять, – ответил он и пододвинул бутылку с сицилийским ко мне – его мучила жажда, он хотел пить.
– Почему?
– Он в этой своей школьной сторожке в Петровском парке и намерзся вдоволь и наголодался куда как вдоволь… – произнес он и, схватив бутылку, опрокинул ее над моим стаканом, вино, заклокотав, вспенилось. – Он бежал к солнцу… Просто сломя голову бежал к солнцу…
Захотелось призвать на помощь Марию: как бы она повела себя сейчас? Наверно, не искала бы обходных путей, а единым ударом, ударом безбоязненным, добралась до правды.
– Как мне кажется, один человек имеет право склонить другого совершить некий поступок, если сам готов этот поступок сделать, не правда ли? – спросил я.
Он не отнял бокала от губ, больше того, казалось, что он задержал его – это помогало сделать паузу долгой.
– Тут все анонимно: человек, поступок… – произнес он, поставив перед собой стакан с недопитым вином.
– Надо… прояснить? – поинтересовался я – фраза была лаконичной, быть может даже воинственно–лаконичной.
– Надо.
– Я говорю об Игоре. – Сказанного было достаточно, остальное было ясно.
– Ничто не может сделать тебя в такой мере храбрым, как родина… – произнес он.
Я не скрыл ухмылки: да Федор ли это?
– Храбрым?
– И счастливым, – добавил он убежденно. – Только отчая земля способна сообщить всю полноту счастья.
Нет, черт побери, да Федор ли это?
– Не обессудьте, – продолжал он, – но родина – это выше твоей веры и твоих убеждений: с родины не уходят, если даже тебя гонят в три шеи…
Я готов был взорваться: вон куда повлекло Федора!
– Вы полагаете, что вас гонят в три шеи? Видно, он ждал этого вопроса – раздался смех.
– А я и не уйду, если даже меня погонят в три шеи!
Мы стояли на каменном уступе; река опознавалась по свежему ветру, он дул снизу, из тьмы, река была там. Мне захотелось приблизиться к нему и ударом плеча, легким, сшибить с камня, на котором мы стояли.
– Да понимаете ли вы, что сказали? – взревел я. – Понимаете?
– Простите, а почему мне не понять? – спросил он и отступил от края.
– Не думаете ли вы, что право на эти слова может дать вам только один поступок?
Он остановился, потом пошел, вновь остановился.
– Какой?
– Вы должны последовать за Игорем…
Он недоумевал: да не склоняю ли я его остаться в Италии? А может, я избрал эту формулу для того, чтобы дать понять ему, сколь нелогичен его поступок, если соотнести с элементарной совестью? Он огляделся вокруг и, рассмотрев во тьме матовый блеск парковой скамьи – к вечеру ее железо замутилось влагой, мы недалеко отошли от реки, – пошел к скамье.
– Значит, последовать за Игорем? Я бы последовал, но дело не во мне…
– А в ком?
– В моем Николе. Чтобы решиться, я должен верить, что ему здесь будет лучше…
Совсем рядом стояли пинии, тонкоствольные, застившие своими кронами звездное небо. Стояли только стволы – парк просвечивался, а небо было закрыто кронами. Там, где зелени не хватало, врывались звезды. Они были точно колотый лед, попавший в поле света, – их огонь был лишен тепла.
– У человека, которому хочешь счастья, ты не отнимешь родины, – заметил я.
– Но родина – это то самое, о чем не говорят, – отрезал он поспешно, не очень–то его устраивало продолжение разговора.
Он сидел онемев – в могучих дымах, которыми сейчас был обвит его ум, происходило нечто первозданное: мрак предрассветья, тьма сотворения. Казалось, с его губ срывается шепот, который еще не стал словом, не обрел внятность речи.
– Вы способны выслушать меня, отстранившись от происшедшего? – вдруг спросил он. – Без предубеждений?..
– Слушаю…
Я понимал, что предстояло мне услышать. Если бы Федор Рерберг мог обратиться в Рерберга младшего, то он сказал бы то, что тот хотел сказать. Но перевоплощение было не в его власти, и он взывал к нашей фантазии. Он точно говорил: «Представьте, что перед вами Игорь Рерберг собственной персоной, только он и никто более!.. Простите за дерзость, но я стал текучим туманом, мглой, что укрыла сейчас воды Тибра. Меня нет, как нет моего мнения, моей заинтересованности, может быть даже моей корысти. Есть только Игорь Рерберг, его больное и воинственное существо. Оно вопиет – внемлите!» Итак, есть только Игорь – он, Федор, точно записал его речь на пластинку и пластинка уже крутится. Не беда, что источилась игла и поослаб–ла пружина, – у Игоря добрая дикция и речь вполне внятна.
– Дед и отец – истинно я был между молотом и наковальней, – произнес Федор Иванович от имени Игоря, он влез в шкуру молодого Рерберга с видимым удовольствием – казалось, он делал это многократно прежде, влезая в нее и из нее выбираясь, перевоплощение для него было процессом нехитрым. – Было фатально, что отец мой отказался от фамилии деда… Да, дед был Рербергом, а отец вдруг стал Надеждиным. В том кругу, в котором вращался отец, все меняли фамилии. В новых фамилиях было больше каленого железа и кремня, чем в старых. Очевидно, по этому принципу отец принял новую фамилию, которая тоже отдавала каленым железом. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что родные матери происходили с Надеж–динского рудника, и в перемене фамилии были и иные резоны. Итак, все размежевалось намертво, будто в одном отродясь не текла кровь другого: Зосима Надеждин – мой отец, Петр Рерберг – мой дед. Надеждин гнал свой пульман из края в край России, останавливаясь разве только на узловых станциях. Там, где сходил Надеждин на землю, составы становились мощнее, а паровозы прибавляли скорость – хлеб шел в Петроград и Иваново, горький хлеб восемнадцатого года… А у Петра Рербер. а все было иным. Больше ногами, чем руками, он выталкивал на середину комнаты картонный короб, перехваченный бельевой веревкой, и велел распаковывать. Встав на карачки, я сдвигал бечеву, и просторный пол устилался конвертами каждый с добрый фунт, а то и полтора. Дедовской рукой, которая хранила каллиграфическое умение Рербергов, было выведено: «Не опались ненароком!», «Держать подалее от огня!», «Беречь что зеницу ока!», «Хранить – нет ничего дороже!». Впрочем, той же рукой, способной писать с нажимом, было выведено на конвертах: «Баржи в Твери», «Хлебные склады в Торжке», «Лабазы в Клину». Он шагал по комнате, устланной пакетами так, точно по правую руку были эти самые лабазы, а по левую хлебные склады, шагал сам и велел шагать мне… Отец был Надеждин, а я все еще оставался Рербергом. И вот фокус: был бы Надеждиным – почувствовал бы себя равноправным, а остался Рербергом – точно принял на себя Рербергову опалу. С этой опалы все и началось: коли Рерберг, то и мало места на новой русской земле. И то правда: чтобы родная земля была тебе мила, равенство должно быть и твоей юдолью. Считал себя знатным человеком на земле русской, а оказался вроде вора. Да и на этом дело не кончилось! Да, как на той обетованной земле, где, схватив вора за руку, тут же отсекали ему эту самую руку – пусть трясет своей культей до далекого смертного часа: «Я вор и молю о презрении!» Да, я уже нес на себе этот венец, называемый Рерберговой опалой, и перст указующий был обращен на меня. Никто не говорил обо мне, что я сын Зосимы, говорили: внук Петра. А коли внук Петра, неси свой крест до конца. А может быть, есть место на земле, где эта культя как бы отрастает и превращается в обычную руку с запястьем, ладонью и даже перстами? Ну, например, Специя? А нельзя ли рвануть туда? Да, ринуться, преодолевая рвы, заполненные шипучим пламенем, как и стены, утыканные стеклом… Есть тут причина для утека? Есть, наверно! Но это не все. Человек – дитя природы. Как сурок, как







