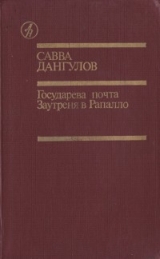
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
– Согласитесь, Николай Андреевич, что феодализм был прогрессивен: он высвободил энергию художников и ученых. Не было бы феодализма, не было бы Рафаэлевых мадонн…
– Ты хочешь сказать, что колодочная мастерская в Специи высвободила твою энергию, Игорь?
– Убежден.
– А как же быть нам, бедным, не имеющим колодочных мастерских, никогда мы не создадим Рафаэлевых мадонн?
– Смеетесь, Николай Андреевич?
Однажды мы далее сделали привал, остановившись у колодца, который был сооружен, как здесь это бывает, у скрещения дорог. Я расположился в тени старой черешни, где движение ветра было большим, чем у колодца, и дрема на какой–то миг заставила меня приникнуть к стволу. Когда я открыл глаза, картина, которую я увидел, меня чуть–чуть изумила. Меня разбудил голос Маши: «О, мои пантофли!» В следующую минуту действительно Машины туфельки упали к моим ногам, а моя дочь босая и простоволосая мчалась пыльным проселком, пытаясь уйти от бегущего по ее следу Игоря. Истинно бес поселился в Марии и сообщил ей силу неукротимую. Она промчалась проселком, взлетела по этому проселку на холм, выбежала на поляну, перемахнула через канаву, полную воды, ворвалась в пределы подсолнечного поля, утыканного будыльями, при этом будылья трещали, будто на них налетел вал степного огня. Я же знаю, что такое эти будылья по весне! Они окаменевают, и их корой, как наждаком, можно полировать металл!
– Выбирайся на дорогу, Мария! – крикнул я. – Ты иссечешь себе руки!..
Но, видно, я только распалил ее. Вначале я видел на их лицах улыбку, а потом и она исчезла – злая игра!.. Она вбежала на мой пригорок первой и, рухнув у моих ног, припала к земле, разбросав руки, действительно иссеченные в кровь. Казалось, только земля, ее спокойная сила, ее холодное прикосновение, способна была утишить эти ее хрипы… Поодаль, опрокинувшись на спину, пытался смирить гудящее дыхание Рерберг. Я встал и отошел в сторону. Внизу лежало подсолнечное поле – они истолкли его так, будто там только что побывал табун лошадей.
И вновь я подумал: «Минувших двух лет недостаточно, чтобы ушло в небытие прежнее. Их игры кажутся мне дикими, но и в Петровском парке они не были иными… А может быть, я тут чего–то не понимаю? Чего–то не рассмотрел, чего–то не постиг? Иное расстояние требуется и мне, чтобы осмыслить происшедшее. И еще: какой смысл несут эти игры, как их следует прочесть? Вижу ли я устойчивое пламя прежних отношений, которые ничто не может изменить, или это просто отблеск огня, отблеск преходящий?»
Когда далеко впереди на холмах обозначились темные на фоне сине–белесого здешнего неба сады, Рерберг заволновался:
– Вот они, Рерберговы Заломы! И где! В итальянской Лигурии! Неумирающие, вечные Рерберговы Заломы, которые ничто не берет: их убили в одном месте, а они как ни в чем не бывало объявились в другом!
Машина сбавила скорость, медленно въехала в пределы ограды, сложенной из серого туфа. Человек, оказавшийся на дороге, отскочил на обочину, однако, узрев молодого хозяина, улыбнулся, снял кепчонку.
– Леониде, как у нас тут, старина? – заговорил Рерберг по–русски, на что человек ответил улыбкой и вновь снял кепку, на этот раз обратив поклон не только к Рербергу. – Ну, тут мы у себя дома и можем пойти пешком – Леониде поставит автомобиль сам… – Он простер руку в пролет аллеи. – Высадил прошлой веской два ряда сосенок – взялись на зависть! – Он свернул направо, переступил канаву, приглашая нас сделать то же самое. – Я люблю смотреть отсюда… – Он простер руку, однако тут же отнял: жест был рассчитан на большее пространство, чем то, которое сейчас лежало перед Рербергом, Игорь это понял. – Все, разумеется, скромно, однако для меня значительно… Прямо яблоневый сад, а перед ним огороды, за домом скотный двор: все как подсказано опытом… Заметьте: что–то успел сделать и я. Вот этот колодец под зеленой кровлей, кирпичный тротуар, что виден отсюда, железный козырек над парадным входом в дом – это все мое…
Я обратил взгляд на Марию; она шла, опустив глаза. Казалось, ей был не в радость и кирпичный тротуар, и железный козырек над парадным входом, но Рерберг не замечал этого – восторг застил ему глаза.
Стоял дом–сундук с немалым количеством окон, перечеркнутых крест–накрест переплетами. Дом не претендовал на красоту, он был грубо квадратным, без карниза, с низкой, полого спускающейся крышей, казалось, он стоит без головы.
– Каково Рербергово королевство? – Он смотрел то на дом, то на меня. – Не мрачен ли? Нет, нет, не говорите – мрачен, мрачен! Хотел перекрасить, все искал колер: цвет морской волны, бордо, оранж. Но где найдешь столько краски – попробуй перекрась Лигурийские горы! Леониде! Леониде! – окликнул он человека в кепчонке, которая своим легкомысленным видом не очень–то соответствовала возрасту человека. – Достался мне в наследство от тетушки – нет, не ключник и не эконом, а скорее главный приказчик, а может быть управляющий. Одним словом, министр уделов!
Леониде еще раз снял свою легкомысленную кеп–чонку, обнаружив красную лысину, на обширном пространстве которой точно размазаны были седые прядки.
– Вот твержу Леониде: спили ты этот веник и выбрось, ко всем чертям, – указал Рерберг на дерево, молодая крона которого едва ли не укрыла крышу сарая. – Железо не держит краску – ржавеет.
Только сейчас я заметил: под деревом сидели старики и играли в шашки; они улыбались и все пытались поймать взгляд Рерберга, но он не давался, отводил глаза, точно в этом и была его привилегия.
– Ксано–о–о! – крикнул Рерберг, да так, что старики вздрогнули и вновь улыбнулись. – Ксано–о–о, мы идем, мы уже идем!
Рерберг пошел к дому, провожаемый стариками – они продолжали улыбаться.
– Леониде! – возопил Рерберг. – А как же фабрика? Мы не показали нашим гостям фабрику! – Он повлек нас к зеленым воротам, встроенным в кирпичную стену дома, откуда доносился не столь уж мощный шум сверл и перестук молотков. – Веди, веди, Леониде!
Он обогнал нас и, ускоряя шаг, ввел в комнату, светлую, с неожиданно высоким потолком. Посреди комнаты на специальной подставке, сверкающей лаком, стоял граммофон, широкий раструб которого, казалось, вполне соответствовал высоте потолка.
– Вот страсть необъяснимая: скрипке предпочитает… граммофон! – Он указал взглядом на стеклянный шкаф. – Леониде, показывай колодки!
Леониде открыл дверцу шкафа и взял на ладонь прямоугольный брус, точно разграфленный пятью рядами металлических колышков, прямоугольных, похожих на подковные гвозди.
– Дай–ка сюда, Леониде! – Со сноровкой почти профессиональной Рерберг взял колодку на ладонь. – Одним словом, все в этих гвоздях. Пока расчесывается вата, гвозди стачиваются – нам надо их раскалить, оттянуть и вновь поставить на колодки, разумеется новые, – вот и все! Как это делается? Открой–ка двери, Леониде, открой, открой.
Леониде распахнул дверь, и возник пролет цеха, уходящего вдаль. От двери до задней стены протянулся верстак, за которым стояли рабочие, молодые, споро орудуя молотками, удар был рассчитан, гвоздь входил в колодку с одного взмаха – в руках юношей была сила. Никто не взглянул на открытую дверь, не оторвался от работы – в ударах молотка был ритм неколебимый.
– Дай–ка колодку, Альберто, – обратился Рерберг к юноше, стоящему ближе остальных, но тот не реагировал, продолжая вгонять гвозди. – Дай–ка сюда, дай! – настоял Рерберг.
Отдав колодку, юноша не поднял глаз, уперев их под верстак, где на полке, застланной газетой, стояла синяя бутылка с молоком.
– Вот взгляните, как ровно ложатся гвозди, – произнес Рерберг и вернул колодку юноше, который принял ее, продолжая смотреть на бутылку с молоком – он продолжал вбивать гвозди, не открывая взгляда от бутылки. – Вот и вся механика фабрики! – восторжествовал Рерберг, осторожно прикрывая дверь. – Молоток и гвоздь – просто!
Мы поднялись к Рербергу, и нас встретила Ксана – о господи, как же она похорошела: белая, курносая, с золотистой прядью на розовеющей щеке, истинно северная красавица.
– Не обижают ли тебя тут, Ксана?
– Как не обижать – обижают! – Слезы каждая в кукурузинку покатились по ее щекам, обгоняя друг друга. – Обижают.
– Ну вот, давно не ревела! – возроптал Рерберг и повел гостей в соседнюю комнату, большая стена которой была выстлана картой Черного моря; краски были неправдоподобно яркими, какими они бывают только на рекламных плакатах. – Вот здесь и творятся Рафаэлевы мадонны!
Ему доставляло немалое удовольствие показать, какую библиотеку он собрал в эти полтора года по Генуе и генуэзским колониям на Черном море, а заодно и коллекцию карт, при этом и старинных.
– Это же благо – отдать себя любимому делу и ни о чем больше не думать, – произнес он. – Если скажут «эксплуатация», готов согласиться: да, эксплуатация, но своеобразная – книга, которую напишу, будет моим оправданием и перед самим собой и перед богом!
Он говорил мне, но больше, чем мне, Марии. Она с угрюмой пристальностью смотрела на него. С тех пор как мы выехали из Санта – Маргериты, она произнесла не много слов. О чем она думала? Вот это как раз было и неведомо. Не боюсь признаться: мне неведомо.
Он распахнул дверь на балкон:
– Взгляните сюда, вы видели что–нибудь подобное? – Вид, который открывался, был действительно необыкновенным: слева зеленая зыбь лигурийских гор, справа молочная мгла залива. – Небось подумали: вон на какую высоту вознесло Рерберга. – Он обратил на Марию робкий взгляд, нескрываемо робкий, – она все еще была мрачна. – И еще подумали, Николай Андреевич: у этой башни железный фундамент. Подумали? – устремился он ко мне, рассмеявшись, в этом смехе было возбуждение нервное и было не много веселья.
Появился Федор Иванович – в его появлении была некая заведенность, больше того – обыденность, само собой разумеющаяся: вчера был в Риме, сегодня в Специи. Только вот не приберег свою дежурную улыбочку, был необычно печален – видно, в машине удач, которую с завидной уверенностью отладил Федор Иванович, выпало важное колесико и машина дала перебои.
– Скажи откровенно, что все увиденное и для тебя было неожиданностью? – спросил я Машу, когда хозяева оставили нас одних. – Только откровенно.
Она передернула плечами точно при ознобе – видно, ссадины, которыми она разукрасила руки на подсолнечном поле, давали о себе знать.
– А какое это имеет значение?
– Ты полагаешь, что не имеет значения?
– Ровно никакого.
Она меня озадачила: не имеет значения? Впрочем, в одном случае ее ответ обретает смысл. В каком? Если она выходит из игры. Да, если она выходит из игры, то тогда действительно все увиденное ею не имеет ровно никакого значения. Но то, чему я стал свидетелем, разве даже в отдаленной степени говорит, что она выходит из игры?
Ксана пригласила к столу – только щиг которые Ксана приготовила из свежей капусты, да грибная икра, сдобренная луком, и были русскими, все остальное итальянским: конечно, мясо в яйце, курица в винном соусе и, конечно, пицца, на этот раз прослоенная фруктами, сладкая. Была черешневая настойка, крепкая, и белое вино. Настойку больше пил Рерберг, казалось, пил рассчитанно, точно в его планы входило набраться храбрости и сказать то, что он хотел сегодня сказать. Когда подали курицу в вине, Рерберг с заметно раскрасневшимся и повлажневшим лицом решил, что его минута наступила. Игорь был навеселе, а слова его были трезвы, в них все было соизмерено, все акценты расставлены – конечно же, речь готовилась трезвым Рербергом, отложилась в памяти и уже не могла быть изменена.
– То, что я скажу, это не просто мое мнение, это моя, так сказать, концепция, – сказал Рерберг. – Все, что я сделал, поселившись здесь, я сделал не по наитию, а по убеждению. Вот три параграфа этой моей концепции, три. Первый: я сумею написать то, что хочу написать, если освобожу себя от заботы о куске хлеба, пусть на меня работают они. – Он высвободил указательный палец и как бы ткнул им в пол: те, кого он назвал «они», сейчас находились там. – Второй: да, отныне я стал собственником – жил в двадцать первом веке, а вернулся в семнадцатый? Пожалуй, готов согласиться и с этим, но это меня не смущает… – Он взгляш'д на Марию – у него была потребность видеть
ее глаза, но она сидела, наклонив голову, низко наклонив голову. – Третий: наверно, поступив так, я благословенную Специю предпочел Петровскому парку – ведь можно меня понять и так, предпочел… Но простите: как я понимаю, человеку хочется быть там, где солнце дарит ему свет и тепло. Да есть ли у меня причина жаловаться на итальянское солнце?.. – Он умолк, взглянув на меня. – Николай Андреевич, хотите, скажу, о чем вы сейчас думаете?
– Скажи, Игорь.
– Вы думаете сию минуту: «Бедный Зосима!» Верно?
– Верно, Игорь: бедный Зосима!
Стало тихо, так тихо, что впервые, казалось, стало слышно, как шипит, вздымая прибрежный песок, волна.
– И еще вы думаете сейчас… хотите, скажу?
– Скажи, Игорь.
– Вы думаете сию минуту: наверно, нет ничего страшнее того, что произошло…
– Чего именно?
– Когда сын перекидывается на сторону тех, от руки которых пал отец… Верно, думаете об этом?
Ксана заплакала, не скрывая голоса.
– Понимаешь ли ты, что говоришь? – Она точно поперхнулась. – Ой, ой, да как ты можешь? – Она выпростала ладони, стремясь сдавить ими грудь и сдержать плач. – Как ты можешь?..
Он оторопел:
– Ты сдурела, Ксанка? Скажи, сдурела?..
Ее лицо мигом стало мокрым от слез, мокрым и некрасивым, не похожим на нее.
– Да утрись ты – противно на тебя смотреть… Господи, вот ведь одарил на веки вечные…
Она заревела с новой силой и, закрыв лицо руками, выбежала. Рерберг встал, дотянулся до двери, хлопнул.
– Вот ведь глупа, ой глупа! – Он оглядел нас, точно взывая к состраданию – ему очень хотелось пожалеть себя. – Ну хоть ты скажи, дядя Федя, – взмолился он, обращаясь к Федору Ивановичу, но тот был темнее тучи, только ворочались заметно покрасневшие глаза – он пил сегодня много, при этом все больше настойку. – Скажи, дядя Федя…
– Ей или тебе, Егор?
17'
499
Рерберг помрачнел: он недоуменно и робко посмотрел на Федора Ивановича, его сознание отказывалось понимать услышанное…
– Ну скажи мне, если хочешь, скажи, дядя Федя… Федор Иванович отодвинул чарку с настойкой,
точно она ему мешала сказать то, что он хотел сейчас сказать.
– Побойся бога, Егор, не кощунствуй! Рерберг побагровел.
– Ведь ты же сам сказал, что готов драть из России! – взмолился Рерберг, но Федор Иванович только усмехнулся.
– Верно, готов был, пока тебя не увидел, а вот увидел и расхотел…
– И Николу не отпустишь?
– Да он и сам не решится, если расскажу про твои колодки…
– Ой, дядя Федя!
– Не пора ли нам? – сказал я и посмотрел в открытую дверь на море – залив Специи был волнист, точно хлебное поле перед жатвой. – Сегодня еще столько дел, – заметил я и посмотрел на Марию; она встала не сразу.
– Я все хочу сказать: этот ваш Чичерин не от мира сего, – произнес Рерберг, все–таки он был не так прост, как мог показаться: даже в нынешнем своем не очень завидном положении старался устоять. – Откуда он залетел такой в наш день? – Он рассмеялся с виду искренне. – Как будто ходит не по земле, а по небесам. – Он вновь взглянул на Марию: он ждал от нее ответа. – И потом, наивен диковинно… Поймите: по ним надо картечью, да в упор, а он… Не от мира сего!
– Да, не от мира сего, – вдруг распечатала уста Мария. – Не от мира, – повторила она не без труда.
Мы возвращались в Санта – Маргериту, и молчание, нерасторжимое, было нашим спутником. У меня не было желания нарушать его и тогда, когда мы шли с Машей от машины к отелю, погрузившись в полутьму сосен. Но Маша точно дожидалась этой минуты, чтобы, схоронившись в тень, произнести смятенно:
– Наверно, навсегда останется тайной, как человек одного круга, одной семьи, одной крови принимает веру, которая является иной и для этого круга, и для этой семьи, и для этой крови, наконец…
– Ты хочешь назвать это тайной?
– Для меня это тайна, а для тебя? Разве нет?
– Бедный Зосима! – вырвалось у меня.
– А все–таки жестоко обошлась с ним судьба, – произнесла она, остановившись.
– Ты винишь судьбу?
– А кого еще?
– Тебе жаль его?
Она подняла на меня гневные глаза:
– Жалею его и, не боюсь сказать, люблю… Не боюсь…
Сегодня Чичерин пригласил к себе Хвостова, не преминув сделать это, когда я был у него в кабинете.
– Иван Иванович, как мне сказали, Факта выехал в Рим и пробудет там дня четыре, а мы не можем ждать… – Георгий Васильевич говорил это Хвостову, однако смотрел на меня: его интересовала моя реакция. – Не могли бы вы сегодня же выехать в Рим и пробиться к Факте?.. На итальянскую прессу может оказать влияние только он – надо склонить ее принять не столь воинственный тон. Вы поняли?
Я опешил: вот она, чичеринская терпийость, – он делает шаг, который, бьюсь об заклад, не сделал бы никто иной.
– Как вы, Иван Иванович?
Хвостов молчал – он явно не допускал, что у его отношений с Чичериным будет именно такое продолжение.
– Ну как, Иван Иванович?
– Благодарю вас, Георгий Васильевич, я готов.
– Тогда, как говорили наши старики, с богом… Хвостов вышел (он был едва ли не счастлив), а Чичерин, взглянув на меня, ухмыльнулся:
– Не одобряете? Нет, нет, скажите искренне: не одобряете?
– Ни в коем случае, Георгий Васильевич.
– Почему, простите?
– Поверьте, Георгий Васильевич, у меня есть основания говорить так.
Он рассмеялся:
– Небось Хвостов сказал что–нибудь?
– Сказал.
– Не переоценивайте этого! Надо понимать: его дебют в «Известиях» не удался и он наговорил глупостен. Кстати, туг и моя вина: не надо было говорить с ним в вашем присутствии и ставить его в положение, когда он должен стремиться сохранить лицо и перед вами. Вы не находите?
– В какой–то мере.
– К тому же статья требует известного дара, а поездка в Рим такого дара не требует… Одним словом, Ивана Ивановича надо сберечь – у него свои достоинства и было бы неразумно пренебрегать ими… Вы полагаете, что я не прав?
Я мог только сказать себе: вот он, Чичерин!..
И еще я хотел сказать себе: говоря о Хвостове, он, Чичерин, как бы самоотстранился. Чичерин не хотел знать, что сказал Хвостов о нем, Чичерине. Он не хотел всего этого знать в такой мере, что отказывался связывать это и с отношением Ивана Ивановича к делу, которое Чичерин возглавляет, а значит, с нравственностью Хвостова, хотя тут с Чичериным можно было и не согласиться.
Не знаю, пойму ли я Георгия Васильевича завтра, но сегодня не просто мне его понять, не просто понять прежде всего потому, что мне дорог сам Чичерин, на которого замахнулся Хвостов. Прощать этого, как я убежден, нельзя – почему же так легко простил его Георгий Васильевич?
Завидное качество памяти: все стоящее сберечь, не просыпать. У разговора о Черчилле своя важная зарубка. Вот уже и Лесли Уркарт покинул Геную, завершив свои переговоры на вилле «Альбертис», а Черчилль не отважился побывать здесь. Тот же вопрос: Генуя и Черчилль – не нарочито, не праздно ли? Однако как склонить к этому разговору Чичерина?
– Но осечь Черчилля даже в кругу коллег–министров – еще не покончить с ним: Черчилль жив! – произношу я: такое впечатление, что диалог, который я отважился продолжить, происходил сегодня утром.
Чичерину надо время, чтобы понять, что речь идет о делах, которых мы касались, помоги нам всевышний, добрую неделю назад.
– Да, такие, как Черчилль, не сразу свертывают знамена, если даже оказываются под щитом… – произносит он. – Но может быть и по–другому: свернуть старый стяг и выбросить новый…
– Но под новым стягом не может воевать старая армия, – возразил я, зная, что тут один шаг до чичеринского несогласия.
– Весь фокус в том, что речь идет о новой армии, – сказал Чичерин.
– Какой именно?
– Немецкой.
– Немецкой? – изумился я: ничего более необычного не мог сказать Георгий Васильевич: Черчилль, ведущий немецкую армаду на Россию.
– Это что же… новая идея Черчилля: покарать революцию силами недавнего врага?
– Да, верно.
– Погодите, погодите, тогда еще один вопрос: да не ставило ли Рапалло эту вторую цель – отнять у Черчилля возможность сшибить Германию и Россию?
– Можно допустить – ставило.
И это Чичерин: в его обращении к Черчиллю был этот дальний прицел, но только сейчас он обнаружил его. Оказывается, Черчилль торил свою тропу в Геную.
Май, кумачовый май не за горами – одна эта мысль радует душу. Чичерин сказал с той веселинкой, с какой любил говорить с Вацлавом Вацлавовичем:
– А не устроить ли нам некий раут на манер… «Данте Алигьери»? Свой, разумеется, с красным флагом, первомайский? Честное слово, у нас будет не меньше гостей, чем у итальянского цезаря! Кстати, если необходим маршал двора, то вам и карты в руки.
И завертелось. Нет, не то что маршалом двора, но главным кашеваром праздника был назначен Воровский – старый палаццо д'Империале, бывший, как свидетельствовала книга его почетных гостей, спокойной гаванью для великого принца монакского и императора абиссинского, стал в этот предмайский вечер пристанищем красных и тех, кто им сочувствует.
Большой сундук языков, которым владели русские, в этот вечер был распахнут – пошел в ход даже чиче–ринский итальянский.
Его собеседник «скриторе» Джованни Джерманетто, имея в виду итальянские истоки родословной Георгия Васильевича, воодушевленно восклицал:
– Теперь я вижу, что язык можно пробудить и через столетия!
А Морис Кашен, молодецки расправив усы – они у французского комбатанта, как у запорожца, – пытался доказать, что человек, желающий познать языки, должен понять: дело не столько в грамматике, сколько в чем–то ином, что восходит к психологии.
Однако в чем именно? – вот вопрос.
– В преодолении барьера, который отделяет один язык от другого, в опыте преодоления… – несмело вторгся в разговор юноша, сидящий рядом, в его темных глазах была некая сладость (сладкие глаза!), а в английском – характерная для американцев твердость согласных; он говорил по–английски, но знал французский, иначе ему трудно было бы проникнуть в смысл диалога.
– Опыт преодоления? Ну что ж, это немало, – произнес Чичерин, улыбаясь: ему была симпатична мысль молодого человека.
– Вначале падут границы, разделяющие страны, а потом языки, хотя первые охраняются, а вторые свободны, – произнес молодой человек со страстью, которая, если бы не его возраст, казалась бы в этот момент не очень понятной.
И вновь Георгий Васильевич задержал на человеке, сидящем рядом, внимательный взгляд. Сколько раз ловил он себя на мысли: «Не пренебрегай тем, что услыхал, ведь это единственное, что может тебя заставить заглянуть в будущее человека». Обладай Чичерин способностью видеть завтрашний день молодого человека, а может для весны двадцать второго года и послезавтрашний, он бы подивился верности этой своей мысли: в этот предмайский вечер в палаццо д' Империале рядом с ним сидел молодой Хемингуэй…
А вечер обретал все большую задушевность, и этому немало способствовал его главный заводила – с той веселой простотой, какая была свойственна умению Воровского разговаривать с аудиторией, Вацлав Вацлавович начал концерт и неподражаемо прочел Чехова – мудрая кротость и грусть, которые присутствовали в его чтении, казалось, отражали существо Воровского.
Пример Воровского воодушевил: большая делегация, состоящая из мужей почтенных, показала себя в неожиданном качестве – выступали все: читали стихи, плясали с самозабвенной страстью, делились воспоминаниями о поездках по белу свету; стихия доброго настроения завладела и хозяевами и гостями, все казалось значительным, остроумным, всем было весело.
А потом всесильный перст главного кашевара был обращен на Чичерина, и Георгий Васильевич пошел к роялю. Он коснулся пальцами клавиш, и все, кто был рядом, поняли! как ни значительно было все, чем блеснула до сих пор завидная импровизация, не в этом главное. Короче: то, что не сумели победить слова, сделала музыка. Да, именно музыка, лишенная конкретности слова, заставила мысль обратиться к существу. Точно возникла возможность сказать то, что не было до сих пор сказано.
Я сидел далеко от Георгия Васильевича и не рассмотрел его лица, но мне были доступны его глаза – в них мне виделись и доброта и храбрость, всемогущая сестра мудрости. И вот интересно: вечер, который начался столь бурно, завершился тишиной первозданной. Эта тишина чуть–чуть смутила и Чичерина.
Казалось, что это не музыка, а доверительный разговор. Все, что Чичерин хотел сказать, он приберег к этому вечеру. В этом монологе была та зрелость ума и чувства, которая единственно убеждает. Странное дело: не было произнесено ни единого слова, а добыты слова, которые обращали разум к неизведанному. Именно музыка делала твою мысль значительной. То, что ты был способен постичь сейчас, лежало за пределами твоих возможностей прежде. Будто только теперь ты понял существо происходящего. Волнение, которое дарила стихия звуков, очищало. Ты виделся себе больше, возвышеннее, сильнее, способным свершить такое, что до сих пор было для тебя не цо силам. Человек, сидящий за инструментом, точно объяснял происходящее, явилась та ясность видения, которую обретает человек не часто. Все казалось: отныне ты уже не сможешь говорить, как говорил прежде, иной образ мысли, сам язык иной… Наверно, это был тот род волнения, который способен и встревожить и открыть глаза. Музыка вытолкнула тебя за пределы мира, к которому тебя приковало время. Ничто не могло показать огромность этой новой вселенной, которую ты увидел, – музыка смогла… Было ли это достоинством человека, сидящего за инструментом, или музыки, которую он вызвал к жизни? Хотелось верить: и человека… Он жил в том же мире, что и ты, общаясь с тем же кругом предметов, понятий и слов, что и ты, а способен был сказать несравненно больше тебя… Когда человек перестал играть и сидящие в зале взглянули друг на друга, они увидели иных людей… Не отдал ли я себя во власть восторгу неуемному, не преувеличил ли все, чему только что был свидетелем? Наверняка преувеличил, но это то самое преувеличение, которое приближает нас к правде. По крайней мере так это понял я…
– Да надо ли было играть Бетховена? – спросил он, когда на исходе ночи я понес ему прессу: в предутренние часы, когда усталость подступала и к нему, он отдавался чтению прессы. – Не слишком ли это сумеречно для праздника, а? – Он точно встрепенулся, поняв, что говорит о собственной персоне, что было не в его правилах. – Вот получил телеграмму от Д'Аннун–цио, приглашает посетить его на Фиуме. Как вы полагаете? Д'Аннунцио – враг, но кто сказал, что надо избегать встречи с врагом? Надо ехать, но вот незадача…
– Да?
– Условие, обязательное, – разговор, но только… тет–а–тет…
– И как вы, Георгий Васильевич?
– Поеду.
– Один поедете?
– Один, разумеется.
– Совершенно один?
– Один.
Поздно вечером пришла Мария:
– Игорь тебя ждет внизу…
Я взглянул на часы: без малого одиннадцать.
– Не поздно ли? Завтра бог знает какой трудный день… – Я был близок к истине: начали паковать наше непростое имущество – отъезд был не за горами.
– Он просит, а ты как знаешь.
Мария вышла – она была верна себе: категоричность не в ее правилах. Я пошел.
Он встретил меня у старой туи, которая стала местом наших свиданий с ним.
– Видно, это последняя наша встреча, Николай Андреевич, – сказал он мне тихо, увлекая к выходу. – Не пожалейте же драгоценного часа – тут есть немудреная корчма, она сейчас открыта…
Я понял, что мне от Рерберга не отвертеться, и пошел.
Корчма была действительно немудреной: стойка с батареей вин и дюжина столиков, в этот поздний час пустых. Старик хозяин, чью дремоту мы нарушили, принес глиняный кувшин с вином, и, включив над нашей головой деревянную, в три рожка люстру, поковылял к стойке. Глиняный кувшин уберег вино от тепла – оно было холодным и утоляло жажду – апрельские вечера уже казались знойными,
– Я не питаю иллюзий, что сегодня вы будете ко мне добрее, чем вчера, но я все–таки хочу сказать то, что сказал час назад Марии. – Он не без азарта схватил кружку с вином, но не опрокинул ее, как прежде, а всего лишь пригубил: видно, наказал себе быть трезвым, что немало настораживало. – Скажу откровенно, Николай Андреевич: я пожалел, что пригласил вас и Марию в дом. Не стесняюсь сказать: пожалел… Вы, конечно, подумали: хозяин хочет быть хозяином, вошел во вкус. Нет, скажите – подумали… И этот дом и эта фабричка. «Фи! – сказали вы. – Гадко!» Однако хотите знать мое мнение? Не гадко! Согласитесь, Николай Андреевич: в том, что я показал вам все это, есть не только плохое, но и хорошее. Согласитесь, что можно подумать и так: Рерберг дал понять обо всем этом как на духу, значит, он совестлив и чист, значит, ему нечего скрывать и нечего бояться, а? – Он взял кувшин и, убедившись, что мое вино отпито, наполнил кружку. – Вот вам задача, Николай Андреевич: почему вчерашний пролетарий, у которого сроду не было ни кола ни двора, овладев состояньицем, в одни сутки становится капиталистом и ведет свое дело с такой охотой, а может и умением, как будто владел этой недвижимостью всю жизнь? Нет, нет, вы ответьте мне: почему?.. Не хотите отвечать, тогда отвечу я: этот инстинкт собственнический в природе человека! Нет, не только у меня и у того, что сидит сейчас за стойкой, но и у вас, Николай Андреевич… Разница только та, что у меня он пробудился, а у вас ждет своего часа, чтобы пробудиться. Мы ничего не знаем о человеке, Николай Андреевич, начисто ничего не знаем. Вы только оглянитесь вокруг: идет великая перековка людей, но только не та, о которой говорите вы там, у себя, а иная – рабочие становятся лавочниками! Да, токари, слесари, плотники, все те, кого вы именуете классом пролетариев, кто составляет вашу опору и суть вашего представления о современном мире, сколотив кругленькую сумму, становятся владельцами бакалейных, москательных, галантерейных лавок, держателями акций, пайщиками – они стригут купоны, черт побери, и им наплевать на мировую революцию!.. Если вы думаете обратное – простите меня, Николай Андреевич, вы не знаете жизни, а вот те, другие, эту жизнь знают: они сознательно превращают их из пролетариев в лавочников. Короче: человек не так бескорыстен, как вы думаете. И он не в такой мере лишен расчета, как это представляется вам. И он отнюдь не так далеко ушел от своего прошлого, как вы это возомнили… Все ваши просчеты, которые были и которые еще будут, – вы слышите, Николай Андреевич, будут! – вот здесь… Короче: вы в своей догме наивны и, простите меня, недальновидны! Скажу больше: вы все еще донкихоты, Николай Андреевич. Смешному племени донкихотов, в наш рациональный век истребленному дотла, вы дали жизнь, не сообщив ему смысла жизни. И первый из этих донкихотов – ваш Чичерин… Я думал все эти дни: кого, черт побери, он мне напоминает? Ну слепок, точный слепок. Кого? А сегодня точено прозрел: так это же батько мой бесценный! Такой же, простите меня, фантазер неудержимый! Вы говорите, что он, ваш Чичерин, пришел из завтрашнего дня и на веки веков останется его верноподданным, а по мне он – странный человек, который, простите меня, так и проживет свой век, не дав себе труда спуститься с небес на землю…







