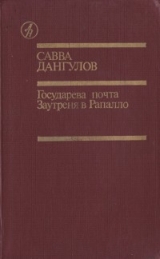
Текст книги "Государева почта. Заутреня в Рапалло"
Автор книги: Савва Дангулов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 38 страниц)
Красин сказал мне как бы невзначай:
– А вы знаете, Воропаев, Ян все–таки не преминул высказать Москве свое мнение относительно чичеринского письма Ллойд Джорджу.
– И Москва не заставила себя ждать?
– Да, разумеется: телеграмма пришла сегодня ночью… – Он помедлил. – Зайдите к Георгию Васильевичу, скажите ему слово доброе, да и его выслушайте. Дайте ему такую возможность, дайте… Я заметил: объясняя, он убеждает чуть–чуть и себя. Поверьте мне, твердокаменных в природе нет – ему необходим этот разговор.
Вот он, Красин, добрая душа. Небось его самого не часто успокаивали в жизни, а он развил вон какую деятельность. Я знаю, что сегодня с утра он послал к Чичерину с той же целью Воровского, был сам, а сейчас подвиг меня. Но Георгия Васильевича на инспирации не проведешь. Поэтому надо пойти к нему с делом, по возможности насущным.
Но каким может быть это дело? Я вспомнил вчерашний разговор с Маццини о Лесли Уркарте – англичанин действительно был у Ллойд Джорджа, сегодняшние газеты не обошли этого. У меня была справка об Уркарте, справка, в которой уральские сокровища предприимчивого британца были описаны с той лаконичностью и мерой анализа, какая в такой справке не праздна. Мне казалось, что в поле зрения Чичерина мог быть и Уркарт, поэтому каждое новое слово о нем было бы Георгию Васильевичу интересно. Я взял справку об Уркарте и пошел было к Чичерину, но остановился едва ли не на пороге: а к чему эта мистификация и не оскорбляет ли она мои отношения с Георгием Васильевичем? Нет, я этого не сделаю. Тут нужно иное, однако есть ли в природе это иное? Не знаю, как долго бы я единоборствовал с самим собой, если бы, уже за полночь выйдя в парк, не увидел света в крайнем, чичеринском, окне – там находилась смежная с кабинетом комната. Мы иногда работали в этой комнате с Георгием Васильевичем над текстами. Не без раздумий я решился.
– Вот хорошо, что вы пришли, – произнес он, вставая из–за письменного столика, придвинутого к окну, и снимая с колен клетчатый плед. – По–моему, я не видел вас целую вечность.
Нужно было приглядеться, чтобы отыскать в комнате следы происходящего… Стояла чашка с недопитым кофе. Крышка кабинетного пианино, которое накануне по просьбе Чичерина подняли с первого этажа, была открыта, и пюпитр хранил тетрадку с той самой партитурой, что он купил накануне на генуэзском развале. Играл, как всегда в полночь, едва касаясь пальцами клавиш, вполголоса. На письменном столе лежала раскрытая тетрадь, видимые страницы были заполнены чичеринским почерком, чуть прыгающим, в нем есть нечто от походки, свойственной людям прошлого века. Не заметки ли о Моцарте, которые он накапливал изо дня в день? Он как–то сказал мне, каждый лечит себя по–своему – когда тревожно на душе, хорошо уйти в рукопись. Так–то: уйти.
– Ян сказал мне: «Георгий, я с тобой не согласен и не хочу делать из этого секрета». – Его веко чуть подергивается. – Короче, он захотел, чтобы нас рассудил Ильич.
– И он рассудил?
Веко все еще трепещет, и как бы невзначай Георгий Васильевич касается его большим пальцем левой руки, поглаживая, – кажется, глаз поутих.
– Вот, взгляните…
Он идет к соседнему столу и приносит белый квадрат бумаги с убористым машинописным текстом – видно, текст печатался на портативной машинке. Да, это телеграмма Ильича, в ней все Ильичево – и энергия мысли и прямота, хотя в оценке поступка заметна осторожность, телеграмма щадит.
– Как вы помните, мне казалось существенным отыскать прецедент для продолжения диалога… Отыскать…
Чичеринская реплика исполнена убеждения: отыскать прецедент для продолжения диалога. Но был ли его образ действия единственно верным, единственно?.. Убеждая меня, он имеет возможность оглянуть критическим оком и свою позицию. Он слишком опытный политик, чтобы эта его позиция казалась ему безупречной. Однако что он должен сказать себе? В больших делах ум хорошо, а два лучше? Пожалуй. Совет и еще раз совет, тем более что в Генуе собрался синклит советчиков отменный? Кстати, его формировал Ильич, при этом еще в ту пору, когда собирался в Геную сам. Формировал Ильич, полагая, что в таком деликатном деле, как Генуя, синклит советчиков показан и ему. Надо ли пренебрегать этим? Непреклонный Ян мог бы высказать свое мнение и раньше, если бы был спрошен. Но вот вопрос, не последний: как воспримет объяснения Чичерина Ильич? Если он согласился с Яном, то в его положении легко учинить такой разнос, что небу станет жарко. Однако вопрос действительно не последний: как воспримет объяснения Чичерина Ильич?
– Я замечал многократно у Ильича: как ни сложен вопрос, медленно, но верно добираться до его глубин, видеть его второй и третий планы, – говорит Чичерин, будто проникнув в существо моих раздумий. – Протест Рудзутака, по всему категорический, зовется опасением: «Считаем опасение Рудзутака… вполне правильным».
Чичерин пододвинул торшер, и белый лист бумаги, лежащий на столе, точно прибавил света комнате, бумага светит, от нее не отнять глаз.
– Садитесь рядом со мной, я вам объясню, – говорит он, приглашая к столу. Да, Красин прав: у него потребность посвятить тебя в суть замысла. Объясняя, он точно убеждает и себя, для него это сейчас валено. – Поймите особенность момента. В чем она? Не дать стихии неприязни полонить конференцию, важно предупредить разрыв… Предупредить! – Он смотрит на меня, оценивая, какое впечатление его слова произвели на меня и проник ли я в их. смысл. – Помните, я говорил вам о новом элементе? Он не может быть легковесным, этот новый элемент! Допускаю, что можно было найти и лучше, но я нашел этот… Мне, например, было очевидно, что эта формула не устроит делегатов Актанты, ибо их программа–минимум – возвращение большого долга. А коли не устроит, они передадут эту новую формулу подкомиссии, уложив ее в долгий ящик, самый долгий, что нас устраивает – мы хотим выиграть время. И потом: вера в человека. Бесценно, когда с человеком эта вера!
Он стоит сейчас прямо перед окном. Ночь, только что аспидно–черная, будто разверзлась. Вызревал рассвет. Солнце было еще за лигурийским хребтом, но оно уже коснулось своей длинной десницей зенита и подожгло облако. Ночь была на ущербе.
– Нет, не смотрите на меня так: все чудеса, сотворенные на земле, согревались верой в человека.
А вот это он сказал, точно разговаривая сам с собой, и произнесенное было для него в эту минуту сокровенным.
Меня пригласили к Чичерину. Я взглянул на часы: восемь утра. Для Георгия Васильевича с его ночными вахтами это почти чрезвычайно – в это время он спит. Тем более необычно было застать его в обществе Красина – утренний променад был в правилах Леонида Борисовича.
– Мы побеспокоили вас, Николай Андреевич, по обстоятельству не совсем ординарному, – произнес Георгий Васильевич, приглашая занять второй стул у письменного стола.
Чичерин, казалось, сегодня не ложился спать – к его обычно шафранному лицу, которого так и не коснулся лигурийский загар, была примешана желтинка. Красин, наоборот, выглядел хорошо отдохнувшим, его приятно загорелое лицо казалось в это утро чуть–чуть обветренным – последние дни знойные ветры, дующие с гор, были в Санта – Маргерите свирепы. Но, по всему, это не испугало Красина – вот и сейчас он собрался на прогулку – короткая куртка, украшенная квадратными пуговицами, и просторные бриджи, схваченные у щико–лоток резинками, прямо указывали на это.
Уркарт возвращается в Лондон, завершив свою генуэзскую миссию, – сказал Георгий Васильевич, в его тоне была некая заученность: видно, все, что мне предстояло сейчас услышать, только что было обсуждено в деталях.
– Или не завершив, впрочем… – вставил Красин, oi внимательно следил за ходом разговора.
– Согласен, Леонид Борисович: или не завершив, – подхватил Чичерин. – Нам бы хотелось прояснить: с чем уезжает Уркарт? Знание этого даст точное представление о сегодняшней позиции англичан…
– Не столько Уркарта, сколько Ллойд Джорджа, – осторожно вставил Красин.
– Готов даже усилить вашу формулу, Леонид Борисович: не столько Урката, сколько Ллойд Джорджа, – тут же отозвался Чичерин. – Короче, надо повидать Уркарта и по возможности вызвать его на разговор. Но вот вопрос едва ли не самый трудный: повод. Тут у Леонида Борисовича есть идея… Достоинство ее: она нас ни к чему не обязывает и даст возможность сохранить лицо… – Чичерин взглянул на Красина, точно приглашая его изложить свой план.
– Все просто, Николай Андреевич, – как бы подхватил последнюю чичеринскую фразу Красин, в его репликах была стремительность реакции. – В Лондоне, когда надежда на соглашение с Уркартом еще оставалась, англичанин прислал мне поименный список предприятий, которыми он владел, и краткое описание их – сейчас мы можем вернуть все это Уркарту…
– Это и есть… повод к встрече, Леонид, Борисович? – спросил я, не скрыв улыбки.
– Небогато? – взволновался Красин.
– Не очень, – признался я.
– Чем богаты, тем и рады, – ответствовал Красин. – Если у вас есть побогаче, готовы принять. Есть?
Я не скрыл смущения:
– Боюсь, что не скоро добуду.
Красин встал, одернул куртку, выражая нетерпение – для него беседа эта явно затягивалась, он уже начинал терять интерес к ней.
– Тогда с богом… Только, чур, на русский Уркарта я не надеюсь, поэтому вся надежда на ваш английский.
– Ну, тут я за Николая Андреевича спокоен, – поддержал меня Чичерин.
Чем малозначительнее повод, тем больших усилий он требует – надо было действовать. Я позвонил на виллу «Альбертис», где, по моим данным, должен был пребывать сегодня Уркарт, назвал себя и сказал, что у меня есть пакет для англичанина, который я хотел бы вручить ему лично; очевидно, несколько слов, произнесенных мною, были окутаны таким туманом, что приглашение посетить Уркарта последовало тут же.
Я приехал на виллу, как условлено, в три пополудни и был немало обескуражен, когда мне сообщили, что Уркарт просил искать его на птичьем дворе усадьбы – он там кормит цесарок. Птичий двор не очень подходящее место для встречи с британским магнатом, но выбор у меня был ограничен и я пошел – не думаю, что Уркарт избрал столь необычное место для встречи со мной, чтобы дискриминировать меня, скорее он хотел сделать эту встречу по возможности неофициальной.
Уркарт сидел на корточках, раскрыв перед собой ладони, полные проса: стая цесарок окружила англичанина, споро работая сильными клювами. Маленькие ладони британца, нежно–белые, действительно женские, были в бордовых пятнах, но это его не смущало, он стонал от удовольствия.
– Ты, ты… хромой разбойник, не дам тебе, прочь! – В его русском не было беглости, но все слова были на своих местах. – Уходи, уходи… подобру–поздорову…
Я смотрел на Уркарта, как он грозил цесаркам тонким пальцем, и думал: «Да тот ли это Уркарт, могущественный покровитель Колчака, глава теневых сил, отважившихся покорить и покарать новую Россию?»
– Вот посмотрите, как боятся этого хромого! А почему? Не потому что сильный, а потому что смелый! – Он сейчас смотрел на меня снизу вверх, смотрел не без боязни, ожидая ответа. – Все–таки власть – это смелость, так я говорю?
Он встал, сбросил просо с ладони – то, что он хотел сказать на птичьем дворе, он сказал.
Боковой аллеей мы вошли в парк, и зеленые великаны, обступив, укрыли нас тенью и холодной свежестью.
– Сядем вот здесь, – сказал он, указывая на скамью, свитую из ивовых прутьев, и положил между нами пакет, который я ему вручил. – Русские сегодня говорят: было ваше, стало наше! – Он засмеялся, засмеялся громко, смех был нервным. – По–моему, вы должны говорить по–английски, так? Угадал! – Он стал серьезен – то, что он сейчас хотел сказать, его русскому языку было не под силу. – Как мне кажется, чичеринская формула о двух системах собственности ничего хорошего не обещает… – Перейдя на английский, он разом обретал преимущество, которого не имел, – уверенность пришла сама собой.
– Почему не обещает, мистер Уркарт?
– Когда русские говорят о двух системах собственности, они формулируют свои принципы, а это значит, готовы стоять насмерть. Мы–то знаем, что они гибки во всем, но только не в принципах…
Он вскрыл пакет и, распушив на ветру пучок тонкой рисовой бумаги, испещренной машинописными литерами, окрашенными в свирепый ультрамарин, тряхнул им и небрежно возвратил в конверт – он опознал документ по ультрамарину, такая машинописная лента была только у него.
– Так восприняли эту формулу вы, мистер Уркарт?
– Не только я, вы тоже… – Он взял пакет, лежащий между нами, сделал усилие сесть ближе. – Но, быть может, я не прав?
– У дипломатов есть выражение «найти общий язык» – надо его искать, мистер Уркарт…
Он запрокинул голову, откинувшись на спинку скамьи, обратив печальные глаза на маковку сосны, что встала напротив, сказал не столько мне, сколько ей:
– Я готов этому способствовать и только сегодня сказал об этом мистеру Ллойд Джорджу. – Он простер руку, обратив мое внимание на человека в сером свитере, стоящего на террасе. Характерный абрис фигуры валлийца опознавался без труда. – Хотите, спрошу?
– Нет, не надо, мистер Уркарт.
Человек в сером свитере точно услышал нас – он покинул террасу.
– Нет, я не оговорился: я готов этому способствовать.
Когда наш автомобиль скатился с холма, который венчала вилла «Альбертис», и, подняв глаза, я увидел темно–зеленую шапку парка, мне пришла на ум такая мысль: в том, что сказал Уркарт, могла быть и мера искренности. Надо понять и Уркарта: у него действительно не осталось иного средства, как искать общий язык с русскими. И еще я подумал: хорошая штука – сила в руках правого. Она, эта сила, способна если не обратить злодея в иную веру, то заставить его признавать ее. Как сейчас.
Все сорок сороков, если бы они были в благословенной Генуе, явили сейчас свой голос: звонят колокола.
Каждый раз, когда накатывается медный гул, взмывают, забирая все выше, стаи голубей, неистово разномастных, единоборствующих в своем многоцветье разве только с пестротой праздничных штандартов, в которые с утра запелената Генуя. Веселый переполох, во власть которого сегодня отдала себя Генуя, имеет свои резоны: древний город осчастливил своим присутствием итальянский монарх.
Приезд короля связан, разумеется, с конференцией. На это указывает протокольное действо: король устраивает завтрак для делегатов на борту яхты «Данте Алигьери». Правы, наверно, те, кто утверждает: в участи дипломатов есть нечто от существа бессловесного: светло у тебя на душе или сумеречно – улыбайся, друг мой! Наверно, нынешний день не самый подходящий для торжеств. Даже наоборот: он меньше всего соответствует этой цели, но в Геную приехал итальянский монарх. Так или иначе, вереница осанистых лимузинов устремляется к порту. И почетная стража, представляющая все роды королевской гвардии, встречает их у трапа. И маршал двора, одетый по этому случаю в парадную форму, приветствует их на борту яхты от имени короля. И гул голосов, едва ли не ликующий, сопровождает тебя, пока ты шествуешь на верхнюю палубу, где гостей представляют монарху. И, склонившись над бледной рукой монарха, ты можешь считать, что обременительные обязанности гостя его величества ты уже выполнил и в предвкушении трапезы можешь посвятить предстоящие полчаса беседе. К твоим услугам и Ллойд Джордж – его похудевшая за страдный генуэзский апрель спина обозначилась у окна.
Точно не было трудных вахт и бессонного санта–маргеритского бдения: черный фрак, безупречно сшитый лучшим наркоминдельским портным в самый канун отъезда в Геную, фрак, надетый едва ли не впервые, был очень хорош на Чичерине – оказывается, годы жестокого житья–бытья в лондонских флигелях и полудачах не отняли у Георгия Васильевича умения носить парадное платье.
А как итальянский суверен?
Будто две недели труднейшей генуэзской маеты принял на свои плечи он и только он – монарх смотрел устало. Его голос воспринял эту усталость, когда в его дрожащие ладони лег лист веленевой бумаги с текстом речи, и король произнес без видимой охоты:
– Дамы и господа…
Праздный писака, набивший руку на сочинении речей монарха, и в этот раз не дал себе труда вложить в уста суверена хотя бы единое живое слово, не дал себе труда, шельма! Все та же тягомотина насчет солидарности держав Согласия, повергших ниц агрессора, и готовности человечества в ближайшие сто лет петь хвалу доблестной Антанте. Короче, всемилостивейший монарх хотел дать понять всем, кто еще не понял, что именно эти слова, вызванные к жизни скучающим пером придворного писаки, жаждут услышать люди.
А Чичерин, занявший свое место за монаршим столом, внимательно и печально смотрел на британского делегата, сидящего напротив. «Что будем делать, почтенный делегат? – точно спрашивал он валлийца. – Как вам видится завтрашний день наших отношений и есть ли он у нас? И что сулит нам грядущее? Легче нам будет или труднее? Да неужто труднее, коли в нашем ранце рапалльский жезл?»
Чичерин просил меня быть вместе с Воровским в его поездке в порт Генуи, где заканчивалась погрузка итальянского судна, уходящего в Одессу, – наши друзья не теряли надежды, что груз семян, которые они закупили в Италии, еще поспеет к севу.
Мы прибыли на судно, когда погрузка была в са-
мом разгаре; по совету капитана мы обошли судно,
повидав едва ли не каждого моряка, успев сказать
ему и слово благодарности и слово напутствия – пе-
ред отплытием судна в Россию это было более чем
уместно. *
Когда мы сошли с судна, был уже поздний вечер, безветренный, теплый и в такой мере темный, что дорога к порту, где дожидалась нас машина, угадывалась по ударам прибрежной волны да едва приметным огням впереди. Но, странное дело, это как–то не беспокоило нас – беседа завладела нами.
Если быть откровенным, то я ждал этой минуты – мне казалось, что нет более подходящего собеседника, чтобы рассеять мои сомнения, чем Вацлав Вацла–вович. Не скажу, чтобы я осторожно подбирался к сути – с таким человеком, как мой собеседник, можно было говорить напрямик:
– Не предполагаете ли вы, что дипломатию сближает с искусством не только то, что ее сутью является душа человека, а братьями кровными – весь круг гуманитариев, не только это?
– А что еще? – спросил Воровский, остановившись: как мне казалось, первой же фразой я припечатал его к прибрежному песку, который мы сейчас преодолевали во тьме,
– А вот что, Вацлав Вацлавович: подобно художнику, композитору, может быть даже писателю, дипломат единствен и суверенен, все достоинства, как, впрочем, все недостатки в нем самом – именно его одного жизнь склоняет к единоборству со всеми злыми силами мира, и он принимает этот бой, одерживая или не одерживая победу, так?
– Пожалуй, так… – последовал ответ Воровского.
– Но тогда что есть Генуя и каково место в ней храброго одиночки? – спросил я.
Воровский стоял в двух шагах от меня, но был едва видим – когда мой спутник умолкал, казалось, и он смыкался с ночью и исчезал. Время от времени ветер менялся и точно отнимал дыхание моря – в такую минуту было желание крикнуть.
– Я все–таки считаю, что сила дипломатии в силе личности дипломата, именно личности, – произнес он, точно воспользовавшись наступившей тишиной. – Всех достоинств человека, образующих личность, и прежде всего воли, интеллекта… Должно быть убеждение, что человек этот возьмет верх, какие бы дьяволы ни шли на него войной! Если искать сравнения в природе, то надо говорить об орле, чья сила в обретенной высоте. Ну что ж, и это верно… А как Генуя, коллективный разум Генуи?
– Да, как коллективный ум и, пожалуй, коллективная воля Генуи? – повторил я вопрос Воровского.
– Да разве это опровергает сказанное? – Он сдвинулся с места, и вновь я услышал гудящее дыхание моря – оно было могуче–торжественным, это дыхание, и стойким. – Поверьте мне, Николай Андреевич, сила этого коллективного ума в достоинствах личностей, образующих коллектив. Вы помните этот красинский поход в логово зверя – я говорю о поездке к Люден–дорфу? Вот она, единственность человеческого поступка, и вот она, суверенность!.. Человек – крепость? Именно. И тем более, когда речь идет о дипломате.
Его сделали крепостью не только воля и интеллект, но и доверие. Без доверия не очень–то обретешь неуязвимость крепости!.. Говорить о нем в единственном числе даже как–то неудобно: он один в своем многотрудном плавании по океанам мирового ненастья, но за ним отчая земля. Когда речь идет о дипломатии, есть резон вспомнить: «Орлы летают и в одиночку!»
– А речь в Сан – Джорджо – это что?
– И это поиск высоты…
Мы уже далеко отошли от моря, огни впереди разгорелись, стала видимой фигура Воровского, чуть склоненная, осторожно опирающаяся на палку,
– Однако где объяснение того, что мы зовем силой личности?
– Для меня… где объяснение?
– Для вас, Вацлав Вацлавович.
Он продолжал идти; шум моря приумолк, и сделался слышным удар палки о песок – видно, недавно прошел дождь и, отвердев, у песка образовался своеобразный наст.
– Кто является верховодом у детей и подростков? У детей – этакий крепыш, безбоязненно идущий в драку: у кого крепкие кулаки, тот и главарь! Но у этого главаря век короткий. Подросли сверстники и сместили своего кашевара, поставив на его место не столько самого сильного, сколько самого умного, а если быть точным, то самого знающего. Вы заметили? – самого знающего… В этом смысл: человек рано способен осознать – неколебим только авторитет знаний. И это куда как хорошо. Ну, разумеется, нет знаний для знаний! Знания как первооснова опыта, как пер–воядро труда, полезного человеку, но все качества от того всесильного корня, который зовется образованностью. Если говорить о существе личности, существе, способном дать удовлетворение, то надо признать: только знания могут дать такое удовлетворение, только в постижении знаний нет предела. Вы задумывались над таким фактом: что сделало для нашей делегации погоду в Генуе, сшибло спесь врагов, заставило с нами говорить как с равными, определило отношение всего круга людей, приобщенных к конференции? То, что я вам сейчас скажу, родилось не сразу – я возвращался к этой мысли вновь и вновь, вот мое мнение: ео многом речь Чичерина в Сан – Джорджо.
Поверьте мне: не было бы чичеринского дебюта в Сан – Джорджо, нам было бы многократно труднее…
– Высота… орлиная высота, Вацлав Вацлавович?
– Высота.
Разговор за утренним чтением прессы: Красин, Воровский.
Воровский. Я только что прочел новую телеграмму Ильича…
Красин. Он находит объяснение Чичерина резонным?
Воровский. Да, получается так: прав Ян, как, впрочем, не лишены известного резона и доводы Чичерина… На чьей стороне Ильич?
Красин. Ну как тебе объяснить? У Ильича тут задача… педагогическая! Именно педагогическая!.. Ильич, разумеется, понимает: то, что мы зовем новой позицией Чичерина и выражено в его апрельском письме Ллойд Джорджу, ошибочно. Тут прав Рудзутак и не прав Чичерин. На чьей стороне Ленин? Думаю, на стороне Рудзутака, и он это высказал недвусмысленно. Но Чичерин объяснил свою позицию достаточно убедительно, и Ильич не стал ему возражать. Почему не стал? Вникни, это интересно… Он понимает, что Чичерин уже все понял и нет смысла колотить его в загривок. Нет смысла не только потому, что речь идет о человеке, которому мы в немалой степени обязаны рапалльской победой, не только поэтому, – Чичерин все еще на вахте… Надо понять: на вахте! А колотить часового все одно что колотить себя… К тому же, это – Чичерин… Все, что надо, Ильич уже сказал – сказать больше и сильнее значит не принести пользы…
Воровский. Как всегда у Ильича, очень точно понята психология момента…
Красин. Главное в этом понимании момента: если ты человеку веришь, не повергать его.
Воровский. Именно, Леонид, – не повергать значит сберечь. Это очень много – сберечь.
Мне показалось значительным то, что я только что услышал, в частности вот это Вацлавово: «Не повергать значит сберечь». Вот как это здорово: слова прикреплены к человеку. Ничто так точно не способно опознать человека, как произнесенное им слово. Однако что лежит в смысле сказанного Воровским? Нет, не только коренное, идущее от далеких первоистоков, от его польских предтеч, от его дома с гобеленами, небогатым фамильным серебром, крохотным Евангелием и таким же песенником–малюткой, по которому, как утверждали, в семье Воровских пели кандальные поляки на этапах… Не только это, а все то, что возникло в нашем веке, когда символом и русской и польской свободы стал этот молодой волжанин, собравший со всей русской земли себе подобных… «Друг Ленина», – услышал однажды Воровский горячий полушепот и, обернувшись, увидел устремленные на себя глаза молодого рабочего, в них, в этих глазах, был восторг молодости, но в них было и сознание силы. «Друг Ленина! – повторил Воровский самозабвенно, чувствуя, |сак волнение зажало грудь. – Так вот как нарекла тебя молва… Вот как!»
К тому, что скажет время, трудно что–либо приба^ вить, оно открывает глаза. Нет, тайна упряталась не за грядой лет, она схоронилась за ближним пригорком, до которого едва ли один год… Истинно обретешь способность провидеть и лишишься сознания… Когда же это стряслось? Если сейчас май двадцать второго, то через год будет май двадцать третьего? Сейчас 4 мая, а тогда 10‑е? Истинно до пригорка чуть больше года… Когда он явился в Лозанну, его никто не ждал. Даже больше: его не хотели видеть. Ему дали знать об этом недвусмысленно: на городском вокзале он был встречен лишь советскими коллегами. Они повезли его в гостиницу. Он осведомился: в какую? Ему сказали: «Сесиль». «Значит, «Сесиль»?» Будь гостиница побогаче, его неофициальное положение было бы, пожалуй, не столь заметно. Друзья пытались успокоить: «Пять комнат с окнами на озеро, очень чистые, ресторан…» Да, ресторан был упомянут, хотя здесь нет гостиницы, в которой бы не было ресторана. Воровскому отдали самую просторную комнату: два больших окна на озеро. Оно здесь велико, с неоглядным зеркалом воды, именно зеркалом, в которое смотрятся черные камни. Окна так широки, что озеро точно входит в комнату, а его цвет фиолетовый не могут не воспринять стены комнаты. Но окна давали простор не только свету. Однажды в раскрытое окно влетел камень, брошенный сильной рукой. Ударившись об пол, он завертелся, точно высвобождаясь от шпагатины, которой был стянут. Но шпагат перепоясал не только камень, но и бумагу, клочок бумаги. Можно было бы подумать, что послание является дружественным, если бы не размеры камня да, пожалуй, его вид свирепый – угоди такой камень в голову, раскроит… Воровский взял камень на ладонь, осторожно перенес его на письменный стол, а вместе с ним и квадратик бумаги. Да, все именно так, как предполагал Вацлав Вац–лавович, – текст послания соответствовал свирепому виду камня: «Убирайтесь вон, пока целы!» Нет, это не перевод – написано по–русски. Ребристый камень с запиской, написанной по–русски, отыскал в Лозанне окно Воровского. Это наводило на печальные раздумья: те, кому враждебен Воровский, знают о нем достаточно. Но Воровский не покидал Лозанну. Даже наоборот, как ни скромны здесь были его возможности, он был, как всегда, деятелен. Он принял Исмета–пашу. Позже Чичерин скажет об этой встрече: это было нам очень полезно. Он разговаривал с корреспондентом «Кёльнише цайтунг». «Не отступлю от дит ректив, полученных из Москвы, и останусь в Лозанне до конца конференции», – сказал он корреспонденту кёльнской газеты. Корреспондент еще будет иметь воз* можность написать: «Воровский отдавал себе отчет в той опасности, которая ему угрожала, и был готов ко всему. Он лучше, чем другие, способен защитить в Лозанне русские интересы, друг Ленина…» И еще раз было помянуто давнее, идущее вместе с Воровским шаг в шаг: «Друг Ленина». Кстати, теперь это произнес человек, чья враждебная суть была известна. Имя его – полковник Полунин; в событиях, которые приближались, роль полковника была едва ли не главной.
По давней тюремной привычке Вацлав Вацлавович брал карандаш и обратным его концом ударял в стену. Получалось похоже на такой звук: та–та! та–та–та! Иначе говоря: ужи–нать по–ра, по–paf Удар в одну стену и удар в другую – соседи в сборе. Внизу ждал их ужин. В этот раз зал ресторана показался им необычно безлюдным. Столы были сервированы, но в синеватых сумерках (видно, сюда уже не доставал блеск воды и сумерки были синими) крахмальная белизна скатертей казалась не столь ослепительной. Как обычно, они расположились за столиком, который был придвинут, торцом к окну. Воровский любил это место: оно показывало озеро в неожиданном ракурсе – вода точно становилась на дыбы. Казалось, еще минута – и вода начнет рушиться, но она не рушилась. Здесь было ощущение и тревоги и радости, при этом каждый раз, когда ты смотрел на озеро, это ощущение как бы возобновлялось, все казалось, что смотришь на озеро впервые.
Они были так увлечены видом на озеро, что не успели внимательно оглядеть зал, а оглядев его, заметили, что далеко в стороне за маленьким столиком, такими обычно окружена стойка, сидит человек над рюмкой коньяка. Он точно специально расположился вблизи стойки, чтобы иметь возможность заказывать новую и новую рюмку коньяка. У человека было землистое, а в свете быстро сгущающихся сумерек почти черное, лицо и длинные ноги, которые ему никак не удавалось упрятать под маленьким столиком. В зале стало едва ли не полутемно, а кельнеры, увлеченные беседой, забыли включить свет. Наверно, это не обошел своим вниманием человек, сидящий над коньячной рюмкой. Он встал и, идя вдоль стены, неожиданно появился за спиной Воровского. Он это сделал с той точностью и сноровкой, которые выдавали в нем человека военного. Раздался выстрел, человек целился в затылок. Потом он выстрелил еще и еще – человека устраивала только смерть…
Он отдал себя в руки полиции, там была установлена его связь и с полковником Полуниным, тем, что сказал о Воровском: «Друг Ленина»…
Но до Лозанны еще был год, долгий год, а сейчас всего лишь была Генуя, ее страдный апофеоз, и Воровский готов был повторять бесконечно: «Не повергать значит сберечь…
Приехал Рерберг с приглашением посетить его имение в Специи. Мария сказала:
– Он приглашает и тебя – поедешь? Кстати, там будет и Рербергова Ксана – ты ведь был к ней привязан.
О Федоре Ивановиче, который переправил Ксану в Специю, она умолчала – быть может, была не очень уверена, что он тоже будет.
Мне показалось, что Маше хотелось, чтобы я был с нею, и я поехал.
Рерберг привел в действие свой старый «форд», # мы отправились. «Форд» шел вполне исправно, но Рерберг был встревожен – его юмор был каким–то нервным. Он обратился к ассоциациям, которые были наивны:







